Арнольд
Джозеф Тойнби
Исследование
истории. Том II: Цивилизации во времени и пространстве
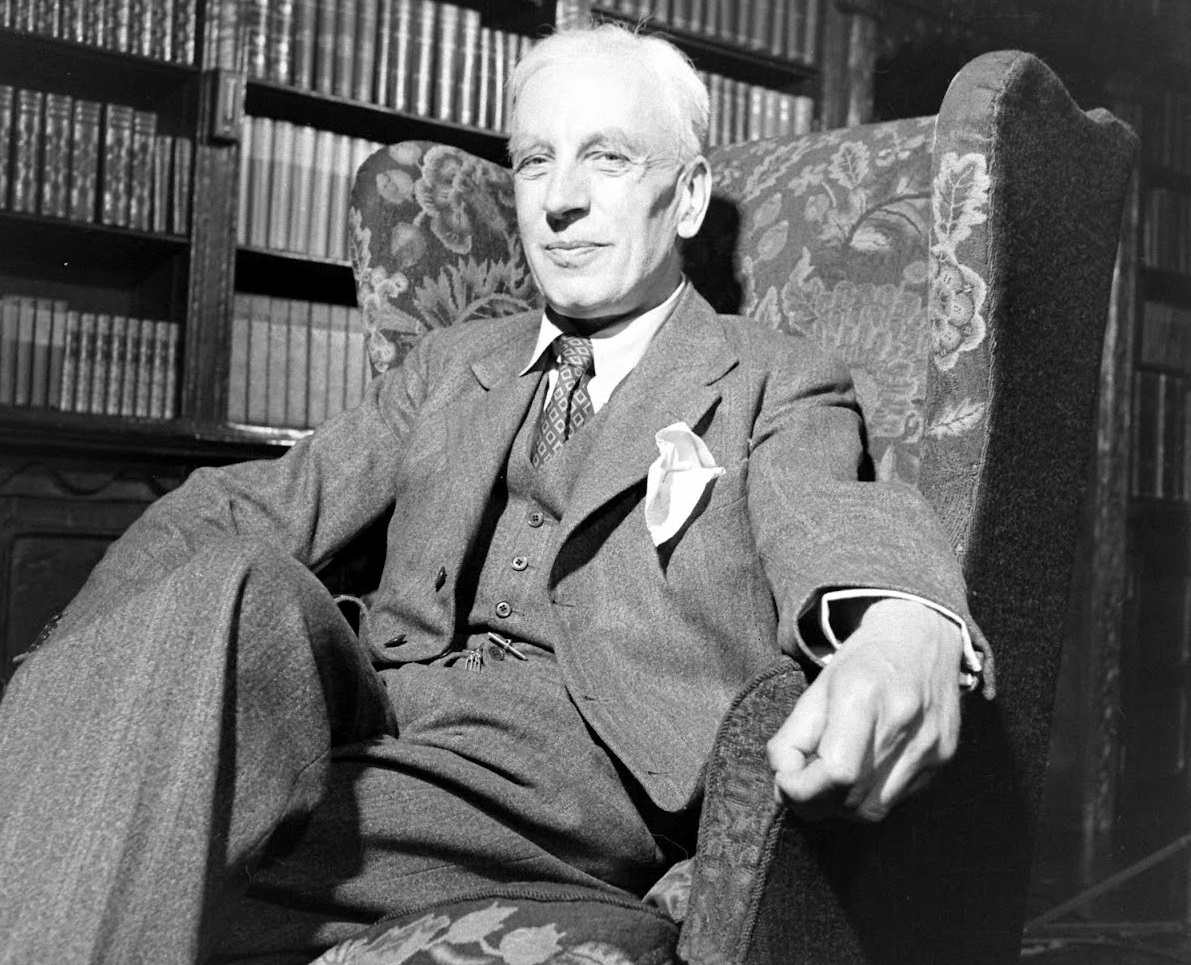
V.
Распады
цивилизаций
XVII.
Природа распада
1. Общий обзор
Переходя от проблемы надломов цивилизаций к проблеме их
распадов, мы сталкиваемся с вопросом, подобным тому, с которым уже
сталкивались, когда переходили от проблемы возникновения цивилизаций к проблеме
их роста. Является ли проблема распада новой, имеющей самостоятельное значение
проблемой, или же можно считать доказанным, что она лишь естественное и
неизбежное следствие надлома? Рассматривая предшествующий вопрос, является ли
проблема роста новой, отличной от проблемы возникновения, мы пришли к
утвердительному ответу на этот вопрос, открыв, что фактически было множество
«задержанных» цивилизаций, которые справились с проблемой возникновения, однако
не смогли решить проблему роста. Теперь, на этой дальнейшей стадии нашего
«Исследования», мы снова можем дать на аналогичный вопрос столь же утвердительный
ответ, указав на тот факт, что некоторые цивилизации после надлома претерпевают
подобную же задержку и вступают в долгий период окаменения.
Классический пример окаменевшей цивилизации представлен той
фазой в истории египетского общества, которую мы уже имели случай рассматривать
ранее. Египетское общество надломилось под невыносимой ношей, возложенной на
него строителями пирамид, и впоследствии, миновав первые две, вошло в последнюю
из трех фаз распада – «смутное время», универсальное государство и междуцарствие.
В тот самый момент, когда оно уже завершало свой жизненный путь, это явно
умиравшее общество неожиданно и резко отклонилось от того, что мы можем
временно рассматривать в качестве стандартной модели (если будем принимать за
норму пример эллинского общества, в котором три эти фазы впервые привлекли наше
внимание). В этот момент египетское общество отказалось умирать и вдвое
увеличило свой срок жизни. Когда мы берем жизненный срок египетского общества с
момента его неожиданной реакции на вторжение гиксосов в первой четверти XVI
столетия до Христа вплоть до исчезновения последних следов египетской культуры
в V в. христианской эры, мы обнаруживаем, что этот временной отрезок в два
тысячелетия равен по своей продолжительности периодам рождения, роста, надлома
и почти полного распада египетского общества, если отсчитывать назад от той
даты, когда оно вновь пылко о себе заявило в XVI столетии до Христа, вплоть до
того момента, когда оно впервые возвысилось над примитивным уровнем в некий
неизвестный период в IV тысячелетии до н. э. Однако жизнь египетского общества
в течение второй половины ее существования была родом «жизни в смерти». В
течение этих двух добавочных тысячелетий цивилизация, предшествующая
деятельность которой была полна движения и смысла, стала инертной и
превратилась в «задержанную». Фактически она сохранилась благодаря окаменению.
Это не единственный пример. Если мы обратимся к истории
основного ствола дальневосточного общества в Китае, где за момент надлома можно
принять распад империи Тан в последней четверти IX столетия христианской эры,
то увидим, что соответствующий процесс распада проходит своим обычным ходом
через «смутное время» к универсальному государству лишь за тем, чтобы быть
остановленным на этой стадии реакцией столь же резкой и необузданной, что и
египетская реакция на вторжение гиксосов. Южно‑китайское восстание под
руководством основателя династии Мин Хунву[1] против дальневосточного универсального
государства, установленного монгольскими варварами, сильно напоминает фиванское
восстание под руководством основателя XVIII династии Яхмоса[2] против «государства‑преемника», которое было
создано гиксосскими варварами на части заброшенных владений исчезнувшего
египетского универсального государства (так называемого Среднего царства). Соответствующее
сходство находим также и в последующих событиях. Дальневосточное общество
продолжало существовать в окаменевшей форме, вместо того чтобы стремительно
перейти через стадию распада к исчезновению при помощи универсального
государства, заканчивающегося междуцарствием.
Мы можем добавить к двум этим примерам различные окаменевшие
фрагменты иных угасших цивилизаций, которые уже нам известны: джайнов в Индии,
хинаянских буддистов на Цейлоне, в Бирме, Сиаме и Камбодже, махаянских
буддистов‑ламаистов Тибета и Монголии (все они – окаменевшие фрагменты индской
цивилизации). А также евреев, парсов, несториан и монофизитов – окаменевшие
фрагменты сирийской цивилизации.
Если мы не имеем возможности продолжать наш список далее,
то, по крайней мере, можем заметить, что, по мнению Маколея, эллинская
цивилизация очень близко подошла к подобному же опыту в III‑IV вв. христианской
эры.
«Дух двух наиболее известных наций античности был в высшей
степени исключительным… Дело, по‑видимому, в том, что греки восхищались только
собой, а римляне – только собой и греками… Результатом этого явилась узость и
схожесть мысли. Их сознания, если можно так выразиться, “заключали
близкородственные браки” между собой, и, таким образом, на них легло проклятие
бесплодия и вырождения. Безбрежный деспотизм цезарей, постепенно стирая все
национальные особенности и приравнивая одну к другой наиболее удаленные
провинции Империи, приумножал зло. К концу III столетия после Рождества
Христова перспективы человечества были весьма мрачными… Это великое общество
оказалось тогда перед опасностью катастрофы более ужасной, нежели любое из тех
быстрых, воспалительных смертельных заболеваний, которым бывают подвержены
нации. [Оно оказалось перед опасностью] разрушающейся, маразматической,
паралитической долговечности, бессмертия струльдбругов[3], китайской
цивилизации. Было бы несложно указать на множество черт сходства между
подданными Диоклетиана и народом Поднебесной, где на протяжении многих веков
ничему не научились и ничему не разучились. Где форма правления, образование,
весь образ жизни были церемонией. Где знание забыло о росте и увеличении и,
подобно таланту, зарытому в землю, или фунту, завернутому в салфетку, не
испытывало ни траты, ни приумножения. Оцепенение прервали две великие революции
– одна духовная, а другая – политическая, одна проистекавшая изнутри, а другая
– извне»{1}.
Это милосердное освобождение, которым, по мнению Маколея,
эллинское общество века Империи было обязано Церкви и варварам, закончилось
относительно счастливо, что, однако, не может считаться доказанным. Пока жизнь
продолжается, всегда существует возможность, что она не будет обрезана
спасительными и беспощадными ножницами Клото[4], но может
утратить свою гибкость, незаметно окаменев в паралитическом состоянии «жизни‑в‑смерти».
А мысль о возможности подобной судьбы для западного общества постоянно
преследует, по меньшей мере, одного из выдающихся историков нынешнего времени
[О. Шпенглера].
«Я думаю, что опасность для нас представляет не анархия, но
деспотизм, потеря духовной свободы, тоталитарное государство, возможно,
всемирное тоталитарное государство. Как результат борьбы между нациями или
классами может наступить локальная и временная анархия, переходная фаза.
Анархия, по сути своей, слаба, и в анархическом мире любая хорошо
организованная группа с рациональной организацией и научным знанием может
распространить свое господство на остальных. И в качестве альтернативы анархии
мир может приветствовать деспотическое государство. Тогда мир может войти в
период духовного “окаменения”, ужасное состояние, которое для высшей
деятельности человеческого духа было бы смертью. “Окаменение” Римской империи и
Китая показалось бы менее жестким, поскольку [в нашем случае] правящая группа
обладала бы гораздо более обширными научными средствами осуществления власти.
(Знаете ли вы маколеевское эссе об истории? Он доказывает, что варварские
вторжения были, в конечном итоге, благом, потому что ослабили процесс
“окаменения”. “Чтобы избежать участи Китая, Европа заплатила тысячелетием
варварства”. Не будь никаких варварских народов – и будущего мирового
тоталитарного государства нельзя было бы избежать.)
Мне кажется вполне возможным, что хотя в подобном
тоталитарном государстве философия и поэзия зачахнут, научные исследования
будут продолжаться вестись, постоянно принося все новые открытия. Птолемеевское
царство не оказалось чуждым для греческой науки, и я думаю, что, вообще‑то
говоря, естественные науки могут процветать и при деспотизме. В интересах
правящей группы содействовать развитию того, что может способствовать
возрастанию средств осуществления власти. Именно это, а не анархия, является
для меня грядущим кошмаром, если мы не найдем способа прекратить нашу нынешнюю
братоубийственную борьбу. Однако еще существует христианская Церковь, фактор, с
которым необходимо считаться. Она может подвергнуться мученичеству в будущем
всемирном государстве. Но так же, как она заставила римское всемирное
государство, в конце концов, хотя бы формально подчиниться Христу, Церковь
вновь может, претерпев мученичество, завоевать научное рационалистическое
всемирное государство будущего»[5].
Эти размышления показывают, что распады цивилизаций
представляют собой проблему, которая нуждается в нашем дальнейшем исследовании.
Исследуя рост цивилизаций, мы обнаружили, что его можно
разложить на ряд последовательных представлений драмы «вы‑зова‑и‑ответа».
Причина, по которой одно представление следует за другим, заключается в том,
что каждый из ответов не только успешно справлялся с тем или иным частным
вызовом, но что он также способствовал появлению нового вызова, возникавшего
каждый раз из новой ситуации, к которой приводил успешный ответ. Таким образом,
сущностью роста цивилизаций оказывается elan (порыв), который приводит
сторону, подвергающуюся вызову, через равновесие успешного ответа к перевесу,
который проявляется в возникновении нового вызова. Подобным же образом эту
повторяемость, или возвратность, вызовов предполагает и процесс распада, но в
данном случае ответы не имеют успеха. В результате, вместо ряда вызовов,
отличных по своему характеру от предшествующих, на которые уже были даны
успешные ответы и они стали достоянием истории, мы имеем один и тот же вызов,
возникающий вновь и вновь. Например, в истории международной политики
эллинского мира с того времени, когда солоновская экономическая революция
впервые поставила перед эллинским обществом задачу установления мирового
политического порядка, мы можем увидеть, как неудачная афинская попытка решить
эту проблему при помощи Делосского союза привела к попытке Филиппа Македонского
решить проблему при помощи Коринфского союза. Неудача же Филиппа – к попытке
Августа решить эту проблему при помощи Pax Romana, поддерживаемого принципатом.
Это повторение одного и того же вызова является самой сутью данной ситуации.
Когда исходом каждого из следующих друг за другом столкновений является не
победа, но поражение, вызов, не получивший ответа, никогда не устраняется и
обязательно возникает вновь и вновь до тех пор, пока на него не будет дан какой‑либо
запоздалый и неполный ответ. В противном случае он приведет к уничтожению
общества, которое показало себя совершенно неспособным ответить на него
эффективно.
Можно ли, в таком случае, сказать, что альтернативой
окаменению является полное и абсолютное угасание? Прежде чем ответить
утвердительно, мы можем вспомнить процесс «усыновления и аффилиации», который
уже рассматривали ранее в нашем «Исследовании». Солоновское «Respice finem»[6] и взвешенность в суждениях были бы для нас
самым мудрым образом действия.
Наше исследование процесса роста цивилизаций мы начали с
поиска критерия роста еще до того, как попытались проанализировать сам процесс.
Мы последуем тому же самому плану и в нашем исследовании процесса распада.
Однако один шаг в нашей аргументации мы можем не делать. Придя к решению, что
критерии роста нельзя найти в увеличении господства над человеческим или же
природным окружением, мы можем справедливо предположить, что потеря подобного
господства – не является одной из причин распада. В самом деле, имеющиеся
данные наводят на мысль о том, что увеличение господства над окружением скорее
сопутствует распаду, а не росту. Милитаризм – общая черта надлома и распада –
часто бывает эффективным в увеличении господства общества и над другими живыми
обществами, и над неодушевленными силами природы. По отношению к нисходящему
пути надломленной цивилизации истинными оказались бы слова ионийского философа
Гераклита: «Война – отец всех вещей». А поскольку вульгарные оценки
человеческого процветания производятся в понятиях власти и богатства, то часто
случается так, что первые главы трагического упадка общества всенародно
провозглашают кульминационными главами великолепного роста. Однако рано или
поздно за этим следует неизбежное разочарование. Общество, которое безнадежно
разделилось внутри себя, почти наверняка положит на войну [против самого себя]
огромную часть тех дополнительных ресурсов, человеческих и материальных,
которые война же и принесла нечаянно ему в руки. Например, мы видим, как
денежные и людские ресурсы, захваченные во время завоеваний Александра, были
влиты в гражданские войны наследников Александра, а ресурсы, приобретенные
римскими завоевателями II в. до н. э., – в гражданские войны последнего
столетия до нашей эры.
Наш критерий процесса распада следует искать в другом месте.
Ключ нам дан в зрелище того разделения и разлада в душе общества, которые так
часто могут вести к увеличению господства общества над его окружением. Это
единственное, на что мы можем рассчитывать. Мы уже обнаружили, что конечным
критерием и основополагающей причиной надломов, предшествующих распадам,
является начало внутренних разногласий, в которых общества утрачивают свою
способность к самоопределению.
Социальные расколы, в которых этот разлад частично себя
проявляет, раздирают надломленное общество одновременно по двум различным
направлениям. Существуют «вертикальные» расколы между территориально
разделенными общинами и «горизонтальные» расколы внутри территориально
смешанных, но социально разделенных классов.
Что касается «вертикального» типа раскола, то мы уже видели,
как часто необдуманная снисходительность к преступлению междоусобной войны
становится главной магистралью самоубийственной деятельности. Однако этот
«вертикальный» раскол – не самое характерное проявление разлада, ведущего к
надломам цивилизаций. Ведь разделение общества на местные общины – это черта,
которая, как‑никак, является общей для всего рода человеческих обществ –
цивилизованных и нецивилизованных, а междоусобная война – это просто
злоупотребление потенциальным инструментом саморазрушения, доступным любому
обществу в любое время. С другой стороны, «горизонтальный» раскол общества по
линии классов – характерен не только для цивилизаций. Это явление возникает
также в момент надлома и распада цивилизаций, по контрасту с его отсутствием на
фазах возникновения и роста.
Мы уже встречались с подобным «горизонтальным» типом
раскола. Мы сталкивались с ним, когда изучали, следуя во времени в обратном
направлении, распространение западного общества. Мы пришли к христианской
Церкви и множеству варварских вооруженных отрядов, вступивших в противоречие с
Церковью в Западной Европе на северных границах Римской империи. Мы видели, что
каждый из этих двух институтов – вооруженные отряды и Церковь – были созданы
социальной группой, которая сама не была выражением западной социальной системы
и которую можно описать лишь с точки зрения другого общества, предшествовавшего
нашему, а именно с точки зрения эллинской цивилизации. Мы описали создателей
христианской Церкви как внутренний пролетариат, а создателей варварских
вооруженных отрядов – как внешний пролетариат этого эллинского общества.
Продолжив наше исследование дальше, мы обнаружили, что оба
этих пролетариата возникли в результате раскола эллинского общества в период
«смутного времени», когда само эллинское общество уже явно было неспособным на
творчество, находилось в упадке. Еще далее продолжив наше исследование, мы
обнаружили, что эти расколы были вызваны предшествующим изменением характера
правящего элемента в эллинской социальной системе. «Творческое меньшинство»,
которое некогда вызвало чувство добровольной преданности у нетворческой массы
благодаря дару очарования, свойственному творчеству, теперь уступило место
«меньшинству правящему», лишенному очарования, поскольку оно было нетворческим.
Это правящее меньшинство удерживало свое привилегированное положение при помощи
силы, и расколы, которые в конечном итоге привели к созданию вооруженных
отрядов и христианской Церкви, явились реакцией на эту тиранию. Однако это
крушение намерений правящего меньшинства – вызванное расколом общества, которое
оно пыталось превратными методами удержать от распада, – не является
единственным его достижением, достойным нашего внимания. Оно также поставило
себе памятник в виде Римской империи. Империя не только воплотилась раньше
Церкви и вооруженных отрядов. Ее могущественное присутствие в мире, где
созревали эти институты пролетариата, явилось фактором роста для них обоих,
чего нельзя не принимать во внимание. Это универсальное государство, в котором
эллинское правящее меньшинство себя заключило, было подобно панцирю гигантской
черепахи. Пока Церковь росла в ее тени, варвары тренировали свои вооруженные
отряды, заостряя свои когти о внешнюю сторону черепашьего панциря.
В конце концов, на дальнейшей стадии нашего «Исследования»
мы попытались достичь более ясного взгляда на причинно‑следственную связь между
потерей ведущим меньшинством творческой способности и потерей способности
привлекать большинство при помощи очарования, а не силы. Здесь мы наткнулись на
используемое творческим меньшинством средство социальной муштры – как
кратчайшего расстояния для того, чтобы поставить в строй нетворческую массу. В
этом средстве мы уже нашли слабое место в отношении между меньшинством и
большинством в период роста. По этим данным, отчуждение между меньшинством и
большинством, выливающееся, в конце концов, в отделение пролетариата, является следствием
разрыва связи, которая даже на стадии роста поддерживалась только благодаря
действию хорошо выдрессированной способности мимесиса. Неудивительно, что
мимесиса недостает, когда иссякает творческая способность лидеров, если принять
во внимание, что даже на стадии роста эта связь с мимесисом всегда была
ненадежна по причине вероломной двойственности – возможности реванша
нерасположенного к послушанию раба, что является неотъемлемой частью любого
механического устройства.
Вот те нити исследования «горизонтального» типа раскола,
которые мы уже держим в руках. Возможно, наиболее многообещающим путем
продолжения нашего дальнейшего исследования будет собрать все нити воедино, а
затем сплести из них нашу точку зрения.
Нашим первым шагом будет произвести более тщательный и
всесторонний обзор трех групп – правящего меньшинства, внутреннего и внешнего
пролетариата, в наличии которых мы убедились из эллинского примера, равно как и
из других примеров, которые лишь вскользь затрагивали ранее в данном «Исследовании».
Из этих примеров явствует, что надломленное общество раскалывается тогда, когда
его ткань разрывается «горизонтальным» расколом. После этого мы обратимся, как
уже делали в нашем исследовании роста, от макрокосма к микрокосму и там откроем
дополнительный аспект распада в увеличении рассеянности души. Обе эти линии
поиска приведут нас к парадоксальному, на первый взгляд, открытию, что процесс
распада дает результат, логически несовместимый, по крайней мере частично, с
его природой. Происходит, так сказать, «новое рождение», или «палингенез».[7]
Когда мы завершим наш анализ, то обнаружим, что качественное
изменение, которое принес с собой распад, по своему характеру прямо
противоположно тому, что было результатом роста. Мы видели, что в процессе
роста несколько растущих цивилизаций стала сильно увеличиваться их
дифференциация. Здесь мы увидим, что, наоборот, качественным следствием распада
будет стандартизация.
Эта тенденция к стандартизации станет еще заметнее, когда мы
рассмотрим ту степень разнообразия, которую она должна преодолеть. Надломленные
цивилизации, входящие в стадию распада, несут с собой весьма различные
склонности – склонность к искусству, увлечение механизмами или еще какие‑либо
возможные склонности, которые они приобрели на стадии роста. Их дифференциация
усиливалась еще более также в связи с тем, что надломы застигали их на
различных стадиях истории. Сирийская цивилизация, например, вошла в стадию
надлома после смерти Соломона около 937 г. до н. э. Эта дата, вероятно, менее
чем на два столетия удалена от времени первоначального возникновения данной
цивилизации из постминойского междуцарствия. С другой стороны, сестринская
эллинская цивилизация, появившаяся в одно с ней время из того же самого
междуцарствия, не испытывала надлома в течение пяти следующих столетий, вплоть
до Афино‑Пелопоннесской войны. Православно‑христианская цивилизация пережила
надлом при начале Византийско‑болгарской войны в 977 г., тогда как сестринская
ей цивилизация, то есть западная, проходила стадию несомненного роста еще несколько
столетий, и, судя по всему, даже до сих пор надлом ее еще не наступил. Если до
такой степени разнится период роста сестринских цивилизаций, то очевидно, что
рост цивилизаций не предопределен каким‑либо одинаковым сроком
продолжительности. Действительно, нам не удалось найти какое‑либо априорное
обоснование того, почему цивилизация, однажды войдя в стадию роста, не
продолжает расти неограниченно. Эти соображения показывают, что различия между
растущими цивилизациями – огромны и глубоки. Тем не менее, мы обнаружим, что
процесс распада стремится соответствовать во всех случаях стандартной модели –
горизонтальному расколу, разделяющему общество на три уже упомянутые выше
группы, и созданию каждой из этих групп характерных институтов: универсального
государства, вселенской церкви и варварских вооруженных отрядов.
Мы должны будем обратить внимание на эти институты, равно
как и на их создателей, если мы хотим, чтобы наше исследование распадов
цивилизаций было всесторонним. Однако мы обнаружим, что было бы удобнее,
насколько это окажется возможным, исследовать эти институты ради них самих в
отдельных частях нашей книги. Ведь три эти института – нечто большее, чем
продукты процесса распада. Они могут также сыграть роль в отношениях между
одной цивилизацией и другой. Когда же мы рассматриваем вселенские церкви, то
оказываемся вынужденными поставить вопрос: а возможно ли, на самом деле,
постичь церкви в их полноте в рамках истории цивилизаций, где они выступают в
качестве исторических явлений? Или же мы должны рассматривать их в качестве
представителей иного вида обществ, по меньшей мере, настолько же отличных от
вида «цивилизаций», насколько последние отличны от примитивных обществ?
Этот вопрос может оказаться одним из наиболее важных
вопросов, к которым нас подводит исследование истории. Однако он находится в
самом дальнем конце нашего исследования, которое мы здесь описали в общих
чертах.
2. Раскол и палингенез
Немецкий еврей Карл Маркс (1818‑1883) изобразил в красках,
заимствованных из апокалиптических видений отвергаемой им религиозной традиции,
ужасающую картину отделения пролетариата и вытекающей отсюда классовой борьбы.
То огромное впечатление, которое марксистский материалистический апокалипсис
оказал на многие миллионы умов, частично вызвано политической воинственностью
марксистской схемы. Ведь несмотря на то, что эта схема – ядро общей философии
истории, она является также и призывом к вооруженной борьбе. Являются ли создание
марксистской формулы классовой борьбы и ее популярность признаками того, что
западное общество уже направило свои стопы по пути распада – вопрос, которым мы
займемся далее в нашем «Исследовании», когда подойдем к рассмотрению перспектив
западной цивилизации. В данном случае мы упомянули Маркса по другим
соображениям. Во‑первых, потому что он классический истолкователь классовой
борьбы в нашем мире в нашу эпоху. Во‑вторых, потому что его формула
соответствует традиционной зороастрийской, иудейской и христианской
апокалиптическим моделям, открывая по ту сторону ожесточенной кульминации
видение счастливого финала.
Согласно интуиции коммунистического пророка о действиях его
личного духа – исторического материализма, или детерминизма, – классовая борьба
непременно выльется в победоносную пролетарскую революцию. Однако эта кровавая
кульминация борьбы будет также и ее завершением. Победа пролетариата будет
решающей и окончательной, а «диктатура пролетариата», при помощи которой
необходимо будет собрать плоды победы в послереволюционный период, не будет
постоянным институтом. Должно придти время, когда новое общество, которое с
самого начала будет бесклассовым, станет достаточно опытным и достаточно
сильным, чтобы обойтись без диктатуры. Действительно, в своей окончательной и
неизменной высшей точке процветания новое общество марксистского «золотого
века» будет способно отвергнуть не только диктатуру пролетариата, но также и
все остальные институциональные костыли, включая сам институт государства.
Марксистская эсхатология представляет интерес для нашего
настоящего исследования благодаря тому удивительному факту, что эта запоздалая
политическая тень исчезнувшей религиозной веры в точности прокладывает тот
действительный курс, которым классовая борьба, или горизонтальный раскол,
следует в надломленном обществе в качестве исторической данности. История
должным образом открывает нам в явлениях распадов движение, которое через войну
ведет к миру, через Ян – к Инь и через кажущееся бессмысленным и диким
разрушение предшествующих вещей – к новым созданиям творчества, обязанным своим
особым качеством поглощающему жару пламени, в котором они выковываются.
Раскол сам по себе является продуктом двух отрицательных
движений, каждое из которых вдохновляется дурной страстью. Во‑первых, правящее
меньшинство пытается удержать при помощи силы привилегированное положение,
которого уже не заслуживает. Тогда пролетариат на несправедливость отвечает
негодованием, на страх – ненавистью, на насилие – насилием. Однако все движение
заканчивается позитивным творческим актом: созданием универсального
государства, вселенской церкви и варварских вооруженных отрядов.
Таким образом, социальный раскол не является просто расколом
и ничем большим. Когда мы охватываем движение в целом, то обнаруживаем, что
должны описывать его как «раскол‑и‑палингенез». Учитывая же, что отделение,
очевидно, представляет собой частный случай ухода, мы можем классифицировать
двойное движение раскола‑и‑палингенеза в качестве одного из примеров того
явления, которое ранее уже исследовали в более общем виде под названием «уход‑и‑возврат».
В одном лишь отношении эта новая разновидность ухода‑и‑возврата,
как может показаться на первый взгляд, будет отличаться от ранее нами
исследованных примеров. Являются ли раскол‑и‑палингенез достижениями творческих
меньшинств или индивидов? Не есть ли отделяющийся пролетариат большинство,
противопоставленное правящему меньшинству? Однако, поразмыслив, мы приходим к
выводу (представляющему собой явно правдивую картину), что хотя отделение – это
дело рук большинства, творческий акт основания вселенской церкви является делом
рук меньшинства творческих индивидов или групп внутри пролетарского
большинства. Нетворческое большинство в таких случаях состоит из правящего
меньшинства и остальной части пролетариата. Мы обнаруживаем также (и об этом
следует помнить), что на стадии роста творческие достижения тех, кого мы
именуем творческим меньшинством, никогда не являются созданием всего
меньшинства en masse, но всегда созданием той или иной группы внутри него.
Различие между двумя этими случаями состоит в том, что в период роста
нетворческое большинство состоит из восприимчивого рядового состава, который
посредством мимесиса следует по стопам лидеров. В период же распада
нетворческое большинство частично состоит из восприимчивого рядового состава
(оставшейся части пролетариата), а частично – из правящего меньшинства,
которое, не считая ответов отдельных отклонившихся индивидов, чопорно и гордо
держится в стороне.
XVIII.
Раскол в социальной системе
1. Правящее меньшинство
Несмотря на тот факт, что определенная неподвижность и
единообразие этоса являются характерными чертами правящего меньшинства, внутри
него не может не быть некоего элемента разнообразия. Хотя правящее меньшинство
может производить чудеса стерилизации, обращая в свой бесплодный esprit de
corps[8] тех новобранцев, которых постоянно набирает в
свои многократно самоуничтожающиеся ряды, это не может воспрепятствовать
напряжению его творческих сил, которые обнаруживаются в создании не только
универсального государства, но также и философской школы. Соответственно, мы
обнаруживаем, что оно, вероятно, будет включать в себя и множество членов,
сильно отклоняющихся от тех характерных типов замкнутой корпорации, к которой они
принадлежат.
Этими характерными типами являются милитарист и более низкий
эксплуататор, идущий по его следам. Едва ли необходимо приводить примеры из
эллинской истории. Мы видим милитариста, в его лучшем проявлении, в Александре,
а эксплуататора, в его худшем проявлении, – в Верресе[9], чье дурное
управление Сицилией представлено в обширных речах, или памфлетах, Цицерона.
Однако Римское универсальное государство было обязано своей долгой жизнью тому,
что за его милитаристами и эксплуататорами следовали после Августова
урегулирования бесчисленные и по большей части безымянные солдаты и чиновники,
которые частично возмещали промахи своих хищных предшественников, давая многим
поколениям умирающего общества возможность насладиться тусклым сиянием «бабьего
лета».
Кроме того, римские чиновники не были ни первым, ни
единственным явлением эллинского правящего меньшинства в альтруистической роли.
В эпоху Северов[10], когда
правление императора‑стоика Марка Аврелия уже было свершившимся фактом римской
истории и когда школа юристов‑стоиков переводила стоический этос на язык
римского права, стало очевидным, что чудо превращения римской волчицы в
платоновского сторожевого пса явилось делом греческой философии. Если римский
администратор был альтруистическим носителем практической способности
эллинского правящего меньшинства, то греческий философ был не менее благородным
представителем его интеллектуальной способности. Золотая цепь творческих
греческих философов, оборвавшаяся на Плотине (около 203‑262) в поколении,
видевшем крушение римской государственной системы, началась с Сократа (ок. 470‑399
гг. до н. э.) в поколении, выросшем в период надлома эллинской цивилизации.
Исправить или, по меньшей мере, уменьшить трагические последствия этого надлома
являлось задачей и греческих философов, и римских администраторов. Усилия
философов по сравнению с усилиями администраторов привели к более ценному и
долговечному результату как раз потому, что они были не так тесно связаны с
жизненной тканью распадающегося общества. Пока римские администраторы строили
эллинское универсальное государство, философы создавали для потомства κτημα
είς άεί[11] в виде Академии и Перипатоса, Стой и Сада[12], кинической
свободы от широких путей и ограничений и неоплатонической неземной «Земли
сердечных желаний».
Если мы распространим наше исследование на историю других
надломленных цивилизаций, то обнаружим те же самые благородные черты
альтруизма, идущего по беспощадным и отвратительным следам милитаристов и
эксплуататоров. Например, конфуцианские книжники, управлявшие древнекитайским
универсальным государством при династии Хань (202 г. до н. э. – 221 г. н. э.),
достигли в своей службе такого высокого уровня и приобрели такой esprit de
corps (корпоративный дух), что оказались на одном нравственном уровне с
римскими чиновниками, которые были их современниками на другом конце света во
вторую половину периода их деятельности. Даже чиновники (chinovniks),
управлявшие православно‑христианским универсальным государством в России в
течение двух столетий, начиная с Петра Великого, и ставшие по причине своей
невежественности и продажности притчей во языцех как у себя на родине, так и на
Западе, не освобождались так позорно, как это часто предполагают, от выполнения
стоявшей перед ними громадной двойной задачи по поддержанию Московской империи
как действующего предприятия и одновременно по превращению его в новомодное
государство по западному образцу. В основной православно‑христианской цивилизации
рабы‑домочадцы оттоманского падишаха, которые стали такой же притчей во языцех
из‑за своего угнетения райи, возможно, тоже будут достойны упоминания в
качестве института, сослужившего, по крайней мере, одну‑единственную службу для
православного общества, навязав ему тот Pax Ottomanica, который давал
мучившему себя миру кратковременный перерыв между двумя изнуряющими веками
анархии. В дальневосточном обществе в Японии феодальные даймё[13] и их приверженцы самураи, терзавшие общество в
междоусобной борьбе в течение четырех столетий, предшествовавших установлению
сёгуната Токугава, искупили свое прошлое, оказав помощь в созидательной работе
Иэясу по превращению феодальной анархии в феодальный порядок. К началу
следующей главы японской истории они поднялись до высот самопожертвования почти
возвышенного, когда добровольно отказались от своих привилегий. Они были
убеждены, что эта жертва требуется от них для того, чтобы дать Японии
возможность удержаться в окружении вестернизированного мира, в стороне от
которого она более уже не могла держаться.
Это благородное настроение, которое открывается в японских
самураях, является добродетелью, приписываемой даже их врагами двум другим
правящим меньшинствам – инкам в андском универсальном государстве и персидским
вельможам, управлявшим сирийским универсальным государством в качестве
наместников ахеменидского «царя царей». Испанские конквистадоры подтверждают
добродетели инков. Греческий портрет персов, знаменитое Геродотово резюме о
воспитании персидского мальчика («с пяти до двадцати лет они учат их трем и
только трем вещам: скакать верхом, стрелять из лука и говорить правду»),
нисколько не дискредитируется тем парным портретом, который нам представляет
тех же самых персов в зрелом возрасте. Геродот рассказывает нам о том, как
свита Ксеркса во время морской бури выражала почтение своему царственному
господину, а затем прыгала за борт, чтобы облегчить корабль. Однако наиболее
впечатляющей греческой характеристикой персидских добродетелей является
характеристика Александра Великого, который продемонстрировал серьезными
делами, а не только легковесными словами, как высоко он думал о персах после
того, как он с ними познакомился. Едва он успел узнать этих персов по их реакции
на подавляющую катастрофу, как принял решение, которое не только задело его
македонцев, но и явилось наивернейшим способом оскорбить их чувства, который он
только мог предпринять, если бы это было его сознательной целью. Он решил
принять персов в качестве сотрудников в управлении той империей, которую
героизм его же собственных македонцев только что вырвал из их рук. Он проводил
эту политику в действие с характерной для него основательностью. Он взял в жены
дочь персидского вельможи. Он подкупал и запугивал своих македонских офицеров,
чтобы они следовали его примеру. Он набирал персидских новобранцев в свои
македонские полки. Народ, который смог вызвать к себе столь необыкновенную дань
уважения со стороны вождя их потомственных врагов (и это вслед за его, народа,
полным поражением), явно должен был быть наделен классическими добродетелями
«расы господ».
Мы справились с поставленной перед нами задачей и привели
значительное число фактов, доказывающих способность доминирующего меньшинства
производить замечательный правящий класс, и эти данные подтверждаются
множеством универсальных государств, созданных ими. Из двадцати цивилизаций,
вошедших в фазу надлома, не менее пятнадцати прошли эту фазу, прямо следуя к
распаду. Мы можем отождествить эллинское универсальное государство с Римской
империей, андское – с империей инков, древнекитайское – с империей династий
Цинь и Хань, минойское – с «талассократией Миноса», шумерское – с империей
Шумера и Аккада, вавилонское – с Нововавилонским царством Навуходоносора, майянское
– с «древней империей» майя, египетское – со «Средним царством» XI и XII
династий, сирийское – с империей Ахеменидов, индское – с империей Маурьев,
индусское – с империей Великих Моголов, православно‑русское – с Московским
государством, универсальное государство основного ствола православного
христианства – с Оттоманской империей, а универсальное государство
дальневосточного мира – с Монгольской империей в Китае и сёгунатом Токугава в
Японии.
При этом данная способность к политике была далеко не
единственным видом творческой способности, характерным для правящих меньшинств.
Мы уже видели, что эллинское правящее меньшинство произвело на свет не только
римскую административную систему, но также и греческую философию. Мы можем
найти, по крайней мере, еще три случая, когда философия была «изобретена»
правящим меньшинством.
В истории вавилонского общества, например, ужасный VIII в.
до н. э., явившийся свидетелем начала столетней войны между Вавилонией и
Ассирией, по‑видимому, также явился и свидетелем неожиданного величайшего
прогресса в астрономическом знании. В эту эпоху вавилонские ученые открыли, что
ритм циклического возвращения, который был известен еще в незапамятные времена
в чередованиях дня и ночи, в прибывании и убывании Луны и в солнечном годовом цикле,
можно различить также и в более широком масштабе в движении планет. Эти звезды,
которые традиционно именовались «скитальцами» в намеке на их неупорядоченный
ход, ныне оказались подчинены столь же строгой дисциплине, сколь Солнце, Луна и
«неподвижные» звезды небесного свода в космическом цикле magnus annus[14].
Это волнующее вавилонское открытие оказало почти такое же огромное воздействие,
какое оказали недавние открытия западной науки на современную концепцию
Вселенной.
Теперь стали предполагать, что этот никогда не нарушающийся
и никогда не меняющийся порядок, установленный для управления всеми известными
видами движения в звездном космосе, управляет всей Вселенной: материальной и
духовной, неодушевленной и одушевленной. Если с определенной точностью можно
установить дату затмения Солнца или прохождения через меридиан Венеры столетия
назад в прошлом или предсказать с одинаковой уверенностью, что эти же события
произойдут в некий определенный момент в равно удаленном будущем, то не разумно
ли будет предположить, что человеческие дела столь же жестко фиксированы и с
такой же точностью поддаются исчислению? А поскольку космическая дисциплина
предполагает, что все члены Вселенной, которые движутся в столь совершенном
унисоне, находятся «в согласии» – еп rapport – друг с другом, то не было
бы разумно предположить, что недавно открытая модель движения звезд является
ключом к загадке человеческих судеб, так что наблюдатель, обладающий этим
астрономическим ключом, может прогнозировать судьбы своего ближнего, однажды
узнав дату и время его рождения? Обоснованно или нет, но эти предположения
активно делались. Тем самым, сенсационное научное открытие породило ложную
философию детерминизма, которая овладевала воображением одного общества за
другим и не утратила еще полностью доверия к себе спустя приблизительно 2 700
лет.
Притягательность астрологии состоит в ее претензии
объединить теорию, объясняющую устройство всей machina mundi[15],
с практикой, которая дала бы возможность Тому, Дику и Гарри определить будущего
победителя скачек в Дерби[16] здесь и теперь. Благодаря этой двойной
привлекательности, вавилонская философия смогла пережить даже угасание самого
вавилонского общества в последнее столетие до нашей эры. Халдейский mathematicus[17] , навязавший эту философию обессиленному
эллинскому обществу, вплоть до сегодняшнего дня был представлен в фигурах
придворного астролога в Пекине и мунеджим‑баши в Стамбуле.
Мы остановились на этой вавилонской философии детерминизма
по той причине, что она имеет большую близость, нежели любая из эллинских
философских систем, к остающимся все еще до некоторой степени незрелым
философским спекуляциям нашего западного мира в нынешний картезианский век. С
другой стороны, существуют двойники почти всех эллинских школ мысли в философии
индского и древнекитайского миров. Правящее меньшинство распадающейся индской
цивилизации породило джайнизм последователей Махавиры, первоначальный буддизм
ранних последователей Сиддхартхи Гаутамы, модифицированный буддизм махаяны
(который отличается от своего признанного первоисточника, по меньшей мере,
столь же сильно, сколь неоплатонизм отличается от философии сократиков IV в. до
н. э.) и иные буддийские философские системы, являющиеся составной частью
интеллектуального аппарата постбуддийского индуизма. Правящее меньшинство
распадающегося древнекитайского общества породило морализованный ритуализм и
ритуализованый морализм Конфуция и парадоксальную мудрость Дао, приписываемую
легендарному гению Лаоцзы.
2. Внутренний пролетариат
Эллинский прототип
Когда мы переходим от правящего меньшинства к пролетариату,
более тщательное исследование фактов и здесь подтвердит наше первое впечатление
о том, что внутри каждой фракции распадающегося общества существует
разнообразие типов. Мы также обнаружим, что в пределах этого духовного
разнообразия внутренний и внешний пролетариата находятся на противоположных
полюсах. Хотя внешний пролетариат обладает гораздо более узким диапазоном, чем
правящее меньшинство, диапазон внутреннего пролетариата гораздо его шире. Давайте
сначала произведем разведку более широкого поля.
Если мы хотим проследить происхождение эллинского
внутреннего пролетариата с начала его эмбриональной стадии, то мы не сможем
сделать ничего лучше, чем процитировать отрывок из Фукидида, в котором историк
надлома эллинского общества описывает последующий социальный раскол в его самой
ранней фазе, как он проявился впервые на Керкире.
«До такой неистовой жестокости дошла эта междоусобная борьба
(stasis). Она произвела ужасное впечатление, особенно потому, что
подобное ожесточение проявилось впервые. Действительно, впоследствии весь
эллинский мир был потрясаем борьбой партий. В каждом городе вожди народной
партии призывали на помощь афинян, а главари олигархов – лакедемонян. В мирное
время у партийных вожаков, вероятно, не было бы ни повода к этому, ни
склонности. Теперь же, когда Афины и Лакедемон стали враждовать, обеим партиям
легко было приобрести союзников для подавления противников и укрепления своих сил,
и недовольные элементы в городе охотно призывали чужеземцев на помощь, стремясь
к политическим переменам. Вследствие внутренних раздоров на города обрушилось
множество тяжких бедствий, которые, конечно, возникали и прежде и всегда будут
в большей или меньшей степени возникать, пока человеческая природа останется
неизменной, различаясь лишь по своему характеру в зависимости от обстоятельств.
Действительно, во время мира и процветания как государство, так и частные лица
в своих поступках руководствуются лучшими мотивами, потому что не связаны
условиями, лишающими их свободы действий. Напротив, война, учитель насилия,
лишив людей привычного жизненного уклада, соответственным образом настраивает
помыслы и устремления большинства людей и в повседневной жизни. Этой
междоусобной борьбой были охвачены теперь все города Эллады. Города, по каким‑либо
причинам вовлеченные в нее позднее, узнав теперь о происшедших подобного рода
событиях в других городах, заходили все дальше и дальше в своих буйственных
замыслах и превосходили своих предшественников коварством в приемах борьбы и
жестокостью мщения»{2}.
Первым социальным последствием этого положения дел явился
все более и более увеличивавшийся поток бездомных изгнанников. В течение
периода роста в эллинской истории подобное состояние было необычным и
рассматривалось как ужасающая аномалия. Это зло не смогла преодолеть и
великодушная попытка Александра Македонского склонить правящие группировки
каждого из городов‑государств к тому, чтобы они позволили своим изгнанным противникам
мирно вернуться на родину. Пожар разгорался все сильнее и сильнее, и изгнанники
сумели найти для себя дело – они вербовались в качестве наемных солдат. Этот
избыток военной силы придавал новые силы войнам, которые порождали всё новых
изгнанников (и, следовательно, новых наемников).
Последствия прямого ущерба, нанесенного духом войны в Элладе
нравственности ее детей, дополнялись действием тех разрушительных экономических
сил, которые были высвобождены войной. Например, войны Александра и его преемников
в Юго‑Западной Азии обеспечили работой массу бездомных греков ценой уничтожения
другой массы. Наемникам платили, пуская в обращение золотые слитки, в течение
двух столетий накопленные в казне Ахеменидов. Это неожиданное увеличение
количества денег приводило к разорению крестьян и ремесленников. Цены взлетали,
а финансовая революция доводила до нищеты те элементы социальной системы,
которые до сих пор находились в относительной безопасности. Тот же самый эффект
пауперизации сто лет спустя породили экономические последствия войны с
Ганнибалом, когда крестьянство утратило связь с почвой Италии – сначала по
причине непосредственного разорения ганнибаловскими солдатами, а затем по
причине весьма длительного пребывания на римской военной службе. В таком бедственном
положении обнищавшим потомкам италийского крестьянства, снятым с земли против
их воли, не оставалось ничего другого, как сделать профессию из военной
деятельности, которая ложилась на плечи их предков в качестве corvée[18].
Не вызывает сомнения, что в этом безжалостном процессе
«искоренения» мы наблюдаем возникновение эллинского внутреннего пролетариата.
Однако фактом остается и то, что жертвами данного процесса, по крайней мере на
ранних его стадиях, становились и cidevant[19] аристократы. Ибо пролетарий – это скорее
состояние души, чем результат воздействия внешних обстоятельств. Когда мы
впервые использовали понятие «пролетариат», мы определили его в наших целях как
социальный элемент или группу, которая неким образом существует в данном
обществе, но не является его частью в любой данный момент истории этого
общества. Под это определение подпадают и изгнанные Клеархом спартиаты, и
другие военачальники греческих наемных войск Кира Младшего, прошлое которых нам
в общих чертах обрисовал Ксенофонт, равно как и слабейшие безработные
чернорабочие, записавшиеся в наемники под знамена Птолемея или Мария. Истинным
признаком пролетария является не бедность и не низкое происхождение, но
сознание (и вызываемое этим сознанием негодование) того, что они лишены своего
унаследованного места в обществе.
Таким образом, эллинский внутренний пролетариат
комплектовался прежде всего из числа свободных граждан и даже из аристократов
распадающейся эллинской политической системы. Эти первые рекруты были обделены
в первую очередь духовно, но, конечно же, их духовное обнищание часто
сопровождалось и материальной нищетой. Вскоре их ряды пополнились рекрутами из
других классов, которые с самого начала были как материальными, так и духовными
пролетариями. Ряды эллинского внутреннего пролетариата быстро росли за счет
македонских завоевательных войн, которые захватили в сети эллинского правящего
меньшинства сирийское, египетское и вавилонское общества, в то время как
позднейшие завоевания римлян захватили в свои сети половину варваров Европы и
Северной Африки.
Эти принудительные пополнения эллинского внутреннего
пролетариата первоначально, возможно, были в одном отношении более
благоприятны, чем пополнения за счет коренного греческого населения. Хотя в
моральном отношении они были лишены наследства, а в материальном – ограблены,
они еще не были физически оторваны от почвы. Однако по пятам завоевателей шел и
рабский труд. Последние два столетия до нашей эры явились свидетелями того, как
все жители средиземноморского побережья (и западные варвары, и утонченные
жители Востока) были обложены налогом по обеспечению требований ненасытного
италийского рынка рабов.
Мы видим теперь, что внутренний пролетариат распадающегося
эллинского общества состоял из трех различных элементов: лишенных наследства и
оторванных от почвы членов самого эллинского общества; частично обездоленных
членов чужих цивилизаций и примитивных обществ, завоеванных и эксплуатируемых,
однако же не оторванных от своих корней; и вдвойне обездоленных призывников из
тех подчиненных жителей, которые не только были оторваны от корней, но также
обращены в рабство и высланы, чтобы до смерти работать на отдаленных
плантациях. Страдания этих трех категорий жертв были различны, так же как
различно было их происхождение. Однако общим было то, что все они были лишены
наследства и превращены в эксплуатируемых изгоев.
Когда мы подходим к рассмотрению того, каким образом эти
жертвы несправедливости реагировали на свою судьбу, мы не должны удивляться,
обнаружив, что одной из реакций явилась вспышка жестокости, превзошедшей
хладнокровную жестокость их угнетателей и эксплуататоров. Одна и та же
страстная нота звучит в кромешном аду отчаянных пролетарских бунтов. Мы
улавливаем эту ноту в ряде египетских восстаний против птолемеевского
эксплуататорского режима. Мы улавливаем ее в ряде еврейских восстаний против
Селевкидов и римской политики эллинизации, начиная с восстания Иуды Маккавея в
166 г. до н. э. и заканчивая безнадежным предприятием под руководством Бар‑Кохбы[20] в 132‑135 гг. н. э. Мы улавливаем ее в
безрассудной ярости, заставлявшей полуэллинизированных и весьма изощренных
местных жителей запада Малой Азии дважды подвергаться мести римлян – при
Атталиде Аристонике[21] в 132 г. до н. э. и при царе Понта Митридате[22] в 88 г. до н. э. На Сицилии и в Южной Италии
также имел место ряд восстаний рабов, достигших своей кульминации в отчаянном
подвиге беглого фракийского гладиатора Спартака, который с 73 по 71 г. до н. э.
прошел вдоль и поперек весь Италийский полуостров, оказывая открытое
неповиновение римской волчице в самом ее логове.
Эти вспышки недовольства не ограничивались лишь иностранным
элементом в пролетариате. Свирепость, с которой пролетарии из римских граждан
обращались с римской плутократией, разрывая ее на части в гражданских войнах, а
частично во взрыве 91‑82 гг. до н. э., вполне уравновешивала свирепость Иуды
Маккавея или Спартака. Но наиболее сатанинскими из всех мрачных фигур, чьи
зловещие силуэты выделяются в ослепительных отсветах пламенеющего мира,
являются римские революционные вожди, которые в результате некоего
необыкновенно резкого поворота колеса Фортуны оказались неосмотрительно
исключенными из Ordo Senatorius[23]:
Серторий[24], Секст Помпеи[25], Марий[26] и Катилина[27].
Однако самоубийственная жестокость была не единственным
ответом эллинского внутреннего пролетариата. Были ответы и совершенно иного
рода, которые нашли свое наивысшее выражение в христианской религии. Добрый,
ненасильственный ответ является столь же подлинным выражением воли к отделению,
сколь и насильственный. Кроткие мученики, о которых напоминает Вторая
Маккавейская книга, – старый книжник Елеазар, семь братьев Маккавеев[28] и их мать – были духовными предтечами
фарисеев. Фарисеи же – это «те, которые отделяются», – имя, которое они сами
себе взяли и которое можно было бы перевести как «раскольники» (secessionists).
В истории восточного внутреннего пролетариата эллинского мира, начиная со II в.
до н. э., мы видим, как жестокость и доброта борются за господство над душами,
до тех пор, пока жестокость не уничтожает саму себя, а доброта не остается на
поле битвы одна.
Проблема возникла с самого начала. От пути добра, выбранного
мучениками в 167 г. до н. э., вскоре отказался пылкий Иуда. Непосредственный
материальный успех этого пролетарского «вооруженного силача» – каким бы
мишурным и эфемерным он ни был – настолько ослепил последующие поколения, что
ближайшие сподвижники Иисуса возмущались предсказанием Учителя об их судьбе и
были повержены, когда эти предсказания сбылись. Однако спустя несколько месяцев
после Распятия Гамалиил[29] уже обращает внимание на чудесным образом
сплотившихся учеников казненного Вождя как на людей, на стороне которых, быть
может, Сам Бог. А еще несколько лет спустя ученик Гамалиила Павел стал
проповедовать распятого Христа.
Это обращение первого поколения христиан от пути насилия к
пути доброты должно было быть куплено ценой сокрушающего удара, нанесенного их
материальным упованиям. То, что сделало Распятие для последователей Иисуса, для
правоверного еврейства сделало разрушение Иерусалима в 70 г. н. э. Появилась
новая школа иудаизма, которая отказалась от «идеи о том, что Царство Божие –
это внешнее положение дел, которое вот‑вот готово явить себя»{3}. За
единственным, хотя и выдающимся исключением Книги пророка Даниила,
апокалиптические произведения, в которых нашел свое литературное выражение
еврейский путь насилия, теперь изгонялись из канона Закона и Пророков.
Противоположный принцип воздержания от всяких попыток способствовать исполнению
Воли Божией в этом мире при помощи человеческих усилий настолько быстро и
прочно укоренился в еврейской традиции, что строго ортодоксальная «Агудат
Ишраэль»[30] сегодня смотрит с подозрением на сионистское
движение и стойко держится в стороне от любого участия в деле строительства
еврейского «национального дома» в Палестине XX в.
Если это изменение духа ортодоксального еврейства дало
возможность евреям выжить как реликту, то соответствующее изменение в духе
сподвижников Иисуса проложило дорогу для величайших побед христианской Церкви.
На вызов гонений христианская Церковь отвечала добротой Елеазара и Семи
Братьев, и вознаграждением явилось обращение эллинского правящего меньшинства,
а впоследствии – и варварских вооруженных отрядов внешнего пролетариата.
Непосредственным соперником христианства в первые века его
роста была примитивная племенная религия эллинского общества в ее позднейшем
изводе: идолопоклоннический культ эллинского универсального государства, воплощенного
в личности «божественного цезаря». Именно этот кроткий, хотя и непреклонный
отказ Церкви, не позволявшей своим членам поклоняться идолам, вызвал ряд
официальных преследований и, в конце концов, заставил римское имперское
правительство капитулировать перед той духовной силой, которую ему не удалось
подавить. Однако хотя на установление и насаждение этой примитивной
государственной религии Империи направлялись все усилия правительства, она
имела мало власти над человеческими сердцами. То чисто условное уважение к ней,
проявления которого в ритуальном акте требовали от христиан римские должностные
лица, явилось началом и концом этой государственной религии. [Кроме этого
условного уважения], в ней не было больше ничего для тех нехристиан, которые
выполняли то, что требовалось от них, как обычное дело и не могли понять,
почему же христиане настойчиво предпочитают жертвовать своими жизнями, нежели
исполнить этот тривиальный обычай. Соперниками христианства, которые были
сильны сами по себе благодаря свойственной им привлекательности и не нуждались
в поддержке государственного аппарата, являлись не этот официальный культ и не
какая‑либо иная форма примитивной религии, но множество «высших религий»,
которые возникали, подобно самому христианству, из глубин эллинского
внутреннего пролетариата.
Мы можем представить себе эти конкурирующие «высшие
религии», вспомнив о различных истоках, из которых происходил восточный
контингент эллинского внутреннего пролетариата. Христианская религия пришла от
народа, чье прошлое связано с сирийским миром. Иранская часть сирийского мира
принесла с собой митраизм. Культ Исиды пришел из подчиненной северной части
египетского мира. Культ анатолийской Великой Матери Кибелы можно рассматривать
в качестве вклада хеттского общества, социальная деятельность которого к этому
времени уже давно угасла во всех сферах, кроме религиозной. Хотя если мы
возьмемся проследить происхождение Великой Матери до ее последних истоков, то
обнаружим ее первоначальную родину в шумерском мире под именем Иштар, еще до
того как она обосновалась под именем Кибелы в анатолийском Пессинунте,
«Сирийской богини» – в Иераполе или Матери‑земли – у далеких прагерманских
поклонников в роще на Святом Острове в Северном или Балтийском море.
* * *
Минойская лакуна и некоторые следы хеттов
Когда мы исследуем историю внутреннего пролетариата в других
распадающихся обществах, мы должны признать, что в некоторых случаях данных или
недостаточно, или же они совершенно обманывают наши ожидания. Например, мы
ничего не знаем о внутреннем пролетариате минойского общества. В случае
минойского общества наше внимание уже привлекал мучительный проблеск той
возможности, что следы минойской вселенской церкви, возможно, сохранились среди
разнородных составных частей исторической орфической церкви, которая появляется
в эллинской истории начиная с VI в. до н. э. Однако мы не можем быть уверены в
том, что какие‑либо обычаи или верования орфизма происходят из минойской
религии. Мы опять‑таки ничего не знаем о внутреннем пролетариате хеттской цивилизации,
которая погибла в необыкновенно юном возрасте. Мы можем только сказать, что
обломки хеттского общества, по‑видимому, постепенно поглощались частично
эллинским, а частично сирийским обществом, так что в поисках любых следов
хеттской социальной системы следует обращаться к истории этих двух иностранных
обществ.
Хеттское общество – одно из многих распадающихся обществ,
которые были поглощены соседями еще до того, как завершился процесс распада. В
подобных случаях вполне естественно, что внутренний пролетариат смотрит на
судьбу, которая постигает правящее меньшинство, с безразличием или даже с
удовлетворением. Характерным в этом смысле случаем является поведение
внутреннего пролетариата в андском универсальном государстве, когда в него
ворвались испанские конквистадоры. Орехоны были, возможно, самым великодушным
правящим меньшинством, которое когда‑либо производило на свет распадающееся
общество. Однако их великодушие ничем им не помогло в Судный день. Заботливо
пасомые ими человеческие стада приняли испанское завоевание со столь же
безответным послушанием, какое они продемонстрировали, принимая Pax Incaica[31].
Мы можем также указать на случаи, в которых внутренний
пролетариат приветствовал завоевателей своего правящего меньшинства с
несомненным энтузиазмом. В красноречивых обращениях «Второисайи»[32] выражены приветствия персидскому завоевателю
Нововавилонского царства, пленившего евреев. Два столетия спустя сами
вавилоняне приветствовали эллина Александра как освободителя от ахеменидского
ярма.
* * *
Японский внутренний пролетариат
Некоторые явные признаки отделения японского внутреннего
пролетариата можно различить в истории дальневосточного общества в Японии,
которое уже миновало «смутное время» и вошло в период универсального
государства еще до того, как было поглощено западным обществом. Если мы поищем,
например, японских двойников тех граждан эллинских городов‑государств, которые
были оторваны от своей почвы рядом войн и революций начиная с 431 г. до н. э. и
нашли погибельный выход в том, что стали наемными солдатами, то мы увидим
строгую параллель в ронинах[33],
или в оставшихся без хозяев и без работы тяжеловооруженных всадниках, которые
оказались выброшенными феодальной анархией во время японского «смутного
времени». Во‑вторых, мы увидим, что эта[34],
или париев, которые сохранились в японском обществе как изгои до настоящего
времени, можно рассматривать как все еще не ассимилировавшиеся остатки айнских
варваров главного острова. Они были насильственно включены в состав японского
внутреннего пролетариата точно так же, как варвары Европы и Северной Африки
были включены в состав эллинского внутреннего пролетариата при помощи римского
оружия. В‑третьих, мы распознаем японский эквивалент тех «высших религий», в
которых эллинский внутренний пролетариат искал и находил свой наиболее
эффективный ответ на претерпеваемые им бедствия.
Этим религиями были Дзёдо‑сю[35], Дзёдо‑синсю[36], хоккэкё[37] и дзэн[38], основанные на
протяжении столетия, последовавшего за 1175 г. Эти религии похожи на свои
эллинские эквиваленты тем, что все они возникли из иностранного источника,
поскольку все четыре являются вариациями одной темы – махаяны. Три из четырех
похожи на христианство в том, что учат о духовном равенстве полов. Обращаясь к
неискушенной публике, апостолы этих религий отказывались от классического
китайского языка и писали (когда они это делали) на местном японском языке,
используя сравнительно простую систему записи. Их основной слабостью как
основателей религий было то, что в своем желании принести спасение как можно
большей части народа они чрезмерно занижали требования. Одни предписывали
простое произнесение ритуальных формул, другие же крайне мало требовали от
своих последователей или же предъявляли к ним требования не нравственного
характера. Однако следует помнить, что основополагающее христианское учение об
оставлении грехов в разное время и в различных местах вызывало столько злоупотреблений
и неверных трактовок у желающих считаться христианскими лидеров, что они
подвергались одному из двух этих обвинений или обоим сразу. Например, Лютер
нападал на продажу индульгенций, практиковавшуюся Римской церковью его времени
в качестве замены христианского покаяния коммерческой сделкой, замаскированной
под обрядовой формой. В то же время, с собственной интерпретацией
павлинистского «оправдания верой» и со своим «Ресса fortiter»[39],
он оказывался незащищенным от обвинения в том, что относился к нравственности
как к делу незначительному.
* * *
Внутренний пролетариат при иностранных универсальных
государствах
Любопытное зрелище представляет собой одна группа из
находящихся в процессе распада цивилизаций, в которой, после того как туземное
правящее меньшинство было уничтожено или свергнуто, внешние события продолжали
идти своим обычным чередом. Из трех обществ – индусского, дальневосточного в
Китае и православно‑христианского на Ближнем Востоке, которые на пути от надлома
к распаду в должное время проходили стадию универсального государства, – каждое
получило это универсальное государство в качестве дара, или обязанности, из
чуждых рук, вместо того чтобы создать его для себя самим. Иранцы одно
универсальное государство дали основному стволу православного христианства в
форме Оттоманской империи, а другое – индусскому миру в форме империи Тимуридов
(Моголов). Затем британцы реконструировали эту построенную на скорую руку
империю Великих Моголов от самых оснований. В Китае именно монголы оказались
теми, кто сыграл роль Оттоманов или Моголов, тогда как работа по реконструкции
на более прочных основаниях, взятая на себя в Индии британцами, з Китае была
проделана маньчжурами.
Когда находящееся в процессе распада общество оказывается
вынужденным принять иностранного архитектора, чтобы он создал для него
универсальное государство, оно тем самым признается в том, что собственное его
правящее меньшинство стало совершенно неспособным и творчески бесплодным.
Неотвратимым наказанием за эту преждевременную старость будет унизительное
лишение гражданских прав. Чужеземцы, которые приходят выполнить работу
правящего меньшинства, весьма естественно присваивают себе прерогативы этого
правящего меньшинства, а потому все туземное правящее меньшинство в построенном
чужеземцами универсальном государстве вырождается до уровня внутреннего
пролетариата. Для монгольских или маньчжурских ханов, оттоманского падишаха и
могольского или британского кайсар‑и‑хинда[40] в зависимости от обстоятельств могут оказаться
выгодными услуги китайских книжников, греческих фанариотов или индусских
брахманов. Однако от этих людей не остается скрытым тот факт, что они утратили
свои души, равно как и свое общественное положение. Очевидно, что в подобной
ситуации, где прежнее правящее меньшинство оказалось смешанным и одинаково
униженным с внутренним пролетариатом, на который оно некогда смотрело с
презрением, мы вряд ли обнаружим, что процесс распада будет проходить своим
обычным ходом.
У внутреннего пролетариата индусского общества нашего
времени мы различаем двойственную реакцию – насильственную и добрую, которая
выражается в противоположности между убийствами, совершаемыми приверженцами
воинствующей школы бенгальских революционеров, и ненасилием, проповедуемым
Гуджарати Махатмой Ганди. Мы также можем сделать вывод о более продолжительной предшествовавшей
истории пролетарского брожения на основании наличия множества религиозных
движений, в которых те же две противоположные тенденции представлены в равной
мере. В сикхизме мы видим воинственный пролетарский синкретизм индуизма и
ислама, а в Брахмо‑самадж – ненасильственный синкретизм индуизма и либерального
протестантизма.
Что касается внутреннего пролетариата дальневосточного
общества в Китае при маньчжурском режиме, то мы можем увидеть, что тайпинское
движение[41],
господствовавшее на социальной сцене в середине XIX в., было делом рук
внутреннего пролетариата. Оно похоже на «Брахмо‑самадж» благодаря
протестантскому элементу, но также похоже своей воинственностью на сикхизм.
Во внутреннем пролетариате основного ствола православного
христианства «зелотская» революция в Фессалониках[42], имевшая место
в 50‑е гг. XIV столетия, намекает нам на насильственную реакцию пролетариата в
наимрачнейший момент православного «смутного времени» – за одно поколение перед
тем, как православно‑христианскому обществу жесткой дисциплиной оттоманских
завоевателей было навязано универсальное государство. Соответственно, не
замедлила проявиться и добрая реакция. Однако если бы на рубеже XVIII–XIX вв.
процесс вестернизации не шел так настойчиво по пятам распадающейся Оттоманской
империи, то мы могли бы предположить, что к настоящему времени движение
бекташей[43] завоевало бы такую же позицию на всем Ближнем
Востоке, какую ему в настоящее время удалось завоевать в Албании.
* * *
Вавилонский и сирийский внутренний пролетариат
Если мы перейдем теперь к вавилонскому миру, то обнаружим,
что религиозное брожение в душах жестоко угнетаемого внутреннего пролетариата в
Юго‑Западной Азии при ассирийском терроре VIII–VII вв. до н. э. было таким же
активным, как и на эллинизированном побережье Средиземного моря при римском
терроре примерно шесть веков спустя.
Посредством ассирийских войск распадающееся вавилонское
общество территориально распространялось в двух направлениях, так же как
распадающееся эллинское общество распространялось благодаря завоеваниям
македонцев и римлян. Двигаясь в восточном направлении через Загрос в Иран,
ассирийцы предвосхитили римские деяния в Европе по ту сторону Альп, подчинив
множество примитивных народов. Двигаясь в западном направлении через Евфрат,
они предвосхитили македонские деяния на азиатской стороне Дарданелл, подчинив
две иностранные цивилизации. Эти цивилизации – сирийская и египетская – фактически
идентичны с двумя из тех четырех, которые были впоследствии включены в состав
эллинского внутреннего пролетариата после походов Александра Македонского. При
завоевании эти иностранные жертвы вавилонского милитаризма также были оторваны
от своей почвы. Классическими примерами высылки завоеванного населения являются
пересадка израильтян – «отпавших десяти колен» – ассирийским завоевателем
Саргоном и пересадка иудеев нововавилонским завоевателем Навуходоносором в
центр вавилонского мира – в саму Вавилонию.
Принудительное перемещение людей было для вавилонского
империализма превосходным способом сломить дух завоеванных народов, и эта
жестокость никоим образом не относилась исключительно к чужеземцам и варварам.
В своих братоубийственных войнах господствующие державы вавилонского мира не
стеснялись применять по отношению друг к другу такие же наказания.
Самаритянская община, несколько сот представителей которой можно увидеть еще и
поныне в тени горы Геризим, является памятником пересадки в Сирию высланных
ассирийцами жителей различных городов Вавилонии, в том числе и самого Вавилона.
Понятно, что furor Assiricus[44] не иссякал до тех пор, пока не вызвал к жизни
вавилонский внутренний пролетариат, который был необыкновенно похож на
эллинский внутренний пролетариат по своему происхождению, составу и опыту. Два
этих дерева принесли одинаковые плоды. Если более позднее вхождение сирийского
общества в состав эллинского внутреннего пролетариата принесло плод в рождении
христианства из иудаизма, то более раннее вхождение того же самого сирийского
общества в состав вавилонского внутреннего пролетариата принесло плод в
рождении иудаизма из примитивной религии одной из тех местных общин, на которые
разделилось сирийское общество.
Понятно, что хотя иудаизм и христианство кажутся «философски
современными и эквивалентными», будучи рассмотренными просто в качестве
продуктов одинаковых стадий истории двух иностранных обществ, существует и
другой угол зрения, под которым они предстают в качестве последовательных
стадий в едином процессе духовного просвещения. В этой последней картине
христианство стоит не рядом с иудаизмом, а на его плечах, в то время как оба
они превосходят примитивную религию Израиля. Не было это просвещение пророков
Израиля и Иудеи в VIII в. до н. э. и после него и единственной переходной
стадией, о которой мы имеем письменные свидетельства или указания в
хронологическом и духовном интервале между христианством и примитивным культом
Яхве. До пророков библейская традиция представлена фигурой Моисея, а после него
– фигурой Авраама. На какую бы точку зрения мы ни становились относительно
исторической достоверности этих неясных фигур, следует заметить, что традиция
помещает и Авраама, и Моисея в то же историческое окружение, что и пророков, и
Христа. Ибо появление Моисея совпадает по времени с упадком «Нового царства» в
Египте, а появление Авраама – с последними днями шумерского универсального
государства после его временной реконструкции при Хаммурапи. Таким образом, все
четыре стадии, представленные Авраамом, Моисеем, пророками и Иисусом, являются
примером отношений между распадом цивилизаций и новыми инициативами в религии.
Стадия возникновения высшей религии иудаизма оставила о себе
несравненно более полные и ясные записи в книгах допленных пророков Израиля и
Иудеи. В этих живых записях о потрясающих духовных трудах мы видим, что
предметом спора является один жгучий вопрос, с которым мы уже сталкивались в
других местах: выбор между насильственным и добрым путем перед лицом смертельного
вызова. Причем доброта постепенно брала верх над насилием и в этом случае.
«Смутное время», когда оно наступило и достигло своего пика, нанесло ряд
сокрушительных ударов, научивших даже твердолобых иудейских консерваторов тому,
что бесполезно отвечать на добро насилием. Новая «высшая религия», которая
родилась в Сирии VIII в., в сирийских общинах, на их же родном току
размолоченных ассирийскими цепами, достигла зрелости в Вавилонии VI‑V столетий
среди вырванных от почвы и изгнанных потомков одного из этих разбитых народов.
Подобно восточным рабам, вывезенным в римскую Италию,
еврейские изгнанники в навуходоносоровской Вавилонии не поддавались сколько‑нибудь
легкой приспособляемости к это‑су своих завоевателей: «Если я забуду тебя,
Иерусалим, – забудь меня, десница моя; прилипни, язык мой, к гортани моей, если
не буду помнить тебя»{4}.
Однако память о своей родине, которую эти изгнанники бережно
хранили на чужбине, не была просто‑негативным отпечатком. Она была позитивным
актом вдохновенного художественного творчества. В неземном свете этого видения,
явившегося затуманенному слезами взору, павшая крепость превратилась в
священный город, воздвигнутый на камне, который не одолеют врата адовы.[45] И пленники, отказывавшиеся потворствовать
прихоти пленивших и спеть им одну из песней Сионских и упорно вешавшие свои
арфы на вербы у потока Евфрата, в этот самый момент сочинили малопонятную новую
мелодию на невидимом инструменте своих сердец: «При реках Вавилона, там сидели
мы и плакали, когда вспоминали о Сионе»{5}. И в этом плаче
просвещение еврейского народа было доведено до конца.
Очевидно, что в последующих религиозных реакциях сирийских
призывников в ряды внутреннего пролетариата соответствие между вавилонской и
эллинской историей становится очень близким. Однако ответ, порожденный
вавилонским вызовом, исходил не только от тех жертв, которые были членами
иностранной цивилизации, но также и от жертв варваров. Тогда как европейские и
северо‑африканские варвары, завоеванные римскими войсками, не сделали
собственных открытий в области религии, но просто восприняли семена, посеянные
среди них их собратьями‑пролетариями восточного происхождения, иранские
варвары, угнетаемые ассирийцами, породили местного пророка в лице Заратустры,
основателя зороастризма. Время жизни Заратустры – вопрос спорный, и мы не можем
с уверенностью сказать, явилось ли его религиозное открытие независимым ответом
на ассирийский вызов или же его голос был простым эхом, отозвавшимся на вопль
забытых израильских пророков, заброшенных в «города Мидийские».[46] Однако, какими бы ни были первоначальные
отношения между этими двумя «высшими религиями», очевидно, что зороастризм и
иудаизм встретились на равных в период своей зрелости.
Во всяком случае, когда вавилонское «смутное время»
завершилось гибелью Ассирии и вавилонский мир перешел к стадии универсального
государства в форме Нововавилонского царства, могло показаться, что иудаизм и
зороастризм будут соперничать друг с другом за право учреждения вселенской
церкви в пределах данной политической системы подобно тому, как христианство и митраизм
соперничали за то же самое право в пределах Римской империи.
Этого, однако, не произошло по той вполне достаточной
причине, что нововавилонское универсальное государство оказалось недолговечным
по сравнению со своим римским эквивалентом. За Навуходоносором, этим
вавилонским Августом, не последовали с промежутками в столетия Траян, Север и
Константин. Его непосредственные преемники – Набонид[47] и Валтасар[48] – скорее сравнимы с Юлианом[49] и Валентом.[50] Менее чем через столетие Нововавилонское
царство было «дано мидянам и персам»{6}, и эта империя Ахеменидов
была в политическом отношении иранской, а в культурном – сирийской. Так роли
правящего меньшинства и внутреннего пролетариата полностью поменялись.
В этих обстоятельствах можно было бы ожидать, что победа
иудаизма и зороастризма будет более быстрой и несомненной. Однако спустя два
столетия Фортуна снова вмешалась, чтобы совершить еще один неожиданный поворот
в ходе событий. Теперь она вручила «царство мидян и персов» в руки македонского
завоевателя. Насильственное вторжение эллинского общества в сирийский мир
раздробило сирийское универсальное государство на части задолго до того, как
его роль была доиграна до конца. К тому же две высшие религии, которые (как
подтверждают наши довольно скудные данные) распространялись мирным путем под
эгидой Ахеменидов, были введены в гибельное заблуждение и сменили свойственную
им религиозную функцию на политическую роль. Каждая по своим причинам, эти
религии стали поборницами сирийской цивилизации в борьбе против навязчивого
эллинизма. Иудаизм, занимавший передовую западную позицию в пределах видимости
Средиземного моря, оказался неизбежно обреченным на гибель и в должное время
разбился о материальную мощь Рима в Иудейских войнах 66‑70, 115‑117 и 132‑135
гг. н. э. Зороастризм, в своей цитадели на восток от Загроса, продолжил борьбу
в III в. н. э. не при столь ужасающе неравных условиях. В лице Сасанидской монархии
он нашел более мощное оружие для антиэллинского «крестового похода», чем
иудаизм был способен выковать из мелкого княжества Маккавеев. Сасаниды
постепенно вымотали силы Римской империи в четырехсотлетней борьбе, которая
достигла своей высшей точки в разрушительных Византийско‑персидских войнах 572‑591
и 603‑628 гг. И даже тогда держава Сасанидов оказалась не в состоянии выполнить
задачу изгнания эллинизма из Азии и Африки, в то время как зороастризму
пришлось в конце концов заплатить столь же высокую цену, какую заплатил
иудаизм, ввязавшись в политическое предприятие. В настоящее время парсы,
подобно евреям, сохранились просто как «диаспора». Окаменевшие религии, которые
до сих пор продолжают столь могущественно удерживать вместе разрозненных членов
двух общин, потеряли свое послание к человечеству и застыли в виде окаменевших
остатков сирийского общества. Воздействие иностранной культурной силы не просто
уклонило эти «высшие религии» на политический путь. Оно также раскололо их на
части. После превращения иудаизма и зороастризма в инструменты политической
оппозиции, сирийский религиозный гений нашел убежище среди тех элементов
сирийского населения, которые отвечали на эллинский вызов добром, а не
насилием. В рождении христианства и митраизма, как в своем вкладе в духовный
труд эллинского внутреннего пролетариата, сирийская религия нашла новое
выражение для духа и перспективу, от которой отказались иудаизм и зороастризм.
Христианство, в свою очередь, покорив благодаря силе доброты эллинских
завоевателей сирийского мира, раскололось на три вероисповедные группы:
православную Церковь, которая заключила союз с эллинизмом, и две прямо
противоположные ереси несторианства и монофизитства, которые взяли на себя
воинствующую политическую роль зороастризма и иудаизма, не достигнув сколько‑нибудь
решительного успеха в изгнании эллинизма из сирийского пространства.
Две последовавшие друг за другом неудачи, тем не менее, не
довели воинствующих сирийских противников эллинизма до состояния апатии и
отчаяния. Последовала третья попытка, которая увенчалась успехом. Эта
окончательная политическая победа сирийского общества над эллинизмом была
достигнута благодаря помощи еще одной религии сирийского происхождения. В конце
концов ислам победил Римскую империю в Юго‑Западной Азии и Северной Африке и
предоставил вселенскую церковь для восстановленного сирийского универсального
государства – халифата Аббасидов.
* * *
Индский и древнекитайский внутренний пролетариат
Процесс распада индского общества, так же как и сирийского,
был насильственно прерван эллинским вторжением. Интересно наблюдать, до какой
степени сходный вызов породил в этом случае сходный ответ.
Во время, когда индское и эллинское общества впервые
соприкоснулись – в результате набега Александра в долину Инда, – индское
общество готово было войти в стадию универсального государства, а его правящее
меньшинство уже давно отвечало на вызов распада, создав две философские школы
джайнизма и буддизма. Однако у нас нет никаких данных о том, чтобы его
внутренний пролетариат создал какую‑либо «высшую религию». Буддийский царь‑философ
Ашока, занимавший престол индского универсального государства с 273 по 232 г.
до н. э., безуспешно пытался обратить своих эллинских соседей в свою философию.
И лишь позднее буддизм взял приступом отдаленную, хотя пространную и важную
область послеалександровского эллинского мира, которую занимало греческое
царство Бактрия.
Однако буддизму удалось совершить эту победоносную духовную
реконкисту лишь после того, как он претерпел удивительную метаморфозу, в
процессе которой прежняя философия ранних последователей Сиддхартхи Гаутамы[51] превратилась в новую религию махаяны.
«Махаяна – поистине новая религия, столь радикально отличная
от раннего буддизма, что обнаруживает такое же количество точек соприкосновения
с поздними брахманическими религиями, какое и со своим собственным
предшественником. Она так никогда до конца и не осознала, до какой степени
радикальной была революция, видоизменившая буддийскую церковь, когда новый дух
(который, тем не менее, долгое время скрывался в ней) вылупился из нее в первые
века нашей эры. Когда мы видим сначала атеистическое, отрицающее существование
души философское учение о пути личного окончательного освобождения, состоящего
в абсолютном угасании жизни, и простое почитание памяти его человеческого
основателя, когда затем мы видим вытеснившую это учение величественную высшую
церковь с верховным Богом, окруженным многочисленным пантеоном и сонмом святых
– религию, в высшей степени связанную с обрядами, ритуализированную и
организованную, с идеалом всеобщего спасения всех живых существ, спасения
благодаря божественной милости будд и бодхисатв, спасения, заключающегося не в
уничтожении, но в вечной жизни, – то у нас есть все основания утверждать, что
история религий вряд ли еще когда‑либо видела подобный разрыв между новым и
старым в рамках религии, которая, тем не менее, продолжает заявлять о своем
общем происхождении от одного религиозного основателя»{7}.
Этот видоизмененный буддизм, пышным цветом расцветший на
северо‑востоке расширившегося эллинского мира, фактически явился индской
«высшей религией», сравнимой с другими, которые в ту же самую эпоху захватывали
самое сердце эллинского общества. Каково же происхождение этой личной религии,
которая была одновременно и отличительной чертой махаяны, и секретом ее успеха?
Эта новая закваска, которая столь глубоко изменила дух буддизма, настолько же
отличалась от местного индского духа, насколько и от духа эллинской философии. Не
была ли она результатом опыта индского внутреннего пролетариата или же
отблеском сирийского пламени, которое уже воспламенило зороастризм и иудаизм?
Доказательства можно привести в пользу и той и другой точек зрения, однако в
действительности нам не нужно выбирать между ними. Достаточно сказать, что с
выходом на сцену этой буддийской «высшей религии» религиозная история индского
общества начинает следовать тем же самым курсом, что и сирийское, которое мы
уже исследовали.
В качестве «высшей религии», вышедшей из недр общества, в
котором она появилась для проповеди эллинизированному миру, махаяна,
несомненно, является индским двойником христианства и митраизма. Имея в руках
этот ключ, мы можем легко установить тождество индского двойника с другими
лучами, на которые преломился свет сирийской религии, пройдя сквозь эллинскую
призму. Если мы поищем индский эквивалент тех «окаменелостеи» доэллинского
состояния сирийского общества, которые сохранились в евреях и парсах, то
обнаружим искомое в новейшем хинаянском буддизме Цейлона и Бирмы, Сиама и
Камбоджи, который является реликтом домахаянской буддийской философии. И точно
так же как сирийскому обществу пришлось ждать, пока не появился ислам и не
завладел религией, которая была способна служить эффективным инструментом для
изгнания эллинизма, мы обнаруживаем, что полное и окончательное изгнание
навязчивого эллинского духа из индской социальной системы завершилось не
благодаря махаяне, но благодаря чисто индскому и совершенно неэллинскому
религиозному движению постбуддийского индуизма.
История махаяны, насколько мы ее понимаем, аналогична
истории вселенского христианства в том, что обе [религии] нашли поле своей
деятельности в эллинском мире, вместо того чтобы обращать неэллинское общество,
которое породило каждую из них. Однако в истории махаяны была дальнейшая глава,
которая не имеет параллелей в истории христианской Церкви. Христианство,
поселившись во владениях умирающего эллинского общества, продолжало оставаться
там и, в конечном итоге, создало церкви для двух новых цивилизаций – западной и
православно‑христианской, дочерними по отношению к эллинской. С другой стороны,
махаяна ушла из недолговечного эллинского Бактрийского царства через горы
Центральной Азии в умирающий древнекитайский мир и на еще большем расстоянии от
места своего рождения стала вселенской церковью древнекитайского внутреннего
пролетариата.
* * *
Наследие шумерского внутреннего пролетариата
Два общества – вавилонское и хеттское – произошли от
шумерского, однако в этом случае мы не можем обнаружить какую‑либо вселенскую
церковь, созданную в недрах шумерского внутреннего пролетариата и завещанную
дочерним цивилизациям. Вавилонское общество, по‑видимому, унаследовало религию
шумерского правящего меньшинства, а хеттская религия, вероятно, частично
произошла из того же самого источника. Однако мы знаем очень мало об истории
религии шумерского мира. Мы можем лишь сказать, что если культ Таммуза[52] и Иштар действительно являются памятником
опыта шумерского внутреннего пролетариата, то в самом шумерском обществе эта
попытка творческого акта закончилась неудачей и смогла осуществиться только в
другом обществе.
Эти шумерские божества, мужское и женское, действительно,
долгое время пользовались успехом и в будущем распространились повсеместно.
Одной небезынтересной чертой последующей истории данной пары божеств была
переоценка их важности. В хеттской версии этого парного культа фигуру богини
умалила и затмила фигура бога, который играл по отношению к ней разнообразные и
противоречивые роли сына и любовника, протеже и жертвы. Рядом с Кибелой‑Иштар
Аттис‑Таммуз[53] совершенно терял свое значение. В ее удаленном
северо‑западном островном святилище, окруженном потоком Океана, Нертус‑Иштар[54], по‑видимому,
остается в величественном одиночестве без какого‑либо вообще супруга‑мужчины.
Однако по мере того как путешествие пары приближается к юго‑западу, к Сирии и
Египту, значение Таммуза возрастает, а значение Иштар уменьшается. Атаргатис[55], чей культ
распространился от Бамбики до Аскалона, по‑видимому, как следует из ее имени,
была Иштар, требование почитания которой основывалось на ее функции супруги
Аттиса. В Финикии Адонис‑Таммуз[56] был «господом», чью раннюю смерть оплакивала
Астарта‑Иштар. В египетском мире Осирис‑Таммуз затмил свою сестру‑жену Исиду
столь же решительно, сколь, в свою очередь, Исида затмила Осириса, когда
впоследствии она завоевала себе царство в сердцах эллинского внутреннего
пролетариата. Эта версия шумерского верования, в котором не оплакивающая
богиня, а умирающий бог был главным объектом поклонения, по‑видимому,
распространилась даже до отдаленных варваров Скандинавии, где Бальдр‑Таммуз[57] назывался «господом», тогда как его бесцветная
супруга Нанна по‑прежнему сохраняла личное имя шумерской богини‑Матери.
3. Внутренний пролетариат западного мира
Чтобы завершить наше исследование внутреннего пролетариата,
мы должны рассмотреть случай, который имеет к нам ближайшее отношение.
Возникают ли эти характерные явления в истории Запада? Когда мы обращаемся к
свидетельствам существования западного внутреннего пролетариата, то оказываемся
ошеломленными их embarras de richesses[58].
Мы уже отмечали, что один из регулярных источников набора в
ряды внутреннего пролетариата западное общество использовало в огромном масштабе.
Рабочая сила не менее десяти распавшихся цивилизаций была призвана в ряды
западной социальной системы в течение последних четырех столетий. На общем
уровне членства в западном внутреннем пролетариате, в который они, таким
образом, были превращены, активно осуществлялся процесс стандартизации, который
уже смазал (а в некоторых случаях и совершенно стер) характерные черты, некогда
отличавшие эти разнородные массы друг от друга. Не согласилось наше общество и
терзать свой собственный «цивилизованный» род. Оно также собрало вместе почти
все сохранившиеся примитивные общества. И хотя некоторые из них, подобно
тасманийцам и большинству северо‑американских индийских племен, погибли от
шока, другие, подобно неграм тропической Африки, сумели выжить и повернули течение
Нигера в Гудзон, а Конго – в Миссисипи, точно так же как деятельность того же
самого западного чудовища в другом месте повернула течение Янцзы в Малаккский
пролив[59]. Рабы‑негры,
на кораблях перевезенные в Америку, и тамилы или китайские кули, перевезенные к
экваториальным или противоположным берегам Индийского океана, – двойники тех
рабов, которых в последние два века до Рождества Христова отправляли со всего
средиземноморского побережья в поместья и на плантации римской Италии.
В западном внутреннем пролетариате есть и еще один
контингент призывников‑иноземцев, которые были оторваны от почвы и духовно
дезориентированы, не будучи при этом физически изгнаны с родины своих предков.
В любом обществе, пытающемся решить проблему приспособления жизни к ритму
чуждой цивилизации, существует потребность в особом общественном классе,
который служит в качестве человеческого аналога «трансформатора»,
преобразующего электрический ток одного напряжения в другое. Этот класс,
который создается (часто совершенно внезапно и искусственно) в ответ на данное
требование, в общем, стал известен под особым русским названием
«интеллигенции». Интеллигенция – это класс «офицеров связи», которые изучили хитрости
ремесла вторгающейся цивилизации в такой степени, в какой это необходимо.
Благодаря их посредничеству их собственное общество становится способным
удерживать свои позиции в том социальном окружении, где жизнь уже не
проживалась в согласии с местной традицией, а во все большей мере в том стиле,
который был навязан вторгающейся цивилизацией подпавшим под ее власть
чужеземцам.
Первыми рекрутами в ряды этой интеллигенции являются офицеры
армии и флота, которые изучают искусство войны господствующего общества в такой
мере, в какой это необходимо для спасения России Петром Великим от шведского
завоевания или для спасения турок и японцев позднейшей эпохи от завоевания
Россией, которая к этому времени стала достаточно вестернизированной, чтобы со
своей стороны начать агрессивную деятельность. Затем идут дипломаты, которые
обучаются тому, как вести с западными правительствами переговоры, навязанные их
обществу в результате военной неудачи. Мы уже видели, как османы вербовали для
этой дипломатической работы своих райя, пока следующий поворот винта не
заставил османов научиться самим этому неприятному ремеслу. Далее идут купцы:
представители китайской купеческой гильдии в Кантоне, а также левантийские,
греческие и армянские купцы во владениях оттоманского падишаха. Наконец, по
мере того как закваска или вирус «западничества» входит все глубже и глубже в
социальную жизнь подвергающегося процессу ассимиляции общества, интеллигенция
развивает свои наиболее характерные типы: школьного учителя, который учится
тонкостям преподавания западных дисциплин; чиновника, который усваивает
практику государственного управления в соответствии с западными формами;
юриста, который приобретает умение применять версию «Кодекса Наполеона»[60] в соответствии с французской судебной
процедурой.
Где бы мы ни обнаружили интеллигенцию, мы можем сделать
вывод не только о том, что две цивилизации вошли в соприкосновение, но также и
о том, что одна из них постепенно входит в ряды внутреннего пролетариата
другой. Мы можем также наблюдать еще один факт из жизни интеллигенции, который
четко написан на ее лице для всех умеющих читать: интеллигенция родилась, чтобы
быть несчастной.
Этот связующий класс страдает от прирожденного несчастья,
свойственного всякому гибриду, являющемуся изгоем из обоих семейств, которые
соединились, чтобы его породить. Интеллигенция ненавидима и презираема своим
собственным народом за то, что само ее существование является ему упреком.
Благодаря своему присутствию среди народа она служит живым напоминанием о
ненавистной, хотя и неизбежной иностранной цивилизации, которой народ не может
противостоять, а потому вынужден к ней приспосабливаться. Фарисей вспоминается
всякий раз, когда встречается мытарь, а зелот – всякий раз, когда встречается
иродианин[61]. И несмотря на
то, что интеллигенцию недолюбливают у нее на родине, ей также не оказывают
уважения и в той стране, манерами и приемами которой она так усердно и умело
овладевает[62]. На ранних
этапах исторической связи между Индией и Англией индусская интеллигенция,
воспитанная Британской империей для своих административных выгод, была
предметом для всеобщих насмешек со стороны англичан. Чем легче «бабу»[63] овладевали знанием английского языка, тем
саркастичнее смеялись «сагибы»[64] над явной неуместностью ошибок, которые
неизбежно возникали. И подобный смех ранил даже тогда, когда был добродушным.
Интеллигенция, таким образом, вдвойне подпадает под наше определение пролетариата,
находясь сразу в двух обществах, но не являясь их членом и даже не являясь
членом одного из них. Хотя интеллигенция могла утешаться в первой главе своей
истории, чувствуя, что является органом, необходимым для обеих социальных
систем, по прошествии времени она лишилась этого утешения. Ибо приведение в
соответствие с текущим спросом начинает выходить за пределы возможностей
человеческого разума, когда человеческая сила сама становится товаром, и с
течением времени интеллигенция начала страдать от перепроизводства и
безработицы.
Петр Великий нуждался в огромном количестве русских
чиновников, Ост‑Индская компания – в огромном количестве клерков, а Мухаммед
Али – во множестве египетских фабричных рабочих и кораблестроителей. Тотчас же
эти гончары человеческой глины принялись за работу по их производству. Однако
процесс производства интеллигенции гораздо труднее остановить, чем начать. Ибо
презрение, которым пользуется связующий класс со стороны тех, кто пользуется
его услугами, является компенсацией его престижа в глазах тех, кто может быть
избранным в его ряды. Количество кандидатов растет несоразмерно возможностям их
трудоустройства, и первоначальное ядро занятой интеллигенции оказывается
сметено интеллектуальным пролетариатом, который в такой же мере является
безработным и бедным, в какой и изгои. Горсточка чиновников (chinovniks)
усиливается легионом «нигилистов», горсточка грамотных «бабу» – легионом «не
получивших дипломов». Горечь интеллигенции несравнимо сильнее при последнем
положении дел, нежели при первом. В самом деле, мы могли бы почти
сформулировать социальный «закон» относительно того, что врожденное несчастье
интеллигенции возрастает в арифметической прогрессии течению времени. Русская
интеллигенция, появление которой датируется концом XVII столетия, дает выход
своей накопленной злобе уже в сокрушительной большевистской революции 1917 г.
Бенгальская интеллигенция, которая появляется в последние годы XVIII в.,
демонстрирует сегодня дух революционного насилия, который пока еще не виден в
других частях Британской Индии, где местная интеллигенция появилась лишь
пятьдесят или сто лет спустя.
Буйный рост этого социального сорняка далеко не
ограничивался той почвой, на которой он был аборигенным растением. Недавно он
появился не только на полувестернизированных окраинах, но и в центре западного
мира. Мелкая буржуазия, которая получила среднее и даже университетское
образование, так и не дав какого‑либо соответствующего выхода полученным
умениям, в XX в. стала главной опорой фашистской партии в Италии и национал‑социалистической
партии в Германии. Демоническая движущая сила, которая привела Муссолини и
Гитлера к власти, вырабатывалась недовольством этого интеллектуального
пролетариата, обнаружившего, что его мучительные попытки самоусовершенствования
были недостаточны, чтобы спасти его от положения между молотом организованного
капитала и наковальней организованного труда.
В действительности, вплоть до настоящего столетия мы и не
должны ожидать, что встретим западный внутренний пролетариат, набранный из
собственных рядов западной социальной системы. Ибо в западном, так же как и в
эллинском мире, не только покоренное иноземное население отрывалось от своих
корней. Религиозные войны XVI‑XVII столетий повлекли за собой ущемление или
изгнание католиков из всех стран, где власть перешла в руки протестантской
партии, и ущемление или изгнание протестантов из всех стран, где власть перешла
в руки католической партии. Так что потомки французских гугенотов[65] были рассеяны от Пруссии до Северной Африки, а
потомки ирландских католиков – от Австрии до Чили. И это бедствие не
прекратилось благодаря тому мирному договору усталости и цинизма, который
завершил Религиозные войны. Начиная с Французской революции, политический stasis
стал вдохновляться со стороны odium hactenus theologicum[66],
и новые толпы изгнанников были оторваны от своей почвы: французские эмигранты‑аристократы
1789 г., европейские эмигранты‑либералы 1848 г., русские белоэмигранты 1917 г.,
итальянские и немецкие эмигранты‑демократы 1922 и 1933 гг., австрийские
католики и еврейские эмигранты 1938 г. и миллионы жертв войны 1939‑1945 гг. и
ее последствий.
С другой стороны, мы видели, как в Италии и на Сицилии в
период эллинского «смутного времени» свободное население было сорвано с земли и
согнано в города экономической революцией, совершившейся в сельском хозяйстве.
Данная революция заключалась в замене мелкомасштабного смешанного земледелия, основанного
на самообеспечении, на массовое производство специализированной
сельскохозяйственной продукции при помощи плантационного рабства. В современной
истории Запада мы встречаемся с почти точным повторением этого социального
бедствия в сельскохозяйственной революции, заменившей хлопковые плантации, на
которых работали негры‑рабы, на смешанное сельское хозяйство свободных белых в
«хлопковом поясе» Северо‑американского Союза. «Белые бедняки», которые, таким
образом, опустились до уровня рядового пролетариата, были того же рода, что и
лишенные владений и доведенные до нищеты «свободные бедняки» римской Италии.
Эта сельскохозяйственная революция в Северной Америке с ее двойной раковой
опухолью в виде негритянского рабства и белого нищенства была лишь исключительно
быстрым и беспощадным приложением подобной же сельскохозяйственной революции,
которая заняла три столетия английской истории. Англичане не вводили в
употребление рабский труд, но они подражали римлянам и предвосхищали
американских плантаторов и животноводов, сгоняя с земли свободных крестьян в
целях экономической выгоды олигархии, превращая пашенные земли в пастбища и
огораживая общинные земли. Эта современная сельскохозяйственная революция на
Западе, тем не менее, не была главной причиной оттока населения из сельской
местности в города нашего мира. Основной движущей силой, стоявшей за этим
оттоком, был не натиск аграрной революции, заменившей крестьянские участки
латифундиями, а притяжение городской пролетарской революции, заменившей ручной
труд паровыми машинами.
Когда эта западная промышленная революция впервые вспыхнула
на английской почве примерно сто пятьдесят лет назад, ее выгодность казалось
настолько огромной, что перемены приветствовались и благословлялись
энтузиастами идеи «прогресса». Хотя и осуждая многочасовой рабочий день, на
который было осуждено первое поколение фабричных рабочих, включая женщин и
детей, а также убогие условия новой жизни и на фабрике, и в быту, панегиристы
промышленной революции были уверены, что это временное зло, которое можно и
должно устранить. Ироническим последствием этого явилось то, что радужные
пророчества во многом сбылись, однако столь самоуверенно предсказанное
блаженство в земном раю было уравновешено новым бедствием, которое столетие
назад скрывалось и от глаз оптимистов, и от глаз пессимистов[67]. С одной
стороны, детский труд был отменен, женский труд – соразмерен с женскими силами,
рабочий день был сокращен, условия жизни и труда дома и на фабрике, вне всякого
сомнения, улучшились. Однако мир, поглотив богатства, выработанные волшебной
промышленной машиной, в то же время был омрачен призраком безработицы. Всякий
раз, когда городской пролетарий получает свое пособие по безработице, он
вспоминает, что живет в обществе, не являясь его полноправным членом.
Сказанного достаточно, чтобы указать на некоторые из того
множества источников, откуда набирался внутренний пролетариат современного
западного общества. Теперь мы должны задаться вопросом, находим ли мы и здесь,
как в других местах, два настроения насилия и доброты в реакции западного
пролетариата на суровое испытание. И если оба настроения присутствуют, то какое
из двух является преобладающим?
Проявления воинствующего настроения на дне западного мира
сразу становится очевидным. Нет необходимости перечислять кровавые революции
последних ста пятидесяти лет. Однако когда мы обращаемся за доказательствами
существования противодействующего и созидательного духа доброты, к сожалению,
его следы трудно найти. Правда, многие пострадавшие от зол, перечисленных выше
в данной главе, – изгнанные жертвы религиозных или политических преследований,
высланные африканские рабы, сосланные каторжники, оторванные от земли крестьяне
– сделали добро, если не в первом, то во втором или третьем поколении в новых
условиях, в которых они оказались. Это может послужить иллюстрацией способности
западной цивилизации к восстановлению, однако отнюдь не вознаграждает наш
поиск. Все это варианты решения проблемы пролетариата, старающиеся избежать
необходимости выбора между насильственным и добрым ответом, избежав самих
условий пролетарской жизни. В нашем поиске современных западных представителей
доброго ответа мы найдем лишь английских «квакеров»[68], немецких
анабаптистов[69], изгнанных из
Моравии, и голландских меннонитов.[70] И даже эти редкие типы ускользнут из наших
рук, ибо мы обнаружим, что они перестали быть членами пролетариата.
В первом поколении английского «Общества друзей» дух
насилия, который нашел выход в голословных пророчествах и в шумных нарушениях
приличий церковной службы, навлек на своих представителей беспощадное наказание
как в Англии, так и в Массачусетсе. Эта жестокость, тем не менее, была быстро и
надолго вытеснена добротой, которая стала характерным для квакеров жизненным
правилом. На какое‑то время казалось, что «Общество друзей» могло бы сыграть в
западном мире классическую роль первоначальной христианской Церкви, основываясь
на духе и практике которой, как она изложена в Деяниях святых апостолов, они
искренне строили свою жизнь. Однако хотя «друзья» никогда не изменяли правилу
доброты, они давно сошли с пролетарской тропы и в известном смысле стали жертвами
своих добродетелей. Можно даже сказать, что они достигли материального
процветания назло самим себе. Во многом их успех в бизнесе можно свести к тем
значительным решениям, которые они принимали не из выгоды, но по требованию
совести. Первый шаг в их непреднамеренном паломничестве к раке материального
процветания был сделан совершенно невольно, когда они переселялись из сельской
местности в города. Делали они это не потому, что соблазнились выгодами
городской жизни, но потому что это казалось самым простым способом примирить
сознательный отказ от уплаты десятины в пользу епископальной Церкви с равно
сознательным отказом сопротивляться сборщику десятины силой. Впоследствии,
когда квакерские пивовары взялись изготавливать какао, поскольку они
неодобрительно относились к опьяняющим напиткам, и когда квакерские розничные
торговцы взялись ставить на своих товарах твердые цены, поскольку они не
решались менять свои цены в процессе «рыночной торговли», они сознательно
подвергали свои состояния риску из‑за своей веры. Однако в конечном итоге они
лишь иллюстрировали истинность той поговорки, что «честность – лучшая
политика», и истинность заповеди блаженства – «блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю».{8} И это было еще одним лишним доказательством
того, что они вычеркнули свою веру из списка пролетарских религий. В отличие от
служивших им примером для подражания апостолов, они никогда не были ревностными
миссионерами. Они остались группой избранных, и благодаря их правилу, согласно
которому квакер переставал быть членом «Общества», если женился на
представительнице другого класса, количество их оставалось настолько же низким,
насколько высоким – качество.,
Истории двух групп анабаптистов, хотя во многих отношениях и
весьма отличных от квакеров, в одном пункте похожи на те, которых мы уже
касались. Когда после насильственных начинаний они усвоили правило доброты, они
вскоре перестали быть пролетариями.
Потерпев пока что неудачу в нашем поиске новой религии,
отражающей опыт западного внутреннего пролетариата, мы можем напомнить себе о
том, что древнекитайский внутренний пролетариат нашел религию в махаяне,
которая была, без всякого сомнения, видоизменением предшествующей буддийской
философии. В марксистском коммунизме мы имеем в нашей среде печально знаменитый
пример современной западной философии, которая на своем веку превратилась, вне
всякого сомнения, в пролетарскую религию, вступив на путь насилия и пытаясь
создать свой Новый Иерусалим на равнинах России силой оружия.
Если бы у Карла Маркса какой‑нибудь викторианский censor
тогит[71] потребовал назвать свое духовное имя и адрес,
то он описал бы себя как ученика философа Гегеля, применяющего гегелевскую
диалектику к экономическим и политическим явлениям его времени. Однако те
элементы, которые придали коммунизму взрывную силу, не были гегелевским
созданием. Они несли на своем лице следы происхождения от наследственного
религиозного верования Запада – христианства, которое и спустя три столетия
после философского вызова со стороны Декарта все еще каждый западный ребенок
впитывал с молоком матери и которое каждый западный мужчина и каждая западная
женщина вдыхали вместе с тем воздухом, которым они дышали. И даже если мы не
сможем найти следы подобных элементов в христианстве, то мы можем найти их в
иудаизме, этом «окаменевшем» родителе христианства, который был сохранен
еврейской диаспорой и улетучился вместе с открытием еврейских гетто и
эмансипацией европейских евреев в поколении Марксовых дедов. В качестве своего
божества Маркс взял вместо Яхве богиню «Историческую Необходимость», вместо
еврейского избранного народа – внутренний пролетариат западного мира, а
Мессианское Царство он понимал как диктатуру пролетариата. Однако заметные
черты еврейского апокалипсиса выступают за этой обветшалой маской.
Тем не менее, похоже, что религиозная фаза в эволюции
коммунизма могла оказаться недолговечной. Консервативный национал‑коммунизм
Сталина, по‑видимому, одержал решительную победу над революционным всемирным
коммунизмом Троцкого на русском поле битвы. Советский Союз более не является
обществом вне закона, не имеющим общения со всем остальным миром. Он вернулся к
тому, чем была Российская империя при Петре или Николае, – он стал великой
державой, выбирающей своих союзников и врагов, основываясь на государственных
интересах и независимо от идеологических соображений. И если Россия сдвинулась
«вправо», то ее соседи сдвинулись «влево». Не только неудача немецкого национал‑социализма
и итальянского фашизма, но, по‑видимому, непреодолимое вторжение планирования в
не организованную прежде экономику демократических стран подтверждает, что
социальная структура всех стран в ближайшем будущем, вероятно, будет и
национальной, и социалистической. Капиталистические и коммунистические режимы,
по‑видимому, не только продолжают существовать бок о бок. Вполне может быть,
что капитализм и коммунизм – подобно вмешательству и невмешательству из
саркастического афоризма Талейрана – становятся различными названиями весьма
похожего явления. Если это так, то мы должны признать, что коммунизм потерял
свою будущность в качестве революционной пролетарской религии. Во‑первых,
потому что он выродился из революционной панацеи для всего человечества в чисто
локальную разновидность национализма. А во‑вторых, ввиду того, что особое
государство, которое поработило его, уподобилось другим государствам
современного мира, приблизившись к стандартному типу последних.
Результат нашего исследования, по‑видимому, будет
заключаться в том, что хотя данные о пополнении внутреннего пролетариата в
современной истории западного мира, по крайней мере, столь же обильны, сколь и
данные из истории любой другой цивилизации, до сих пор существует необыкновенно
мало данных в западной истории о закладывании каких‑либо оснований пролетарской
вселенской церкви или даже о возникновении каких‑либо сильных, порожденных
пролетариатом «высших религий». Как можно объяснить этот факт?
Мы провели множество параллелей между западным обществом и
эллинским, однако между ними есть и одно существенное различие. Эллинское
общество не получило свою вселенскую церковь от своего минойского
предшественника. Местные языческие условия, в которых произошел его надлом в V
в. до н. э., были условиями, в которых оно родилось. Однако местное язычество,
даже если оно и приближается к современному состоянию западной цивилизации,
некогда имевшей право именовать себя западным христианством, несомненно, не
было ее первоначальным состоянием. Кроме того, даже если нам и удалось бы
избавиться от нашего христианского наследия, процесс отступничества был бы
медленным и трудным, и, имея наилучшие в мире намерения, мы вряд ли довели бы
его до конца со всей тщательностью, какой бы желали. Ибо, как‑никак, нелегко
избавиться от традиции, в которой мы и наши предки родились и воспитывались
более чем на протяжении двенадцати столетий – с того времени, когда западное
христианство родилось в виде немощного младенца из лона Церкви. Когда Декарт,
Вольтер, Маркс, Макиавелли, Гоббс, Муссолини и Гитлер делали все от себя
зависящее для дехристианизации западной жизни, мы могли бы ожидать, что их
чистка и окуривание лишь частично были эффективны. Христианский вирус, или
эликсир, находится в западной крови (если, в действительности, нет совершенно
иного наименования для этой необходимой жидкости), и трудно предположить, чтобы
духовное устройство западного общества могло когда‑либо быть очищено до
язычества эллинской чистоты.
Кроме того, христианский элемент в западной системе не
только вездесущ. Он многообразен. И одним из его любимых приемов является
избежание уничтожения при помощи постепенного введения сильнодействующей
тинктуры своего собственного существа в сами дезинфицирующие средства, которые
столь энергично применяются для его стерилизации. Мы уже отмечали христианскую
составляющую в коммунизме, который претендовал на то, чтобы стать
антихристианским приложением современной западной философии. Современные
антизападнически настроенные пророки доброты Толстой и Ганди никогда не
пытались скрывать влияние христианства на свои идеи.
Среди множества различных мужчин и женщин, которые лишились
своего наследства и подверглись суровому испытанию, будучи занесенными в ряды
западного внутреннего пролетариата, больше всех страдали примитивные
африканские негры, в качестве рабов перевезенные в Америку. В них мы находим
западную аналогию рабов‑иммигрантов, согнанных в римскую Италию со всего
средиземноморского побережья в течение двух столетий до нашей эры. Мы замечаем,
что американо‑африканские плантационные рабы, так же как и итало‑восточные,
дали на этот ужасающий социальный вызов религиозный ответ. Сравнивая тех и
других ранее в нашем «Исследовании», мы останавливались на их схожести. Однако
существует и вполне значительное различие. Египетские, сирийские и анатолийские
рабы‑иммигранты находили утешение в религиях, которые они принесли с собой.
Африканцы обращались за утешением к наследственной религии своих господ.
Чем можно объяснить эту разницу? Отчасти, несомненно,
различием в социальном прошлом двух этих групп рабов. Плантационные рабы
римской Италии в значительной степени отбирались из древнего и глубоко
культурного восточного населения, дети которых, как можно предположить,
старались сохранить свое культурное наследие. В то же время наследственная
религия африканских негров‑рабов не в большей степени, чем любой другой элемент
их культуры, была способна противостоять гораздо более превосходящей
цивилизации их белых хозяев. Это частичное объяснение различия результатов.
Однако чтобы дать полное объяснение, необходимо принять в расчет и культурные
различия между двумя группами хозяев.
Одно дело владеть духовным сокровищем и совсем другое –
передавать его. Чем больше мы над этим думаем, тем более удивительным будет для
нас то, что эти руки христианских рабовладельцев были способны передать своим
примитивным языческим жертвам тот духовный хлеб, для осквернения которого они
сделали все возможное, прибегнув к святотатственному акту порабощения своих
собратьев. Как мог надсмотрщик‑проповедник тронуть сердце раба, от которого он
был морально отчужден, причинив ему такое страшное зло? Христианская религия
действительно должна была воодушевляться непреодолимой духовной силой, раз она
смогла убедить неофитов при таких условиях. А поскольку религия не имеет иного
местожительства на Земле, кроме как в человеческих душах, отсюда следует, что
еще должны быть христианские мужчины и женщины за пределами нашего
неоязыческого мира. «Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников?»[72] Взгляд на поле деятельности миссии среди
американских рабов показывает нам, что некоторые из этих упорствующих христиан
осуществляют активную деятельность, ибо американский новообращенный негр‑христианин,
конечно же, в действительности не был обязан своим обращением помощи
плантационного надсмотрщика с Библией в одной руке и кнутом – в другой. Он был
обязан своим обращением Джону Дж. Фи[73] и Петру Клаверу.[74]
В этом чуде обращения рабов в религию своих хозяев мы можем
увидеть, как знакомый раскол между внутренним пролетариатом и правящим
меньшинством в западной социальной системе исцеляется христианством, от
которого наше правящее меньшинство всячески старалось отказаться. Обращение
американских негров – это только одна среди множества побед христианской
миссионерской деятельности последнего времени. В нашем подавленном войной
поколении, в котором еще недавно казавшиеся блестящими перспективы
неоязыческого правящего меньшинства быстро стали тускнеть, жизненные соки снова
заметно текут по всем ветвям западного христианства. Это зрелище показывает,
что, возможно, следующая глава западной истории может и не последовать в том
направлении, в котором развивалась последняя глава эллинской истории. Вместо
того чтобы быть свидетелем того, как какая‑то новая церковь вырастает на
вспаханной почве внутреннего пролетариата, чтобы послужить в качестве
душеприказчика и наследника надломленной и распадающейся цивилизации, мы можем
увидеть, как цивилизацию, пытавшуюся и не сумевшую остаться единственной,
помимо ее собственной воли, спасает от фатального падения, подхватив на свои
руки, наследственная церковь, которую она тщетно стремилась оттолкнуть от себя
и держать на почтительном расстоянии. В этом случае нетвердая цивилизация,
постыдным образом поддавшаяся опьянению эффектной победой над природой и употребившая
трофеи, чтобы собирать сокровища для себя, а не в Бога богатеть[75], может
получить отсрочку приговора (который она вынесла себе сама) в виде
протаптывания трагической тропы κόρος – ϋβρις – άτη . Или,
переводя эти греческие слова на язык христианских образов, [можно сказать], что
отступническое западное христианство может получить благодать нового рождения в
виде Respublica Christiana, которая была прежним и лучшим идеалом его
устремлений.
Возможно ли это духовное возрождение? Задавшись вопросом
Никодима: «Неужели может он (человек) в другой раз войти в утробу матери своей
и родиться?», мы можем получить ответ его Учителя: «Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»{9}.
4. Внешний пролетариат
Внешний пролетариат, так же как и внутренний, появляется в
результате отделения от правящего меньшинства цивилизации, находящейся в
процессе надлома, и раскол, к которому приводит это отделение, в этом случае
очевиден. Ибо если внутренний пролетариат продолжает быть в пространственном
отношении смешан с правящим меньшинством, от которого отделен моральной
пропастью, внешний пролетариат не только морально отчужден, но также и
физически отделен от правящего меньшинства границей, которую можно обозначить
на карте.
Кристаллизация подобной границы в действительности является
верным признаком того, что отделение произошло. Ибо пока цивилизация находится
в процессе роста, она не имеет твердых фиксированных границ, кроме фронтов, на
которых она сталкивается с другой цивилизацией своего вида. Подобные
столкновения между двумя или более цивилизациями дают начало явлениям,
рассмотреть которые мы еще будем иметь случай далее в данном «Исследовании».
Однако сейчас мы не будем обращать внимания на эти обстоятельства и ограничимся
ситуацией, в которой соседями цивилизации оказываются не другие цивилизации, но
примитивные общества. При этих условиях мы обнаружим, что пока цивилизация
находится в процессе роста, ее границы неопределимы. Если мы встанем в центр
растущей цивилизации и отправимся из него в путешествие вовне, пока рано или
поздно не окажемся в окружении, которое является, без всякого сомнения,
совершенно примитивным, то мы будем не в состоянии в какой‑либо точке нашего
путешествия провести линию и сказать: «Здесь цивилизация заканчивается, и мы
входим в примитивный мир».
Фактически, когда творческое меньшинство успешно выполняет
свою роль в жизни растущей цивилизации и искра, которую оно зажгло, «светит
всем в доме»{10}, этот свет, поскольку он излучается вовне, не задерживается
стенами дома, ибо на самом деле стен нет и свет не скрыт от соседей,
находящихся снаружи. Свет распространяется вокруг, в силу своей природы, до тех
пределов, которых может достичь, пока не достигает своего крайнего предела.
Переходные ступени бесконечно малы, и невозможно провести границу, за которой
последнее мерцание сумерек постепенно прекращается и наступает нераздельное
царство тьмы. Фактически, несущая сила излучения растущей цивилизации столь
велика, что хотя цивилизации – относительно редкое достижение человечества, им
все же давно удалось проникнуть, по крайней мере в какой‑то степени, во всю
массу сохранившихся примитивных обществ. Невозможно было бы найти где‑либо
примитивное общество, которое совершенно бы избежало влияния той или иной
цивилизации. В 1935 г., например, было открыто ранее неизвестное общество во
внутренних районах Папуа – Новой Гвинеи{11}. Это общество обладало
техникой интенсивного земледелия, которую в некое незапамятное время, должно
быть, унаследовала от какой‑то неизвестной цивилизации.
Эта вездесущность влияния цивилизаций на то, что осталось от
примитивного мира, поразит нас еще сильнее, когда мы взглянем на данное явление
с точки зрения примитивных обществ. Если, с другой стороны, мы взглянем на это
явление с точки зрения цивилизации, то будем не в меньшей степени поражены тем
фактом, что сила излучаемого влияния уменьшается по мере расширения области
распространения. Оправившись от нашего первого изумления, вызванного открытием
влияния эллинского искусства на монету, выбитую в Британии в последнее столетие
до нашей эры, или на саркофаги, вырезанные в Афганистане в первом столетии
нашей эры, мы замечаем, что британские монеты выглядят как карикатура на
македонский оригинал, а афганские саркофаги представляют собой низкопробный
продукт «коммерческого искусства». На этой степени отдаления мимесис переходит
в пародию.
Мимесис вызван очарованием, и теперь мы можем увидеть, что
очарование, действующее во время роста цивилизации благодаря преемственности
творческого меньшинства, сохраняет дом не только от внутреннего разделения, но
и от нападений со стороны соседей – по крайней мере постольку, поскольку этими
соседями являются примитивные общества. Где бы растущая цивилизация ни вступала
в контакт с примитивными обществами, они начинают подражать ее творческому
меньшинству, равно как ему подражает и нетворческое большинство самой
цивилизации. Однако если это обычное отношение между цивилизацией и
примитивными обществами, продолжающееся до тех пор, пока цивилизация находится
в процессе роста, то глубокие изменения наступают тогда, когда цивилизация
надламывается и входит в стадию распада. Творческое меньшинство, которое
завоевывало добровольную преданность благодаря очарованию, оказываемому его
творческой деятельностью, сменяется правящим меньшинством, которое за
недостатком очарования полагается на силу. Окружающие примитивные народы уже не
очаровываются, но начинают испытывать неприязнь. Эти скромные ученики растущей
цивилизации отказываются тогда от ученичества и становятся тем, что мы назвали
внешним пролетариатом.
Находясь в уже надломленной цивилизации, они более не
составляют ее часть[76].
Излучение любой цивилизации можно разложить на три элемента
– экономическое, политическое и культурное, и пока общество находится в
процессе роста, все три элемента, по‑видимому, излучают с равной силой или, говоря
языком не физических понятий, но человеческих, равно очаровывают. Однако как
только цивилизация перестает расти, очарование ее культуры исчезает. Силы ее
экономического и политического излучения, возможно (а на самом деле –
наверняка), продолжат расти быстрее, чем ранее, поскольку успешная культивация
ложных религий Маммоны, Марса и Молоха является отличительной характеристикой
надломленных цивилизаций. Однако поскольку культурный элемент составляет
существо цивилизации, а экономический и политический элементы – относительно
незначительные проявления ее жизни, то наиболее эффектные победы экономического
и политического излучения будут несовершенными и сомнительными.
Если мы взглянем на это изменение с точки зрения примитивных
народов, то выразим ту же самую истину, сказав, что их подражание мирным
искусствам надломленной цивилизации закончилось, но что они продолжают
подражать ее усовершенствованиям – техническим приспособлениям – в области
промышленности, войны и политики, причем не для того чтобы стать едиными с этой
цивилизацией (что было их стремлением, пока она их очаровывала), но для того
чтобы можно было эффективнее защищаться от насилия, ставшего теперь ее наиболее
заметной отличительной чертой.
В нашем предшествующем обзоре опыта и реакции внутреннего
пролетариата мы видели, как путь насилия начинает привлекать его. Мы также
видели, как пролетариат, не устояв перед этим соблазном, лишь навлекает на себя
несчастье. И приверженцы Февды[77], и приверженцы
Иуды[78] неизбежно гибнут от меча. Лишь когда приходит
пророк доброты, внутренний пролетариат получает шанс захватить своих
завоевателей в плен. Внешний пролетариат, если он выберет путь насилия (а он
его почти наверняка выберет), окажется не в столь невыгодном положении. Тогда
как внутренний пролетариат всецело находится, ex hypothesi[79],
в пределах досягаемости правящего меньшинства, по меньшей мере, какая‑то часть
внешнего пролетариата, вероятно, оказывается вне пределов военного воздействия
правящего меньшинства. В соревновании, которое начинается в результате этого,
надломленная цивилизация излучает насилие, а не притягательный мимесис. В этих
условиях ближайшие члены внешнего пролетариата, вероятно, будут завоеваны и
присоединены к внутреннему пролетариату, однако при этом будет достигнута
точка, в которой качественное превосходство правящего меньшинства в военной
силе будет уравновешено протяженностью его линий коммуникации.
Когда достигнута эта стадия, заканчиваются изменения в
природе контактов между данной цивилизацией и ее соседями‑варварами. Пока
цивилизация находится в процессе роста, ее родина, где она господствует в
полной мере, укрыта, как мы видели, от воздействия нецивилизованной дикости
обширными порогами или буферными зонами, в которых цивилизация незаметно
переходит в дикость, проходя долгий ряд мелких ступеней. С другой стороны,
когда цивилизация надломлена и впадает в раскол, когда являющиеся результатом
этого военные действия между правящим меньшинством и внешним пролетариатом
перестают быть отступлением с боями и становятся позиционной войной, мы
обнаруживаем, что эта буферная зона исчезает. Географический переход от
цивилизации к варварству теперь уже не постепенен, но внезапен. Используя
латинские слова, которые показывают одновременно и родственность, и контраст
между двумя типами контакта, можно сказать, что limen, или порог,
который был зоной, теперь заменяет limes, или военная граница, которая
является линией, имеющей длину, но не ширину. Вдоль этой линии тщетно ведущее
борьбу правящее меньшинство и непобедимый внешний пролетариат теперь
сталкиваются друг с другом с оружием в руках. Этот военный фронт является
преградой для распространения любого социального излучения, за исключением
военной техники – той статьи социального изменения, которая способствует войне,
а не миру и между теми, кто дает, и теми, кто заимствует ее.
Социальные явления, которые отсюда следуют, когда эти
военные действия становятся постоянными вдоль limes, привлекут наше
внимание позднее. Сейчас же достаточно упомянуть тот важнейший факт, что это
временное и ненадежное равновесие сил неизбежно склоняется по прошествии
времени в пользу варваров.
* * *
Эллинский пример
Стадия роста в эллинской истории богата иллюстрациями limen’a,
или буферной зоны, которой здоровая цивилизация, находящаяся в процессе роста,
стремится окружить свою первоначальную родину. В направлении континентальной
Европы сущность Эллады незаметно исчезала севернее Фермопил в полуэллинской
Фессалии, а западнее Дельф – в полуэллинской Этолии. Эти области, в свою
очередь, были защищены полу‑полуэллинскими Македонией и Эпиром от
неразбавленного варварства Фракии и Иллирии. В направлении Малой Азии зоны
убывания эллинского влияния в греческих городах азиатского побережья
представлены Карией, Лидией и Фригией. На этой азиатской окраине мы видим в
свете исторических данных, что эллинизм первое время пленял варварских
завоевателей. Очарование было столь сильным, что во вторую четверть VI в. до н.
э. конфликт между филэллинами и эллинофобами выдвинулся на первый план в
лидийской политике. Даже когда претендент на лидийский престол филэллин
Панталеон был побежден своим единокровным братом Крезом[80], этот
приверженец антиэллинской партии оказался до такой степени неспособным идти
против проэллинского течения, что в такой же мере прославился, великодушно
покровительствуя эллинским святыням, в какой прославился, легковерно
консультируясь у эллинских оракулов.
Даже во внутренних районах за морем мирные отношения и
постепенный переход, по‑видимому, был правилом. Эллинизм быстро распространялся
во внутренних районах италийской Великой Греции, и самым ранним упоминанием о
Риме в сохранившейся до наших дней литературе является сообщение, содержащееся
в уцелевшем фрагменте утраченной работы ученика Платона Гераклида Понтийского,
где это латинское государство описывается как «эллинский город‑государство» (πόλιν
Έλλενίδα ‘Pώμην).
Таким образом, на окраинах эллинского мира в период его
роста мы видим добрую фигуру Орфея, очаровывающего окружающих варваров и даже
вдохновляющего их передавать его волшебную музыку, исполняемую на их
собственных, более грубых музыкальных инструментах, еще более примитивным
народам, живущим далее в глубь континента. Однако эта идиллическая картина
мгновенно исчезает, когда эллинская цивилизация входит в стадию надлома. Как
только гармония нарушается диссонансом, очарованные слушатели снова
пробуждаются. И снова впав в свое дикое состояние, они бросаются теперь на
зловещего тяжеловооруженного воина, который появляется из‑за плаща доброго
пророка.
Военное противодействие внешнего пролетариата эллинской
цивилизации было наиболее яростным и эффективным в Великой Греции, где бруттии[81] и луканцы[82] начали теснить греческие города и занимать их
один за другим. В течение ста лет, начавшихся в 431 г. до н. э. войной, которая
была «началом великих бед для Эллады», несколько уцелевших общин из тех, что
некогда процветали в Великой Греции, призывали кондотьеров со своей родины,
чтобы те не дали окончательно оттеснить их в море. И это беспорядочное
подкрепление принесло настолько мало пользы в сдерживании оскского потока[83], что варвары
уже успели пересечь Мессинский пролив, прежде чем все движение было резко
прервано вторжением эллинизированных римских родственников осков. Римская
государственная политика и римское оружие спасли не только Великую Грецию, но и
весь Италийский полуостров для эллинизма, напав на осков с тыла и навязав общий
римский мир и италийским варварам, и италийским грекам.
Таким образом, южноиталийский фронт между эллинизмом и
варварством был уничтожен, и впоследствии успешные подвиги римского оружия расширили
владения эллинского правящего меньшинства в континентальной Европе и Северо‑Западной
Африке почти настолько же, насколько Александр Македонский расширил их в Азии.
Однако следствием этой военной экспансии явилось не уничтожение фронтов против
варваров, но увеличение их протяженности и удаленности от центра власти. За
несколько столетий они стали устойчивыми. Однако распад общества продолжал идти
своим ходом, пока в конце концов варвары не прорвались.
Теперь мы должны задаться следующим вопросом: можем ли мы
различить в реакции внешнего пролетариата на давление эллинского правящего
меньшинства какие‑либо признаки не только насильственного, но и доброго ответа,
и можем ли мы приписать внешнему пролетариату какую‑либо творческую
деятельность?
На первый взгляд может показаться, что, по крайней мере, в
эллинском случае ответ на оба вопроса будет отрицательным. Мы можем наблюдать
нашего антиэллински настроенного варвара в различных положениях и состояниях. В
лице Ариовиста он изгнан с поля битвы Цезарем; в лице Арминия[84] он удерживает свои позиции против Августа; в
лице Одоакра он мстит Ромулу Августулу. Однако во всякой войне существуют три
альтернативы – поражение, бегство с поля битвы и победа, и в каждой из
альтернатив однообразно властвует насилие, а творчество не в ходу. Тем не
менее, нас может поощрить на дальнейшее исследование напоминание о том, что и
внутренний пролетариат способен в такой же мере демонстрировать насилие и
бесплодие в своих ранних реакциях. Доброта же, которая в конечном счете находит
свое выражение в таких мощных произведениях творчества, как «высшая религия» и
вселенская церковь, обычно требует и времени, и тяжелого труда для того, чтобы
завоевать влияние.
Что касается доброты, например, то мы можем, по крайней
мере, провести некоторое различие в степени насилия различных варварских
вооруженных отрядов. Разграбление Рима полуэллинизированным вестготом Аларихом[85] в 410 г. было не таким безжалостным, как
последующее разграбление того же самого города вандалами и берберами в 455 г.
или же разграбление, которому Рим мог подвергнуться от Радагайса[86] в 406 г. На относительной доброте Алариха
подробно останавливается Августин Блаженный:
«Варварская необузданность оказалась кроткой непривычным для
войны образом; что в качестве убежища народу, который должен был получить
пощаду, были выбраны и указаны обширнейшие базилики, где никого не убивали,
откуда никого не брали в плен, куда сострадательные враги приводили многих для
освобождения, откуда не уводили в плен никого даже самые жестокие из них»{12}.
Есть также любопытные свидетельства, относящиеся к шурину и
наследнику Алариха Атаульфу[87], переданные
учеником Августина Орозием[88] на основании известий «одного благородного
человека из Нарбонна, который сделал выдающуюся карьеру при императоре
Феодосии»:
«Этот благородный человек сказал нам, что в Нарбонне он
чрезвычайно сблизился с Атаульфом, и что тот часто рассказывал ему (со всей
серьезностью свидетельских показаний) историю его собственной жизни, которая
часто была на устах этого варвара, обладавшего широкой душой, жизненностью и
гением. Согласно собственной истории Атаульфа, он начал жизнь со страстного
желания стереть всякую память об имени Рима, с идеи превращения всех римских
владений в империю, которая бы стала – и была известна – как Империя готов…
Однако со временем опыт убедил его в том, что, с одной стороны, готы по причине
своего бесконтрольного варварства совершенно неспособны жить подчиняясь закону,
а с другой стороны, было бы преступлением изгонять закон из государства,
поскольку государство перестает быть самим собой, когда закон перестает править
им. Когда Атаульф прозрел эту истину, он понял, что мог бы, по крайней мере,
претендовать на вполне досягаемую славу, использовав жизненную энергию готов
для восстановления имени Рима во всем его былом величии – а, возможно, даже и в
еще большем»{13}.
Этот отрывок является locus classicus[89] для доказательства перехода от насилия к
доброте в этосе эллинского внешнего пролетариата, и в этом свете мы можем
определить некоторые сопутствующие признаки духовного творчества или, по
крайней мере, оригинальности в частично смягчившихся варварских душах.
Например, сам Атаульф, подобно своему шурину Алариху, был
христианином. Но его христианство не было христианством Августина Блаженного и
православной Церкви[90]. На
европейском фронте варвары‑захватчики этого поколения, если они не были
язычниками, то были арианами[91]. И хотя их
первоначальное обращение именно в арианство, а не в православие, было делом
случая, последующая их преданность арианству, после того как эта ересь утратила
свою временную популярность в христианизированном эллинском мире, была
результатом обдуманного предпочтения. Их арианство было с этого времени знаком
социального отличия завоевателей от завоеванного населения, умышленно
изношенным и иногда дерзко выставляемым напоказ. Это арианство большинства
тевтонских государств‑преемников Римской империи удерживалось большую часть
периода междуцарствия (375‑675 гг.). Папа Григорий Великий (590‑604), которого,
возможно, более чем какого‑либо другого человека можно рассматривать в качестве
основателя новой цивилизации западного христианства, возникшей из пустоты,
сыграл важную роль в завершении этой арианской главы варварской истории,
обратив в православие лангобардскую королеву Теоделинду[92]. Франки
никогда не были арианами, однако благодаря обращению Хлодвига и его крещению в
Реймсе (496 г.) перешли прямо от язычества к православию, сделав выбор, который
в огромной степени помог пережить им период междуцарствия и построить
государство, ставшее политическим краеугольным камнем новой цивилизации.
Если арианство, которое неофиты из варваров приняли уже в
готовом виде, стало в конечном счете отличительным знаком этих особых
варварских отрядов, то на других границах Империи были другие варвары, которые
проявляли в своей религиозной жизни определенную оригинальность, воодушевляясь
не одной кастовой гордостью, но чем‑то более позитивным. На границах Британских
островов варвары «кельтской окраины», обратившиеся в православное христианство,
а не в арианское, видоизменили его, приспособив к собственному варварскому
наследию. На границе с арабским участком Афразийской степи варвары, обитавшие
по ту сторону границы, проявили оригинальность еще более высокого уровня. В
творческой душе Мухаммеда излучение иудаизма и христианства превратилось в
духовную силу, которая вылилась в новую «высшую религию» ислама.
Если мы продолжим наше исследование в ином направлении и
рассмотрим предшествующую стадию, то обнаружим, что эти религиозные реакции,
которые мы уже отмечали, не были первой реакцией примитивных народов на излучение
эллинской цивилизации. Всякая подлинно и всецело примитивная религия в том или
ином виде представляет собой культ плодородия. Примитивное общество, в
основном, поклоняется своей собственной воспроизводящей силе, проявляющейся в
рождении детей и в производстве пищи, а поклонение разрушительным силам или
отсутствует, или играет второстепенную роль. Однако поскольку религия
примитивного человека всегда является правдивым отражением его социальных
условий, то в его религии обязательно происходит революция, когда его
социальная жизнь резко меняется, вступив в контакт с чуждой социальной
системой, одновременно близкой и враждебной. Вот что происходит, когда
примитивное общество, которое постепенно, мирным путем впитывало благотворные
влияния растущей цивилизации, трагическим образом теряет из вида добрую фигуру
Орфея с его очаровывающей лирой и вместо этого внезапно сталкивается с
уродливым и устрашающим лицом правящего меньшинства надломленной цивилизации.
В этом случае примитивное общество превращается в часть
внешнего пролетариата, и в данной ситуации в жизни варварского общества
происходит революционная перестановка относительной важности производительной и
разрушительной деятельности. Война становится теперь всепоглощающим занятием
общества. А когда война становится более выгодной и более захватывающей, чем
обыденный круг жизни и общая задача добывания пищи, то как может Деметра или
даже Афродита надеяться противостоять Аресу как высшему выражению
божественного? Этот бог переделан под вождя божественного вооруженного отряда.
Мы уже встречались с божествами этого варварского племени в олимпийском
пантеоне, которому поклонялся ахейский внешний пролетариат минойской
талассократии. Мы видели также, что у этих обожествленных разбойников с Олимпа
были двойники в лице обитателей Асгарда[93], которым
поклонялся скандинавский внешний пролетариат Каролингской империи. Другой
пантеон того же рода был предметом поклонения тевтонских варваров за
европейскими границами Римской империи до того, как они обратились в арианство
или православие. Эвокацию этих хищнических божеств в собственном образе их
милитаризованных поклонников следует рассматривать как творческое создание,
которое должно быть поставлено в заслугу тевтонскому внешнему пролетариату
эллинского мира.
Тщательно собрав эти колоски творческой деятельности в сфере
религии, можем ли мы увеличить наш скудный урожай, снова прибегнув к аналогии?
«Высшие религии», которые являются знаменитыми открытиями внутреннего
пролетариата, часто ассоциируют с целым снопом творческой активности в сфере
искусства. Могут ли продемонстрировать соответствующие произведения искусства и
«низшие религии»?
Ответ, несомненно, будет утвердительным. Как только мы
попытаемся представить себе олимпийских богов, то увидим их такими, какими они
изображены в гомеровском эпосе. Эта поэзия связана с той религией настолько
неразрывно, насколько григорианское пение и готическая архитектура связаны с
западным католическим христианством. У греческой эпической поэзии Ионии есть
свои двойники в тевтонской эпической поэзии Англии и в скандинавской саге
Исландии. Скандинавская сага связана с Асгардом, а английский эпос, главным
уцелевшим шедевром которого является «Беовульф»,[94] – с Одином и его божественным comitatus[95],
как гомеровский эпос связан с Олимпом. Фактически, эпическая поэзия является
наиболее характерным и наиболее выдающимся продуктом реакции внешнего
пролетариата, единственным κτημα είς άεί (нетленным сокровищем), которое
их суровые испытания завещали человечеству. Никакая поэзия, являющаяся плодом
цивилизации, никогда не будет и не сможет быть равной «неутомимому блеску и
безжалостной остроте»{14} Гомера.
Мы уже приводили три примера эпической поэзии, и было бы
легко увеличить этот список и показать, что каждый из примеров был реакцией
внешнего пролетариата на цивилизацию, с которой он вступил в конфликт.
Например, «Песнь о Роланде»[96] является созданием европейского крыла внешнего
пролетариата сирийского универсального государства. Французские полуварвары‑крестоносцы,
которые прорвали пиренейский фронт Андалузского халифата Омейядов в XI столетии
христианской эры, вдохновили на создание произведения искусства, которое
является родителем всей поэзии на национальных языках, что была написана с того
времени в западном мире. «Песнь о Роланде» превосходит «Беовульф» по
исторической важности в такой же степени, в какой превосходит его по своим
литературным достоинствам[97].
5. Внешний пролетариат западного мира
Подходя к истории отношений между западным миром и теми
примитивными обществами, с которыми он столкнулся, мы можем выделить раннюю
стадию, на которой западное христианство, так же как и эллинизм на стадии
своего роста, привлекал неофитов своим очарованием. Наиболее выдающимися из
этих ранних неофитов были члены недоразвившейся скандинавской цивилизации, в
конечном итоге павшие жертвой духовного героизма цивилизации, которую они
атаковали при помощи вооруженной силы. Причем они пали жертвой как в своем
собственном логове на дальнем севере и в удаленных исландских поселениях, так и
в лагерях, основанных на христианских землях в северо‑восточной Британии, где
действовали «датские законы», и в Нормандии. Одновременное обращение венгерских
кочевников и живших в лесах поляков в равной степени было добровольным. Однако
этот ранний период западной экспансии также был отмечен насильственными
нападениями, далеко превосходившими те случавшиеся время от времени покорения и
изгнания примитивных соседей, которые можно отнести на счет ранних эллинов. Мы
имеем крестовые походы Карла Великого против саксов, а через два столетия –
крестовые походы саксов против славян, живших между Эльбой и Одером. Но эти
зверства были перекрыты в XIII–XIV столетиях истреблением пруссов, живших по ту
сторону Вислы, руками тевтонских рыцарей.
На северо‑западной границе западно‑христианского мира
повторяется та же самая история. Первой главой было мирное обращение англичан
группой римских миссионеров, однако за ней последовало насилие над
дальнезападными христианами, «завинчивание гаек», начавшееся с решения собора в
Уитби в 664 г. и достигшее своего пика в вооруженном вторжении в Ирландию
Генриха II Английского с одобрения папы в 1171 г. Но на этом история не
кончилась. Привычка «причинять неприятности», приобретенная англичанами во
время их продолжительной агрессии против остатков кельтской окраины в горах
Шотландии и болотах Ирландии, была перенесена за океан и применялась в ущерб
северо‑американским индейцам.
В процессе экспансии западной цивилизации по планете в
последние столетия импульс расширяющегося общества был настолько сильным, а
неравенство сил между западной цивилизацией и ее примитивными соперниками –
настолько существенным, что это движение беспрепятственно уничтожало, едва
достигнув, не просто изменчивый limes, но terminus[98] в форме естественной границы. В этом всемирном
наступлении Запада на арьергард примитивных обществ правилом были уничтожение,
изгнание или подчинение, а обращение являлось исключением. Действительно, мы
можем сосчитать по пальцам одной руки те примитивные общества, которые
современное западное общество приняло в качестве своих партнеров. Это
шотландские горцы – один из тех редких анклавов диких варваров, которые были
завещаны современному западному миру средневековым западным христианством. Это
маори в Новой Зеландии. И, наконец, это арауканы в варварских внутренних
районах чилийской провинции андского универсального государства, с которыми
испанцы общались начиная с испанского завоевания империи инков.
Контрольным примером является история присоединения
шотландских горцев после того, как эти белые варвары полезли на рожон в
якобитском восстании 1745 г.[99] Социальная пропасть между доктором Джонсоном
или Хорасом Уолполом и вооруженными отрядами, которые принц Чарли привел к
Дерби, вероятно, было не менее трудно преодолеть, чем пропасть между
европейскими поселенцами в Новой Зеландии или Чили и маори и арауканами.
Сегодня прапраправнуки косматых воинов принца Чарли, несомненно, занимают такое
же стандартизированное общественное положение, что и потомки тех южных
шотландцев и англичан в напудренных париках, которые оказались победителями в
последнем раунде борьбы, закончившейся всего лишь два столетия назад.
Прошедшего с тех пор времени было достаточно, чтобы сама суть борьбы изменилась
до неузнаваемости в народной мифологии. Шотландцы почти убедили англичан (если
не самих себя) в том, что шотландка[100], к которой
граждане Эдинбурга в 1700 г. относились точно так же, как граждане Бостона
этого же времени относились к украшенному перьями головному убору индейского
вождя, – это национальная одежда Шотландии. А кондитеры южной части Шотландии
теперь продают «Эдинбургскую скалу» в коробках, расписанных под шотландку.
Подобные варварские limites (военные границы),
которые можно найти в сегодняшнем вестернизированном мире, являются наследием
неевропейских цивилизаций, не полностью поглощенных западной социальной
системой. Среди них северо‑западная граница Индии представляет наибольший
интерес и важность, по крайней мере, для граждан одного из национальных
западных государств, взявшего на себя задачу по созданию универсального
государства для распадающейся индусской цивилизации.
В течение индусского «смутного времени» (ок. 1175‑1575) эта
граница не раз нарушалась тюркскими и иранскими предводителями грабительских
вооруженных отрядов. Она была запечатана с установлением в индусском мире
универсального государства, представленного империей Великих Моголов. Когда Pax
Mogulica[101] безвременно исчез в начале XVIII столетия
христианской эры, то варварами, которые устремились сюда, чтобы состязаться за
владение его трупом с маратхскими приверженцами[102] военной индусской реакции против чуждого
универсального государства, оказались восточно‑иранские рохиллы и афганцы. А
когда дело Акбара было выполнено еще раз руками чужеземцев и индусское
универсальное государство было установлено вновь в виде Британской империи,
защита северо‑западной границы оказалась намного более трудным из всех
пограничных обязательств, которые пришлось принять на себя британским
основателям империи в Индии. Использовались различные пограничные стратегии, и
ни одна из них не оказалась всецело удовлетворительной.
Первой альтернативой, которую британские основатели империи
испытали, было завоевание и присоединение всего восточно‑иранского порога
индусского мира вплоть до линии, вдоль которой империя Великих Моголов во
времена своего апогея граничила со своими собственными узбекскими государствами‑преемниками
в бассейне Окса‑Яксарта и с империей Сефевидов в Западном Иране. За смелой
разведкой, которую проводил начиная с 1831 г. Александр Берне[103], последовал
еще более рискованный шаг в виде отправки британско‑индийских вооруженных сил в
Афганистан в 1838 г. Однако эта амбициозная попытка «тоталитарного» решения
проблемы северо‑западной границы имела гибельное завершение. Ибо после первой
удачи, связанной с победоносным завоеванием всей Индии юго‑восточнее бассейна
реки Инд между 1799 и 1818 гг., британские основатели империи переоценили свои
собственные силы и недооценили решительность и действенность сопротивления,
вызванного их агрессией среди диких варваров, которых они намеревались
покорить. Фактически, операция закончилась в 1841‑1842 гг. катастрофой еще
более масштабной, чем итальянское поражение в Абиссинских горах в 1896 г.
Со времени этой сенсационной неудачи британская претензия на
ведение долговременной войны в горных районах никогда более чем в порядке
эксперимента не возрождалась, и отклонения в пограничной стратегии начиная с
завоевания Пенджаба в 1849 г. были скорее тактическими, нежели стратегическими.
Здесь фактически мы имеем limes того же самого политического порядка,
что и граница Рейна‑Дуная в Римской империи в течение первых столетий
христианской эры. Если и когда британско‑индийское правящее меньшинство
поддастся уговорам индусского внутреннего пролетариата и покинет место действия
своих становящихся все более и более неблагодарными трудов, будет интересно
посмотреть, каким образом этот эмансипированный внутренний пролетариат, став
хозяином в своем собственном доме, окажется способным решить проблему северо‑западной
границы.
Если мы теперь зададимся вопросом, побудили ли внешний
пролетариат, порожденный западным обществом на различных стадиях его истории в
различных частях света, брошенные ему вызовы к каким‑либо актам творчества в
сфере поэзии и религии, то мы сразу же вспомним о блестящих творческих
созданиях тех варварских арьергардов на кельтской окраине и в Скандинавии,
попытки которых дать рождение цивилизациям своими собственными средствами
оказались бесплодными из‑за их поражения в борьбе с нарождающейся цивилизацией
западного христианства. Эти столкновения уже обсуждались в данном
«Исследовании» в другой связи, и мы можем сразу же перейти к рассмотрению
внешнего пролетариата, порожденного расширяющимся западным миром в Новое время.
В разведке этого просторного ландшафта мы удовольствуемся единственным примером
варварского творчества в каждой из двух сфер, в которых научились искать.
В поэтической сфере мы можем отметить «героическую» поэзию,
развивавшуюся в XVI‑XVII столетиях христианской эры боснийскими варварами по ту
сторону юго‑восточной границы дунайской Габсбургской монархии[104]. Этот пример
представляет интерес, поскольку, на первый взгляд, кажется исключением из того
правила, что у внешнего пролетариата распадающейся цивилизации вряд ли будет
стимул на создание «героической» поэзии до тех пор, пока данная цивилизация не
пройдет свою стадию универсального государства и не впадет в состояние
междуцарствия, которое открывает путь для варварского Völkerwanderung. Однако
дунайская Габсбургская монархия, которая, с точки зрения Лондона или Парижа,
была не более чем одной из нескольких национальных держав в политически
разделенном западном мире, имела видимость и характерные свойства западного
универсального государства в глазах ее собственных подданных, а также в глазах
тех неевропейских соседей и врагов, против которых она служила «щитом» или
защитой всего тела западно‑христианского общества. Но члены этого общества,
которым она покровительствовала, оставались неблагодарными получателями благ
вселенской миссии монархии.
Боснийцы были арьергардом континентальных европейских
варваров, которым ранее пришлось пережить необычный – и необычайно болезненный
– опыт, оказавшись меж двух огней двух агрессивных цивилизаций – западной и
православно‑христианской. Излучение православно‑христианской цивилизации,
первым достигшее боснийцев, было отвергнуто ими в его православной форме и
оказалось способно повлиять на них л ишь в раскольнической форме богомильства.[105] Эта ересь привлекла к ним враждебное внимание
сразу двух христианских цивилизаций, и в этих обстоятельствах они
приветствовали приход османов‑мусульман, отказавшись от своего богомильства и
«отуречившись» в отношении религии. Впоследствии под оттоманской защитой эти
югославские неофиты‑мусульмане играли на оттоманской стороне оттоманско‑габсбургской
границы ту же самую роль, какую на габсбургской стороне играли югославские
христиане, изгнанные с территорий, подпавших под оттоманское управление. Два
противоположных направления среди югославов нашли одинаковое занятие в
совершении налетов на одной стороне – на Оттоманскую империю, а на другой – на
Габсбургскую монархию. На той же самой плодородной почве пограничной войны бок
о бок произрастали и процветали две независимые школы «героической» поэзии, обе
использовавшие сербо‑хорватский язык, по‑видимому, не оказывая друг на друга
никакого влияния.
Наш пример творчества внешнего пролетариата в религиозной
сфере заимствован из совсем другой части света, а именно касается границы между
Соединенными Штатами и северо‑американскими индейцами в XIX в.
Замечательно, что североамериканские индейцы оказались
способны дать вообще какой‑либо творческий религиозный ответ на вызов
европейской агрессии, принимая во внимание тот факт, что они почти постоянно
«находились в бегах» с момента прибытия первых английских поселенцев вплоть до
краха последней индейской попытки вооруженного сопротивления в войне сиу в 1890
г., спустя двести восемьдесят лет. Еще замечательнее то, что этот индейский
ответ носил добрый характер. Мы скорее бы ожидали, что индейские вооруженные
отряды или создадут языческую религию по своему подобию (ирокезский Олимп или
Асгард), или же усвоят самые воинственные элементы кальвинистского
протестантизма своих противников. Тем не менее, ряд пророков – от неизвестного
пророка делаваров в 1762 г. до Вовоки[106], появившегося
в Неваде около 1885 г., – проповедовали евангелие совершенно другого рода. Они
проповедовали мир и побуждали своих последователей отказываться от
использования всех технических материальных «усовершенствований», которые они
получили от своих белых врагов[107], начиная с
огнестрельного оружия. Они заявляли, что если индейцы последуют за их учением,
то им будет суждена блаженная жизнь в земном раю, где к живым присоединятся
души их предков, и что это мессианское царство краснокожих нельзя завоевать при
помощи томагавков, тем более при помощи пуль. Мы не можем сказать, к каким
результатам привело бы принятие этого учения. Оно оказалось слишком трудным и
слишком высоким для варварских воителей, к которым было адресовано. Однако в
этой вспышке доброго света на темном и мрачном горизонте мы улавливаем проблеск
«anima naturaliter Christiana»[108] в груди примитивного человека.
Похоже, что на настоящий момент для нескольких древних
варварских обществ, еще оставшихся на карте земного шара, единственным шансом
выжить является тактика ободритов[109] и литовцев, которые в средневековой главе
истории западной экспансии дальновидно предвосхитили насильственное обращение,
добровольно обратившись в культуру агрессивной цивилизации, слишком сильной,
чтобы ей оказывать сопротивление. Среди современных остатков древнего
варварского мира выделяются две осажденные со всех сторон цитадели варварства,
в каждой из которых предприимчивый военачальник предпринял решительную попытку
спасти, быть может, еще не совсем безнадежную ситуацию при помощи культурной
активной обороны.
Вполне возможно, что в северо‑восточном Иране проблема
северо‑западной границы Индии будет окончательно решена. Причем сделано это
будет не благодаря какому‑либо решительному действию против диких варваров на
индийской стороне индо‑афганской границы, но, скорее, благодаря добровольной
вестернизации самого Афганистана. Ибо если бы эта афганская попытка закончилась
успехом, то одним из ее результатов было бы то, что военные отряды на индийской
стороне оказались бы меж двух огней, и, таким образом, их позиция стала бы
окончательно уязвимой. Движение вестернизации в Афганистане было начато королем
Амануллой (1919‑1929)[110] с крайним рвением, которое привело к
перевороту и стоило ему трона. Однако личное поражение Амануллы менее важно,
чем факт того, что это препятствие не оказалось фатальным для всего движения. К
1929 г. процесс вестернизации для жителей Афганистана зашел так далеко, что
вызвал явную варварскую реакцию бунтовщика Бачаи Сакао[111]. При режиме
короля Надира и его преемника процесс вестернизации был незаметно возобновлен.
Однако более выдающимся вестернизатором осажденной
варварской цитадели является Абдул Азиз Ион Сауд, король Неджда и Хиджаза,
солдат и государственный деятель, который начиная с 1901 г. возвысил себя из
политического изгнанника, которым родился, до хозяина всей Аравии на запад от
[пустыни] Руб‑эль‑Хали и на север от йеменского королевства Сана. В качестве
военного вождя Ибн Сауда можно сравнить, с точки зрения его просвещенности, с
вестготом Атаульфом. Он понимал мощь современной западной научной техники и
проявил проницательность к тем ее образцам – например, артезианским колодцам,
автомобилям и аэропланам, – которые особенно эффективны в центрально‑аравийской
степи. Однако кроме всего прочего он понял, что необходимым основанием для
западного образа жизни является закон и порядок.
Когда последний непокорный анклав будет стерт тем или иным
образом с культурной карты вестернизированного мира, сможем ли мы поздравить
себя с тем, что видели последнего представителя варварства? Полное уничтожение
варварства внешнего пролетариата дало бы право не более чем на умеренный
энтузиазм, поскольку мы убедились (если это «Исследование» сколько‑нибудь
эффективно), что разрушение, постигшее множество цивилизаций в прошлом, никогда
не было делом какого‑то внешнего фактора, но всегда, по сути своей, было актом
самоубийства.
«Мы преданы тем, что лживо внутри нас»{15}.
Хорошо известных варваров древнего типа можно было эффективно стереть с лица
земли, уничтожив последние остатки «ничейной земли» по ту сторону
антиварварских кордонов, которые теперь были передвинуты до пределов,
установленных природой на всех фронтах в мире. Однако эта беспрецедентная
победа окажется для нас совершенно бесполезной, если варвары, угасая по ту
сторону границы, опередят нас, вновь появившись в нашей среде. И не здесь ли мы
обнаруживаем наших варваров сегодня выстроенными в боевой порядок? «Древние
цивилизации были уничтожены импортированными варварами; мы выращиваем своих
собственных»{16}. Разве мы не видим в наше время массу неоварварских
вооруженных отрядов, пополняемых на наших глазах в одной стране за другой – и
это в центре, а не на окраинах того, что до сих пор было христианским миром?
Кем еще, как не варварами духа, были боевики из Fascii di Combattimento[112] и Sturmabteilungen[113]?
Разве их не учили, что они – пасынки общества, из недр которого они вышли, и
что в качестве ущемленной части, имеющей свои счеты, они имеют моральное право
завоевать для себя «место под солнцем», без жалости прибегая к силе? И не было
ли это в точности тем учением, какое военачальники внешнего пролетариата –
Гензерихи и Аттилы – всегда прокламировали своим воинам, когда вели их грабить
какое‑либо царство, по своей собственной вине потерявшее силу для своей защиты?
Черные рубашки и нечерная кожа, несомненно, были признаками варварства в Итало‑Абиссинской
войне 1935‑1936 гг., а варвар‑чернорубашечник является более угрожающим
знамением, чем чернокожий варвар, которого он сделал своей жертвой.
Чернорубашечник был знамением, поскольку он умышленно грешил против
унаследованного им света, и он представляет собой угрозу, поскольку для
совершения своего греха он имел в своем распоряжении унаследованную технику,
которую был волен направлять со службы Богу на службу дьяволу.
Однако, придя к этому заключению, мы еще не докопались до
существа дела, ибо мы еще не задались вопросом: из какого источника могло
произойти это итальянское неоварварство?
Муссолини однажды заявил, что он «задумывает Италию такой,
какой великие англичане, создавшие Британскую империю, задумывали Англию, а
великие французские колонизаторы – Францию»[114]. Прежде чем
отбросить с презрением эту итальянскую карикатуру на деяния наших собственных
предков, неплохо было бы подумать о том, что карикатура может оказаться
блестящим портретом. В отталкивающем лице итальянского неоварварского
отступника с тропы цивилизации мы вынуждены признать некоторые знакомые черты
тех английских моделей, которые вызывали множество восхищения, – Клайва[115], Дрейка[116] и Гаукинса.[117]
Однако не должны ли мы задавать наш назойливый вопрос и
дальше? Не следует ли нам напомнить самим себе, как следует из данных,
представленных в этой главе, что правящие меньшинства оказываются
первоначальными агрессорами в войне между правящими меньшинствами и внешними
пролетариатами? Мы должны вспомнить, что летописи этой войны между
«цивилизацией» и «варварством» были написаны почти исключительно летописцами
«цивилизованного» лагеря. Поэтому классическая картина, изображающая внешнего
пролетария, несущего свой варварский огонь и резню в законные владения невинной
цивилизации, похоже, не является объективно представленной истиной, но
выражением негодования «цивилизованной» стороны, ставшей мишенью контратаки,
которую само же и спровоцировало. Недовольство варваром, схематически
изображенное его смертельным врагом, может достичь почти следующего:
Cet animal est très méchant:
Quand on l’ataque, il se défend![118]
6. Иностранные и туземные стимулы
В самом начале данного «Исследования», после того как на
примере английской истории было доказано, что историю национального государства
нельзя постичь саму по себе, отдельно от действий остальных представителей ее
вида, мы высказали предположение, что «умопостигаемыми полями исследования»
должны быть группы сходных общностей, которые мы называли обществами (и
которые, как оказалось, являются обществами особого рода, известного как
цивилизации). Другими словами, мы предположили, что ход жизни цивилизации был
независимым, так что его можно было бы изучать и понимать сам по себе и из него
самого, не требуя постоянно принимать в расчет вмешательство чуждых социальных
сил. Это предположение было подтверждено нашим исследованием возникновения и
роста цивилизаций и пока что не было опровергнуто исследованием их надломов и
распадов. Ибо хотя распадающееся общество может расколоться на части, каждая из
этих частей оказывается осколком старой глыбы. Даже внешний пролетариат
набирается из элементов, находящихся в пределах поля излучения распадающегося
общества. Однако в то же самое время наше исследование различных частей
распадающихся обществ (и это касается не только внешнего пролетариата, но также
и внутреннего пролетариата и правящего меньшинства) часто требовало от нас
принимать во внимание не только туземных, но и иностранных посредников.
Фактически, стало ясно, что хотя определение общества как
«умопостигаемого поля исследования» можно принять почти без ограничений, пока
общество находится в процессе роста, это определение можно поддерживать лишь с
определенными оговорками, когда мы подходим к стадии распада. Если верно то,
что надломы цивилизаций вызваны внутренней утратой самоопределения, а не
внешними ударами, тогда будет неверно то, что процесс распада, через который
надломленная цивилизация должна пройти на своем пути к исчезновению, можно в
равной степени постичь без учета внешних факторов и деятельности. При
исследовании жизни цивилизации на стадии распада «умопостигаемое поле»
оказалось заметно шире, чем окружение отдельного наблюдаемого нами общества.
Это означает, что в процессе распада тело социальной системы стремится не
просто расколоться на три составные части, которые мы только что исследовали,
но также и стремится вернуть себе свободу входить в новые соединения с
элементами, происходящими от иностранных систем. Таким образом, мы
обнаруживаем, что почва, на которой мы стояли в начале данного «Исследования» и
которая до сих пор была твердой, теперь ускользает из‑под наших ног. В начале
мы выбирали цивилизации в качестве объектов нашего «Исследования» как раз
потому, что они имели видимость «умопостигаемых полей», которые дают
возможность изучать их в отдельности. Теперь мы уже оказываемся в пути от этого
пункта к другому, который должны будем рассмотреть, когда мы будем исследовать
контакты цивилизаций друг с другом.
Между тем было бы удобно в этом пункте провести различие и
сравнить соответствующее воздействие иностранного и туземного стимулов, которое
можно распознать в деятельности различных частей, на которые разделилась социальная
система распадающегося общества. Мы обнаружим, что в произведениях правящего
меньшинства и внешнего пролетариата иностранный стимул будет приводить к
разногласию и разрушению, тогда как в произведениях внутреннего пролетариата он
будет производить противоположный эффект гармонии и созидания.
* * *
Правящее меньшинство и внешний пролетариат
Мы видели, что универсальные государства обычно создаются
правящими меньшинствами, туземными с тем обществом, которому они оказывают эту
своевольную услугу. Этими туземными основателями империи могут быть жители
пограничных территорий с внешней окраины того мира, которому они дают
благословенный покой, установив политическое единство. Однако это происхождение
само по себе не убеждает их в наличии какой‑либо иностранной примеси в их
культуре. Мы, тем не менее, отмечали также и те случаи, в которых нравственное
падение правящего меньшинства было настолько быстрым, что к тому времени, когда
распадающееся общество уже было готово войти в фазу универсального государства,
уже более не оставалось никакого правящего меньшинства, обладавшего
достоинствами основателей империи. В подобных случаях обычно не допускают,
чтобы задача по созданию универсального государства осталась невыполненной.
Некий иностранный основатель империи входит в образовавшийся пролом и выполняет
для больного общества ту задачу, которая должна была быть выполнена членами
самого общества.
Все универсальные государства – и иностранные, и туземные, –
вероятно, будут приняты с благодарностью и смирением, если не с энтузиазмом.
Они, во всяком случае, являются улучшением, в материальном смысле, «смутного
времени», предшествовавшего им. Однако по прошествии времени «восстал [в
Египте] новый царь, который не знал Иосифа»{17}. Проще говоря,
«смутное время» и память о его ужасах отступают в незапамятное прошлое, а
настоящее, в котором универсальное государство распространяется на весь
социальный ландшафт, начинает оцениваться как «вещь в себе», независимая от
исторического контекста. На этой стадии судьбы универсальных государств
туземного и иностранного происхождения расходятся. Туземное универсальное
государство, каковы бы ни были его действительные достоинства, стремится к
тому, чтобы стать все более и более приемлемым для своих подданных и все чаще
рассматривается как единственный возможный социальный строй их жизни. С другой
стороны, иностранное универсальное государство становится все более и более
непопулярным. Его подданные все более раздражаются его особенностями и все
крепче закрывают глаза на ту полезную службу, которую оно сослужило и, быть
может, все еще продолжает служить для них.
Наиболее очевидной парой универсальных государств для
иллюстрации этого контраста являются Римская империя, которая создала туземное
универсальное государство для эллинского мира, и Британская империя, которая
была вторым из двух иностранных универсальных государств, созданных для
индусской цивилизации. Можно было бы собрать множество цитат, иллюстрирующих ту
любовь и благоговение, с которым новые подданные Римской империи относились к
этому институту, даже после того, как он перестал выполнять свою задачу хоть
сколько‑нибудь действенно и когда он находился в явном упадке. Возможно,
наиболее замечательной данью уважения является отрывок из поэмы «De
Consulatu Stilichonis»[119],
написанной латинскими гекзаметрами Клавдианом Александрийским[120] в 400 г.
Рома! С тобой не сравнятся державы
царей победивших.
Не госпожа, но мать, ты нежно к
груди привлекаешь
Пленников, бывших рабов превращая
в своих домочадцев.
Все под защиту свою ты призываешь
народы –
Ныне найдется ль один в глухих,
отдаленнейших землях,
Кто, обладая гражданством, им не
был бы Роме обязан?
Вполне естественно, могло бы показаться, что и Британская
империя в Индии во многих отношениях более благожелательный, а возможно, и
более благодетельный институт, чем империя Римская. Однако вряд ли найдется
Клавдиан в одной из Александрии Индостана.
Если мы взглянем на историю второго из двух универсальных
государств иностранного происхождения |в Индии], то увидим тот же растущий
прилив враждебного чувства среди его подданных, какой мы находим в Британской
Индии. Сирийское иностранное универсальное государство, навязанное Киром
вавилонскому обществу, до такой степени злобно ненавидели ко времени, когда оно
завершило второе столетие своего существования, что в 331 г. до н. э.
вавилонские жрецы были готовы бурно приветствовать столь же чуждого завоевателя
Александра Македонского. Так и в наши дни некоторые крайние националисты в
Индии могли бы быть готовы приветствовать нового Клайва из Японии. В
православно‑христианском мире иностранный Pax Ottomanica, который
приветствовали в первой четверти XIV в. христианской эры греческие сторонники
основателя Оттоманского государства на азиатском побережье Мраморного моря,
стал объектом ненависти для греческих националистов в 1821 г. Путь в пять
столетий породил среди греков перемену чувства, прямо противоположную той перемене,
которая произошла в Галлии от романофобии Верцингеторига[121] до романофилии Аполлинария Сидония.[122]
Другим выдающимся примером ненависти, вызванной иностранными
основателями империи, является враждебность китайцев к монгольским
завоевателям, которые создали для обезумевшего дальневосточного мира крайне
необходимое универсальное государство. Эта враждебность, как может показаться,
представляет собой странный контраст по сравнению с той терпимостью, с которой
позднее то же самое общество приняло двухсот пятидесятилетнее маньчжурское
господство. Объяснение заключается в том факте, что маньчжуры были
провинциалами дальневосточного мира, не испорченными какой‑либо иностранной
культурой, тогда как монгольское варварство было смягчено, хотя бы в
незначительной степени, примесью сирийской культуры, происходившей от
несторианских христианских первопроходцев, и беспристрастной готовностью
привлекать на службу способных и опытных людей, какого бы они ни были
происхождения. Это действительное объяснение непопулярности монгольского режима
в Китае подтверждается и сообщением Марко Поло о взрывоопасных отношениях между
китайскими подданными, православно‑христианскими воинами и мусульманскими
администраторами монгольского хана.
Возможно, именно примесь шумерской культуры у гиксосов
заставила их египетских подданных быть нетерпимыми по отношению к ним, тогда
как последующее вторжение совершенных варваров‑ливийцев было воспринято без
негодования. Фактически, мы можем решиться сформулировать что‑то вроде общего
социального закона о том, что варварские захватчики, которые свободны от любой
иностранной культурной примеси, вероятно, будут иметь успех, тогда как варвары,
которые до своего Völkerwanderung'a (переселения) восприняли или иностранную,
или еретическую примесь, вероятно, должны будут приложить все усилия, чтобы
очиститься от этой примеси, если они хотят избежать неизбежного в противном
случае изгнания или истребления.
Возьмем сначала беспримесных варваров. Это арии, хетты и
ахейцы. Каждый из них создавал свой собственный варварский пантеон, пока
временно пребывал на пороге цивилизации и упорно продолжал свой варварский
культ после того, как прорывал границу и совершал свои завоевания. Каждый из
них также преуспел, несмотря на это «непреодолимое невежество», в основании
новых цивилизаций: индской, хеттской и эллинской. Далее, франкские, английские,
скандинавские, польские и венгерские неофиты, обратившиеся из своего язычества
в западное католическое христианство, получили возможность играть полноценную
(и даже ведущую) роль в строительстве западно‑христианского мира. С другой
стороны, гиксосские поклонники Сета были изгнаны из египетского мира, а монголы
– из Китая.
Исключения из нашего правила, по‑видимому, представляют
примитивные арабы‑мусульмане. Здесь была группа варваров, принадлежавших к
внешнему пролетариату эллинского мира. Они достигли большого успеха во время
Völkerwanderung'a (переселения народов), сопровождавшего распад эллинского
общества, несмотря на тот факт, что оставались верными своей варварской пародии
на сирийскую религию, вместо того чтобы принять монофизитское христианство
своих подданных из провинций, отторгнутых от Римской империи. Однако
историческая роль примитивных арабов‑мусульман была совершенно исключительной.
Благодаря своему случайному завоеванию всей Сасанидской империи в ходе
победоносного нападения на восточные провинции Римской империи, варварское
государство‑преемник последней, основанное арабами на сирийской почве,
превратилось в восстановленное сирийское универсальное государство,
преждевременно разрушенное тысячу лет назад, когда Ахемениды были побеждены
Александром Македонским. И новая грандиозная политическая миссия, которая таким
образом, почти неожиданно, легла на плечи арабов‑мусульман, открыла новые
горизонты для самого ислама.
Следовательно, история ислама, по‑видимому, является особым
случаем, который не сводит на нет общие результаты нашего исследования. В общем,
у нас есть все основания сделать вывод о том, что и для внешнего пролетариата,
и для правящего меньшинства иностранный стимул является помехой, потому что он
представляет собой продуктивный источник разногласий и разочарований для них в
их отношениях с двумя другими частями, на которые раскалывается распадающееся
общество.
* * *
Внутренний пролетариат
В противоположность этим данным, полученным нами о правящем
меньшинстве и внешнем пролетариате, мы обнаружим, что для внутреннего
пролетариата иностранный стимул – не проклятие, а благословение, дарующее тем,
кто его получает, явно сверхчеловеческую силу пленять своих завоевателей и
достигать вынашиваемой цели. Это положение можно лучше всего проверить, проведя
исследование тех «высших религий» и вселенских церквей, которые являются
наиболее характерными созданиями внутреннего пролетариата. Наше исследование
этих институтов показало, что их возможности зависят от наличия в их духе
иностранного стимула, и они будут различаться в зависимости от его силы.
Например, можно условно проследить происхождение культа
Осириса, который был «высшей религией» египетского пролетариата, как мы уже
видели, из иностранного источника – из шумерского культа Таммуза. Можно с
уверенностью установить и происхождение разнообразных конкурирующих «высших
религий» эллинского внутреннего пролетариата из различных иностранных источников.
В культе Исиды иностранный стимул – египетского происхождения, в культе Кибелы
– хеттского, в христианстве и митраизме – сирийского, в махаяне – индского.
Первые четыре из этих пяти «высших религий» были созданы египетским, хеттским и
сирийским населением, мобилизованным в ряды эллинского внутреннего пролетариата
благодаря завоеваниям Александра Македонского. Пятая была создана индским
населением, точно также мобилизованным во II в. до н. э. благодаря завоеваниям
бактрийских греческих государей из династии Евтидемидов[123] в индском мире. Как бы глубоко по своей
внутренней духовной сущности ни отличались они друг от друга, все пять имеют,
по крайней мере, ту общую внешнюю черту, что происходят из иностранного
источника.
Наши выводы не будут поколеблены анализом тех отдельных
случаев, в которых попытка высшей религии завоевать общество не окончилась
успехом. Например, сюда относится безуспешная попытка исламской секты шиитов
стать вселенской церковью для православного мира при оттоманском режиме и
безуспешная попытка католического христианства стать вселенской церковью для
дальневосточного общества – в Китае в последнее столетие правления династии Мин
и в первое столетие правления Маньчжурской династии и в Японии в момент
перехода от «смутного времени» к сёгунату Токугава. Шиизм в Оттоманской империи
и католицизм в Японии были дезориентированы в своих соответствующих духовных
завоеваниях, поскольку были использованы (или, во всяком случае, заподозрены в
этом) в незаконных политических целях. Неудача католицизма в Китае была вызвана
отказом папства разрешить иезуитским миссионерам продолжение работы по переводу
иностранных католических выражений на традиционный язык дальневосточной
философии и ритуала.
Мы можем сделать вывод, что иностранный стимул помогает, а
не препятствует «высшей религии» привлекать неофитов. Причину этого далеко
искать не приходится. Внутренний пролетариат, отчужденный от надломленного
общества, в процессе отделения от которого он находится, ищет нового
откровения, и это как раз то, что дает иностранный стимул. Именно благодаря его
новизне он так привлекателен. Однако, прежде чем ему стать привлекательным,
новая истина должна стать понятной. И до тех пор, пока эта необходимая работа
по истолкованию не будет выполнена, привлекательность этой новой истины не
будет проявляться во всей ее полноте. Победа христианской Церкви в Римской
империи не была бы одержана, если бы отцы Церкви, начиная с апостола Павла, на
протяжении первых четырех‑пяти столетий христианской эры не прилагали всех
своих усилий, чтобы перевести христианское учение на язык эллинской философии,
чтобы выстроить христианскую церковную иерархию по модели римской
государственной службы, чтобы сформировать христианский обряд по образцу
мистерий, и даже обратить языческие праздники в христианские и заменить
языческий культ героев христианским культом святых. Предприятие именно этого
рода пресекли в корне предписания Ватикана иезуитским миссионерам в Китае.
Обращение эллинского мира столь же роковым образом было бы задержано после
первых начинаний христианских миссионеров на языческой почве, если бы
иудействующие христиане‑оппоненты апостола Павла победили на собраниях и в
столкновениях, описанных в Деяниях святых апостолов и в первых посланиях
апостола Павла.
Наш список «высших религий», которые, по‑видимому, имели
туземный стимул, будет включать иудаизм, зороастризм и ислам – три религии,
которые нашли область своего распространения в сирийском мире и черпали
вдохновение из той же самой части света, а также индуизм, который, несомненно,
является индским как по своему стимулу, так и по месту своего действия. Индуизм
и ислам следует рассматривать как исключения из нашего «закона», однако иудаизм
и зороастризм окажутся после их исследования все‑таки его иллюстрациями. Ибо
сирийское население, среди которого появились иудаизм и зороастризм между VIII
и VI вв. до н. э., представляло собой надломленные народы, насильственно
мобилизованные в ряды внутреннего пролетариата вавилонского общества
ассирийскими вооруженными силами вавилонского правящего меньшинства. Именно эта
вавилонская агрессия породила иудейский и зороастрийский религиозные ответы в
сирийских душах, которые подверглись этому суровому испытанию. В связи с этим
мы, несомненно, должны классифицировать иудаизм и зороастризм как религии, которые
были введены сирийскими призывниками в ряды внутреннего пролетариата
вавилонского общества. Иудаизм фактически сформировался «при реках Вавилонских»{18},
точно так же как христианская Церковь сформировалась в паулинистских общинах
эллинского мира.
Если распад вавилонской цивилизации продолжался столь же
долго, сколь и распад эллинской цивилизации, и проходил через те же самые
стадии, то тогда рождение и рост иудаизма и зороастризма можно было бы
представить в исторической перспективе в качестве таких же событий в
вавилонской истории, какими фактически являются в эллинской истории рождение и
рост христианства и митраизма. Наша перспектива нарушается тем фактом, что
вавилонская история безвременно оборвалась. Халдейская попытка установления
вавилонского универсального государства закончилась крахом. Сирийские
новобранцы в рядах его внутреннего пролетариата оказались способны не только
сбросить свои цепи, но и поменяться со своими вавилонскими завоевателями
ролями, пленив их не только духовно, но и физически. Иранцы стали адептами
сирийской, а не вавилонской культуры, а Ахеменидская империя, основанная Киром,
начала играть роль сирийского универсального государства. Именно в этой
перспективе иудаизм и зороастризм выступили в качестве сирийских религий туземного
происхождения. Теперь мы можем видеть, что по своему происхождению они были
религиями вавилонского внутреннего пролетариата, для которых сирийский стимул
был иностранным.
Если «высшая религия» имеет иностранный стимул (а мы
обнаружили, что это правило, имеющее лишь два известных исключения), то,
очевидно, что природу этой религии нельзя понять, не учитывая контакт, по
меньшей мере, двух цивилизаций: цивилизации, в которой появляется новая религия
внутреннего пролетариата, и цивилизации (или цивилизаций), из которой
происходит иностранный стимул (или стимулы). Этот факт требует от нас
радикальной перемены отправной точки, ибо он требует от нас отказа от того
фундамента, на котором до сих пор строилось данное «Исследование». До сих пор
мы рассматривали вопрос с точки зрения цивилизаций. Мы предположили, что любая
отдельная цивилизация будет представлять собой реальное «поле исследования»,
поскольку оно является социальным целым, постижимым в отдельности от того, что
могли бы представлять собой социальные явления за пределами пространственных и
временных границ данного отдельного общества. Однако теперь мы обнаруживаем,
что запутались в той самой сети, в которую мы на наших первых страницах так
самоуверенно ловили тех историков, которые полагали, что они могли бы
«осмыслить» национальную историю изолированно. С этого времени нам придется
перейти границы, в пределах которых мы до сих пор были способны работать.
XIX.
Раскол в душе
1. Альтернативные формы поведения,
чувствования и жизни
Раскол в социальной системе, который мы исследовали до сих
пор, является коллективным опытом, а потому поверхностен. Его значение состоит
в том, что он является внешним, видимым знаком внутренней, духовной трещины.
Будет обнаружено, что раскол в душах людей лежит в основе всякого раскола,
обнаруживающегося на поверхности общества, которое является точкой
соприкосновения соответствующих сфер деятельности этих человеческих деятелей.
Нашим вниманием должны теперь завладеть различные формы, которые может принимать
внутренний раскол.
Раскол в душах членов распадающегося общества проявляется во
множестве форм. Он возникает во всех тех формах поведения, чувствования и
жизни, которые присущи деятельности человеческих существ, играющих роль в
возникновении и росте цивилизаций. В фазе распада каждая из этих отдельных
линий действия склонна расщепляться на пару взаимно противоположных и взаимно
отталкивающихся разновидностей или заменителей, в которых ответ на вызов
поляризуется между двумя альтернативами: одной пассивной, а другой – активной,
однако при этом ни одна из них не является творческой. Выбор между активным и
пассивным вариантом – единственная свобода, которая остается душе, утратившей
возможность (хотя, конечно же, не способность) творческой деятельности, потому
что ей выпала роль в трагедии распада общества. По мере того как процесс
распада развивается, альтернативные решения имеют тенденцию становиться более
жесткими в своих границах, более крайними в своих отклонениях и более важными
по своим последствиям. Этот, так сказать, духовный опыт раскола в душе является
динамическим процессом, а не статическим состоянием.
Начнем с того, что есть два способа личного поведения,
которые являются альтернативными заменителями осуществления способности
творчества. Оба эти способа являются попытками самовыражения. Пассивная попытка
состоит в уходе (άκράτεια[124]),
когда душа «позволяет себе уйти», уверенная в том, что, дав волю своим
непосредственным инстинктам и антипатиям, она будет «жить в согласии с
природой» и автоматически получит назад от таинственной богини тот драгоценный
дар творчества, который, как она осознаёт, потерян. Активной альтернативой
является попытка самоконтроля (έγκράτεια[125] ), когда душа «берет себя в руки» и стремится
дисциплинировать свои «естественные страсти», в противоположной уверенности,
что природа – гибель для творчества, а не его источник, и что «завоевание
господства над природой» является единственным способом восстановления
утраченной творческой способности.
Далее, есть два способа социального поведения, которые
представляют собой альтернативные заменители того мимесиса творческим
личностям, который, как мы обнаружили, является необходимым, хотя и опасным,
кратчайшим расстоянием на пути к социальному росту. Эти оба заменителя мимесиса
являются попытками выйти из рядов фаланги, «социальный навык» которой перестал
работать. Пассивная попытка выйти из этого социального тупика принимает форму
труантизма[126]. Солдат с
испугом осознает, что полк теперь перестал подчиняться дисциплине, которая до
сих пор поддерживала его мораль, и в этой ситуации он позволяет себе
считать, что и он свободен от выполнения воинского долга. В этом
безнравственном умонастроении манкирующий своими обязанностями солдат оставляет
ряды и спасается бегством, в тщетной надежде спасти свою шкуру ценой
предательства товарищей. Однако есть и альтернативный путь противостоять тому
же самому вызову, который можно назвать мученичеством. В сущности, мученик –
это солдат, который вышел из рядов вперед по своей собственной инициативе,
чтобы стать выше требований долга. Если в обычных условиях долг требует, чтобы
солдат рисковал своей жизнью в минимальной степени, необходимой для выполнения
приказов своего старшего офицера, то мученик идет на смерть ради защиты идеала.
Когда мы переходим от форм поведения к формам чувствования,
то мы сразу же можем заметить два типа личного чувства, которые являются
альтернативными реакциями на полное изменение того движения élan
(жизненного порыва), в котором, по‑видимому, обнаруживала себя сущность роста.
Оба эти чувства отражают болезненное сознание «гонимости» силами зла, которые
переходят в наступление и утверждают свою власть. Пассивное выражение этого
сознания непрерывности и поступательности морального поражения есть чувство
самотека. Разгромленная душа подавлена ощущением своего провала в установлении
контроля над окружением. Она начинает верить, что Вселенная, включая саму душу,
находится во власти у силы, которая настолько же иррациональна, насколько
непреодолима. Это ужасная богиня с двойным ликом, которую умилостивляют под
именем Случая (Tύχη) или с которой примиряются под именем Необходимости (Άνάγκη)
– пара божеств, нашедших свое литературное воплощение в хорах «Династов» Томаса
Харди. С другой стороны, чувство морального поражения, опустошающее душу, может
ощущаться как утрата ею господства и контроля над самой собой. В этом случае
вместо чувства самотека мы имеем чувство греха.
Мы должны также отметить два способа социального чувства,
которые являются альтернативными заменителями чувства стиля – чувства, которое
представляет собой субъективный аналог объективного процесса дифференциации
цивилизаций в ходе их роста. Оба эти чувства выдают одну и ту же утрату
чувствительности к форме, хотя, отвечая на этот вызов, они располагаются на
противоположных полюсах. Пассивный ответ – это чувство промискуитета[127], в котором
душа подвергается коренному изменению. Посредством языка, литературы и
искусства это чувство промискуитета заявляет о себе в распространении lingua
franca[128] (κοινή) и подобным же образом
стандартизированных и смешанных стилей литературы, живописи, скульптуры и
архитектуры. В области философии и религии оно порождает синкретизм. Активный
ответ предусматривает отказ от местного и преходящего стиля жизни как от одного
из возможных и призывает усвоить иной стиль, который имеет в себе нечто
универсальное и вечное: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus[129].
Этот активный ответ есть пробуждение к чувству единства, которое расширяется и
углубляется по мере того, как видение распространяется с единства человечества
через единство космоса на единство с Богом.
Если мы перейдем теперь, в третью очередь, к плану жизни, то
снова столкнемся здесь с двумя парами альтернативных реакций. Однако в этом
плане картина отличается от предшествующей модели в трех отношениях. Во‑первых,
альтернативы, которые замещают единое движение, характерное для стадии роста,
здесь скорее являются вариациями этого движения, нежели его заменителями. Во‑вторых,
обе пары альтернатив – вариации одного и того же единого движения, которое мы
описали как перенесение поля действия с макрокосма на микрокосм. В‑третьих, две
пары отличаются друг от друга достаточно глубоко, чтобы считать их дубликатами
друг друга. В одной паре реакции носят насильственный характер, в другой –
добрый. В паре, где преобладает насильственный характер, пассивную реакцию
можно описать как архаизм, а активную – как футуризм. В паре, где преобладает добрый
характер, пассивную реакцию можно описать как отрешение, а активную – как
преображение.
Архаизм и футуризм – две альтернативные попытки заменить
простой перенос во временном измерении на перенос поля действия с одного
духовного плана на иной, характерный для движения роста. В обоих случаях
попытка жить в микрокосме вместо макрокосма отвергается ради утопии, которая
была бы достижима (если предположить, что она могла бы действительно найти
выражение «в реальной жизни»), не будь какого‑либо вызова, породившего крутые
перемены в духовном климате. Эта внешняя утопия предназначена выполнить долг в
качестве «Другого Мира». Однако «Другой Мир» в поверхностной и
неудовлетворительной форме есть лишь отрицание макрокосма в его нынешнем
состоянии, здесь и теперь. Душа намеревается выполнить то, что требуется от
нее, начав движение от настоящего состояния распада, в котором находится
общество, к той цели, которая представляет собой то же самое общество, каким
оно могло некогда быть в прошлом или может когда‑то стать в будущем.
Архаизм, фактически, можно определить как возвращение от
мимесиса современным творческим личностям к мимесису предкам племени: это, так
сказать, выпадение из динамического движения цивилизации и переход к
статическому состоянию, в котором оказывается теперь примитивное человечество.
Его можно также определить и как одну из тех попыток насильственной остановки
изменений, которая приводит в случае успеха к появлению социальных
«извращений». В‑третьих, его можно рассматривать в качестве примера той попытки
«поддержать» надломленное и распадающееся общество, которая, как мы обнаружили,
в ином контексте является общей целью авторов утопий. В соответствующих
понятиях футуризм мы можем определить как отказ от мимесиса кому‑либо вообще, а
также как одну из тех попыток насильственного проведения изменений, которые в
случае успеха порождают социальные революции, аннулирующих свои собственные
цели, впадая в реакцию.
Тех, кто доверяет одному из этих возможных заменителей
переноса поля действия из макрокосма в микрокосм, ожидает общая жалкая участь.
В поисках своих «легких» альтернатив эти пораженцы фактически обрекают себя на
насильственный исход, который обязательно настигнет их, поскольку они пытаются
предпринять нечто, противное самому порядку природы.
Поиски внутренней жизни, какими бы они ни были тяжелыми, не
являются всецело недостижимыми. Но, по сути, для души, до тех пор, пока она
живет внешней жизнью, невозможно оторваться от своего нынешнего места в «вечно
текущем потоке», выпрыгнув назад в прошлое или вперед – в будущее. Архаические
и футуристические утопии являются утопиями в буквальном смысле слова – это
«Нигдеи». Два этих привлекательных alibis[130] недостижимы ex hypothesi[131].
Единственным и несомненным результатом, который порождает неудача одного из
них, является замутнение воды насилием, не приносящим исцеления.
В своей трагической высшей точке футуризм выражается в
сатанизме.
«Суть этой веры заключается в том, что мировой порядок
является злом и ложью. Добро и истина подвергаются гонениям… Этой веры
придерживались многие христианские святые и мученики, а в особенности автор
Апокалипсиса. Однако следует заметить, что эта вера диаметрально противоположна
учению почти всех великих моральных философов. Платон, Аристотель, стоики,
Августин Блаженный, Фома Аквинский, Кант, Дж. С. Милль, Конт и Т. X. Грин – все
утверждали или предполагали, что существует в некотором смысле космос, или
Божественный порядок. То, что является добром, – гармонирует с этим порядком, а
то, что является злом, – находится в разногласии с ним. Я обращаю внимание на
то, что одна из гностических школ, по сообщению отца Церкви Ипполита,
действительно определяет сатану как “дух, действующий против космических сил”:
мятежник или протестант, который противодействует воле целого и старается
помешать обществу, членом которого сам является»{19}.
Этот неизбежный выход революционного духа является общим
местом среди всех мужчин и женщин, которые сами революционерами не являются, и
нетрудно указать на примеры из истории, подтверждающие этот духовный закон.
Например, в сирийском обществе футуризм в мессианской форме
впервые появился в качестве позитивной попытки следовать по пути добра. Вместо
того чтобы продолжать гибельные попытки по отстаиванию своей политической
независимости от нападений ассирийского милитаризма здесь и теперь,
израильтянин склонил свою шею под политическое ярмо и согласился с этим
болезненным актом смирения, перенеся все свое политическое богатство на надежду
на царя‑спасителя, который должен появиться и восстановить павшее национальное
царство в некий неизвестный момент в будущем. Когда мы прослеживаем историю
этой мессианской надежды в еврейском обществе, мы обнаруживаем, что она
работала в пользу добра более чем четыре столетия – с 586 г. до н. э., когда
евреи были угнаны в вавилонский плен Навуходоносором, до 168 г. до н. э., когда
они подверглись гонениям, связанным с эллинизаторской деятельностью Антиоха
Эпифана.[132] Однако разногласие между ожидаемым с
уверенностью земным будущим и болезненно мучительным земным настоящим вылилось
в конце концов в насилие. Через два года после мученичества Елеазара и семи
братьев последовало вооруженное восстание Иуды Маккавея. Маккавеи открыли тот
длинный ряд фанатичных, как никогда прежде воинствующих иудеев‑зелотов –
бесчисленных галилейских приверженцев Февды и Иуды, – чья жестокость достигла
своей ужасающей высшей точки в сатанинских иудейских восстаниях 66‑70, 115‑117
и 132‑135 гг. н. э.
Кара Немезиды за футуризм, иллюстрацией которой служит этот
классический пример из иудейской истории, известна. Однако, быть может,
удивительнее будет обнаружить, что и архаизм постигнет та же самая кара в конце
его идущего в явно противоположную сторону пути. Ибо пока он еще не стал общим
местом, могло бы показаться парадоксальным утверждение, что кромешный ад
насилия – неизбежный исход и этого, направленного назад движения. Тем не менее,
исторические факты показывают, что это так.
В истории политического распада эллинского общества первыми
государственными деятелями, которые пошли по пути архаизма, были царь Агис IV[133]в Спарте и
трибун Тиберий Гракх в Риме. Оба были людьми необыкновенной чувствительности и
доброты. Оба ставили перед собой задачу по исправлению социальных зол и,
следовательно, по предотвращению социальной катастрофы через возврат к тому,
что, как они верили, было родовыми основаниями их государств в уже наполовину
легендарном «золотом веке», предшествовавшем надлому общества. Их целью было
восстановление согласия. Однако поскольку их архаизирующая политика было
попыткой повернуть течение общественной жизни, она неизбежно приводила их к
политике насилия. Их добродушие, которое побуждало их скорее жертвовать своими
жизнями, чем идти на крайности в борьбе со встречным насилием, вызванным их
вынужденным насилием, не помогло задержать ту лавину насилия, которую они
непреднамеренно привели в движение. Их самопожертвование вдохновило наследников
лишь на то, чтобы те подхватили их дело и попытались довести его до успешного
завершения, безжалостно используя насилие, которое мученик применял вынужденно.
За добрым царем Агисом IV последовал жестокий царь Клеомен III[134], а за добрым
трибуном Тиберием Гракхом последовал его жестокий брат Гай. В любом случае, это
еще не было концом истории. Два добрых архаиста позволили высвободить поток
насилия, не утихавший до тех пор, пока не уничтожил всю структуру тех
государств, которые они пытались спасти.
Однако если мы продолжим теперь рассмотрение наших эллинских
и сирийских примеров в следующих главах их истории, то мы обнаружим, что
кромешный ад насилия, освобожденный в одном случае архаизмом, а в другом –
футуризмом, в конце концов был ослаблен поразительным воскрешением того самого
духа доброты, который был подавлен и затоплен нахлынувшим потоком насилия. В
истории эллинского правящего меньшинства за бандитами последних двух столетий
до нашей эры последовало, как мы уже наблюдали, поколение государственных
служащих, обладавших сознательностью и умением организовать и поддерживать
универсальное государство. В то же самое время наследники действовавших
насилием реформаторов‑архаиков превратились в школу аристократических философов
(Аррия[135], Цецина Пет[136], Тразея Пет[137], Сенека[138], Гельвидий
Приск[139]), которые не
получали удовлетворения от унаследованного ими влияния даже в интересах
общества и которые довели это сложение с себя полномочий до крайней точки
покорно исполняемого по приказу императора‑тирана самоубийства. Подобным же
образом и в сирийском крыле внутреннего пролетариата эллинского мира за фиаско,
которое потерпела попытка Маккавеев установить мессианское царство в этом мире
при помощи оружия, последовала победа Царя Иудейского, Чье Царство было не от
мира сего. Тогда как в следующем поколении на более низком уровне духовного
видения необузданно‑героическая безнадежная попытка воинствующих иудеев‑зелотов
была восстановлена в самый момент уничтожения возвышенно‑героическим
непротивлением рабби Йоханана бен Заккая[140], отделившим
себя от иудейских зелотов, чтобы спокойно продолжить свое учение вне пределов
слышимости звуков сражения. Когда до него дошли известия о неизбежной
катастрофе и ученик, который принес их, воскликнул с болью: «Горе нам, ибо
разрушается место, где они искупают грехи Израиля!», учитель отвечал: «Сын мой,
не позволяй себе так печалиться. Мы имеем еще одно искупление, равное тому, и
что это, как не дар доброты? – ибо написано: “Я милости хочу, а не жертвы”».
Как произошло, что в обоих этих случаях поток насилия,
который, по‑видимому, уничтожил все преграды на своем пути, был остановлен и
обращен вспять? В любом случае причину чудесной перемены можно найти в
изменении образа жизни. В душах римской части эллинского правящего меньшинства
идеал архаизма был вытеснен идеалом отрешенности. В душах иудейской части
эллинского внутреннего пролетариата идеал футуризма был заменен идеалом
преображения.
Вероятно, мы сможем понять характерные черты двух этих
добрых образов жизни так же, как и их историческое происхождение, если мы
подойдем к каждому из них сначала через личность и биографию выдающегося
новообращенного – например, Катона Младшего[141], римского
архаика, ставшего философом‑стоиком, и Симона Бар‑Ионы, иудейского футуриста,
ставшего учеником Христа Петром. В жизни обоих этих великих людей был
промежуток духовной слепоты, которая затемняла их величие, посылая их энергию в
неверном направлении, пока они продолжали служить каждый своей соответствующей
утопии, которой они сперва задумали посвятить себя. И в каждом из них долгое
время пребывавшая в тупике и сбитая с толку душа была способна, благодаря
своему обращению к новому образу жизни, реализовать, наконец, свои высшие
возможности.
Как донкихотствующий борец за понимаемую им романтически
римскую πάτριος πολιτεία[142],
которая никогда не существовала в «реальной жизни» в прошлом, Катон был фигурой
почти комической. В политике своего времени, которую он отказывался принимать в
том виде, в каком ее обнаружил, он постоянно находился в тени и упускал
возможности. А когда наконец он случайно начал играть ведущую роль в
гражданской войне, за начало которой он несет большую часть непризнанной
ответственности, его политические фантазии были обречены на тяжелое
разочарование, как бы ни повернулись события. Ведь режим, вытекавший из победы
его компаньонов, был бы в конце концов столь же противен катоновскому
архаическому идеалу, сколь и победившая в конечном счете цезаревская диктатура.
Из этого затруднительного положения донкихотствующий политик был выведен
философом‑стоиком. Человек, который тщетно прожил жизнь как архаик, теперь
встретил смерть как стоик, причем с таким благим результатом, что, как‑никак,
он доставил Цезарю – и наследникам Цезаря более чем через столетие – больше
хлопот, чем все члены республиканской партии вместе взятые. История последних
часов Катона произвела впечатление на его современников, и это впечатление
может захватить любого читателя плутарховского рассказа. С инстинктом гения
Цезарь понял всю тяжесть этого удара, нанесенного его делу стоической смертью
противника, которого он никогда не считал необходимым воспринимать очень
серьезно как живого политика. Среди титанического труда по восстановлению мира,
затаптывая последние угольки гражданской войны, победивший в войне диктатор
нашел время ответить на катоновский меч цезаревским пером – единственным
оружием, хорошо известным этому разностороннему гению, которое могло помочь
отразить атаку, перенесенную из военного плана в философский приводящим в
смущение жестом Катона, направившим меч на свою собственную грудь. Однако
Цезарь не мог победить противника, нанесшего этот прощальный удар. Смерть
Катона дала рождение философской школе противников цезаризма, вдохновлявшихся
примером своего родоначальника и приводивших в смущение новую тиранию,
собственноручно устраняясь из ситуации, которую они не могли ни принять, ни
исправить.
Смена архаизма отрешенностью также ярко иллюстрируется
историей Марка Брута в рассказе Плутарха и пересказе Шекспира. Брут был женат
на дочери Катона и также был участником выдающегося акта бесполезного
архаического насилия – убийства Юлия Цезаря. Однако мы понимаем, что даже перед
убийством он сомневался, по правильному ли пути он идет, а после того, как он
увидел результаты убийства, он стал сомневаться еще более. После битвы при
Филиппах, в последних словах, которые Шекспир вкладывает в его уста, он
принимает катоновское решение, которое прежде отрицал. Совершая самоубийство,
он говорит:
О Цезарь, не скорбя,
Убью себя охотней, чем тебя!{20}
Что касается Петра, то его футуризм сначала кажется столь же
неисправимым, сколь и катоновский архаизм. Первым из учеников приветствовавший
Иисуса как Мессию, он также первым протестовал против последующего откровения
его признанного Учителя о том, что мессианское Царство не является иудейской
версией иранской всемирной империи Кира. Впоследствии, получив особое
благословение в качестве вознаграждения за пылкую веру, он сразу же за свою
глупость и агрессивное упорство навлек на себя тяжелое обвинение в том, что
видение его Учителем Своего собственного царства должно соответствовать idee
fixe (навязчивой идее) ученика:
«Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь
не о том, что Божие, но что человеческое»{21}.
Даже когда ошибка Петра была выставлена напоказ страшным
укором его Учителя, урок произвел настолько незначительный эффект, что Петр
вновь не выдержал и следующего испытания. Когда он был избран одним из трех
свидетелей Преображения, то сразу же принял видение Моисея и Илии, стоявших
рядом с Учителем, за сигнал к началу Befreiungskrieg[143] и изложил свое прозаическое неверное понимание
того, что обозначало это видение, предложив устроить на этом месте центр лагеря
(«три кущи», или палатки) того же рода, какие приверженцы Февды и Иуды имели
обыкновение устанавливать в пустыне во время коротких передышек, до того как
римские власти получали сведения о их деятельности и посылали летучие
кавалерийские отряды, чтобы рассеять их. В звучании этой резкой ноты видение
обращается в эхо предостережения, чтобы принять собственное откровение Мессии о
пути Мессии. Однако и этого второго урока было еще недостаточно, чтобы открыть
глаза Петру. Даже на вершине деятельности своего Учителя – когда все, что
Учитель Сам предсказывал, очевидно сбывалось, – неисправимый футурист извлекал
меч для борьбы в Гефсиманском саду. Может статься, что и его «измена» своему
Учителю позднее, в вечер того же дня, была результатом смятения ума человека,
который наконец утратил свою футуристическую веру, однако еще с уверенностью не
осознал какую‑либо альтернативу ей.
Даже после явившегося венцом его жизни события, когда
Распятие, Воскресение и Вознесение наконец научили его, что Царство Христа не
от мира сего, Петр еще склонен был верить, что даже в этом преображенном
царстве привилегия должна быть отдана иудеям, точно так же, как это должно было
быть согласно футуристической мессианской утопии, как будто бы общество,
принявшее Бога Небесного в качестве своего Царя, могло бы быть ограничено на
Божьей Земле границей, исключающей из него все, кроме одного, племена созданий
и детей Бога. В одной из последних сцен, в которых Петр появляется перед нами в
Деяниях святых апостолов, мы видим, что он в свойственной ему манере протестует
против ясного приказа, которым сопровождалось видение полотна, сошедшего с
неба.[144] Однако Петр не уступал Павлу место главного
героя в этой истории до тех пор, пока рассказчик не увековечил пришедшее к нему
наконец понимание истины, которую фарисей Павел понял в один миг благодаря
единственному ошеломляющему духовному опыту. Долгая работа просвещения Петра
была завершена, когда за видением на крыше последовало прибытие посыльных
Корнилия, остановившихся у ворот. В своем признании веры в доме Корнилия и в
защите своего поступка перед иудео‑христианской общиной по его возвращении в
Иерусалим Петр проповедовал Царство Божие словами, которые бы не вызвали упрека
у Христа.
Что же это за два образа жизни, которые порождают столь
огромные духовные результаты, когда они принимаются, соответственно, вместо
архаизма Катоном и вместо футуризма Петром? Начнем с того, что отметим общие
отличия между отрешенностью и преображением, с одной стороны, и архаизмом и
футуризмом – с другой, а затем продолжим рассмотрение различий между
отрешенностью и преображением.
Преображение и отрешенность отличаются от футуризма и
архаизма тем, что заменяют подлинное изменение в духовном климате (а не просто
перемещение во временном измерении) на особую форму перемещения поля действия с
макрокосма на микрокосм, что является, как мы обнаружили, критерием роста
цивилизации. Царства, являющиеся целями того и другого, в обоих случаях
«потусторонни» в том смысле, что ни одно из них не является воображаемым
прошлым или будущим земным государством. Тем не менее, эта общая для них
«потусторонность» – единственная черта их сходства. Во всех остальных
отношениях они представляют собой противоположность друг другу.
Образ жизни, который мы назвали «отрешенностью», получал
множество названий в различных школах его последователей. Из распадающегося
эллинского мира стоики уходили в состояние «неуязвимости» (άπάθειαια) ,
а эпикурейцы – в состояние «невозмутимости» (άταραξία) , что
иллюстрируется до некоторой степени сознательной эпикурейской декларацией поэта
Горация, когда он говорит нам о том, что «Обломки разрушенного мира оставляют
меня невозмутимым» (impavidum). Из распадающегося индского мира буддисты
уходили в состояние «невозмутимости» (nirvana). Это путь, который уводил из
«мира сего». Его целью было дать убежище. Тот факт, что убежище исключает «сей
мир», является чертой, делающей его привлекательным. Порыв, который морально
поддерживает философа‑странника, есть отталкивание неприятия, а не тяга
желания. Он отряхивает со своих ног прах «града погибели», однако он не видит
«вон тот сияющий свет». «Герой пьесы говорит: “О возлюбленный град Кекропса!”
Неужели же ты не скажешь: “О возлюбленный град Зевса!”»{22} Однако
«град Зевса» Марка Аврелия – не тот же, что и Августинов Civitas Dei[145],
являющийся «градом Бога Живого». Путешествие – это скорее уход согласно намеченному
плану, чем паломничество, вдохновленное верой. Для философа успешный побег из
«мира сего» является целью сам по себе, и в действительности не имеет значения,
чем философ занимается, когда однажды пересекает порог города своего убежища.
Эллинские философы изображали состояние освобожденного мудреца как состояние
блаженного созерцания (θεωρία), a Будда (если его учение верно отражено
в священных книгах хинаяны) откровенно заявляет о том, что раз всякая
возможность возвращения исключена раз и навсегда, то природа альтернативного
состояния, в котором мы сталкиваемся с состоянием tathägata, является
делом несущественным.
Эта непостижимая и неопределенная нирвана, или «град Зевса»,
являющаяся целью отрешенности, представляет собой настоящую антитезу Царству Небесному,
в которое входят путем религиозного опыта преображения. Если философский «мир
иной», по сути, является миром, отличным от нашего земного мира, то
божественный «иной мир» выходит за пределы земной жизни человека, при этом не
переставая включать в себя и ее.
«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие,
отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть»{23}.
Мы увидим, что Царствие Божие настолько же по своей сути
позитивно, насколько негативен «град Зевса», и что если путь отрешенности – это
явное движение ухода, то путь преображения представляет собой движение, которое
мы уже имели случай назвать движением «ухода‑и‑возврата».
* * *
Мы установили в общих чертах шесть пар альтернативных форм
поведения, чувствования и жизни, открывающихся человеческим душам, которым
выпал жребий жить в распадающихся обществах. Прежде чем мы начнем исследовать
их пара за парой более детально, мы можем на миг остановиться, чтобы
сориентироваться и проследить связи между историей души и историей общества.
Допустив, что всякий духовный опыт должен быть опытом
некоего отдельного человеческого существа, обнаружим ли мы, что некоторые виды
опыта среди тех, которые мы рассматривали, характерны для членов отдельных
частей распадающегося общества? Мы обнаружим, что все четыре личные формы
поведения и чувствования – пассивная «несдержанность» и активный самоконтроль,
пассивное чувство самотека и активное чувство греха – могут обнаружиться как в
членах правящего меньшинства, так и в членах пролетариата. С другой стороны,
когда мы подходим к социальным формам поведения и чувствования, то мы должны
будем проводить различие, в наших нынешних целях, между пассивной и активной
парой. Два пассивных социальных явления – впадение в труантизм и уступка
чувству промискуитета – сначала, вероятно, появятся в рядах пролетариата и
оттуда распространятся на ряды правящего меньшинства, которое обычно становится
жертвой болезни «пролетаризации». Наоборот, два активных социальных явления –
поиски мученичества и пробуждение чувства единства – сначала, вероятно,
появятся в рядах правящего меньшинства и оттуда распространятся на пролетариат.
Наконец, когда мы рассмотрим четыре наших альтернативных образа жизни, то
обнаружим, что пассивная пара – архаизм и отрешенность – будут, вероятно,
сначала связаны с правящим меньшинством, а активная пара – футуризм и
преображение – с пролетариатом.
2. «Несдержанность» и самоконтроль
Отдельные проявления «несдержанности» и самоконтроля,
характерные для обществ на стадии распада, возможно, довольно трудно
идентифицировать как раз потому, что две эти формы личного поведения будут
проявляться людьми во всех социальных условиях. Даже в жизни примитивных обществ
мы можем различить оргиастическую и аскетическую тенденцию, а также годовое
чередование этих настроений, в зависимости от времени года, в церемониальном
корпоративном выражении эмоций членов племени. Однако под «несдержанностью» как
альтернативой творчеству в жизни распадающихся цивилизаций мы подразумеваем
нечто более определенное, чем примитивный поток чувств. Мы подразумеваем такое
состояние ума, в котором антиномичность принимается – сознательно или
бессознательно, в теории или на практике – в качестве заменителя творчества.
Примеры «несдержанности» в этом смысле можно идентифицировать почти
безошибочно, если мы попытаемся рассмотреть их наряду с примерами самоконтроля,
который представляет собой альтернативный заменитель творчества.
В эллинское «смутное время», например, в первом поколении
после надлома пара воплощений «несдержанности» и самоконтроля представлена в
платоновских портретах Алкивиада и Сократа в «Пире» и Фрасимаха и Сократа в
«Государстве». Алкивиад, раб страсти, на практике выступает за
«несдержанность», а Фрасимах, защитник принципа «сильный всегда прав», стоит за
тот же принцип в теории.
В следующей главе эллинской истории мы находим, что
представители каждой из этих попыток самовыражения вместо творчества ищут
авторитетной санкции на свои соответствующие формы поведения, претендуя на то,
что это формы «жизни согласно природе». Это ставилось в заслугу
«несдержанности» теми вульгарными гедонистами, которые тщетно присвоили себе и
навлекли дурную славу на имя Эпикура и которые за это оскорбление заслужили
упрек от аскетического поэта‑эпикурейца Лукреция. На противоположной стороне мы
видим, что на санкцию «естественности» на аскетическую жизнь претендовали
киники, образцом которых является Диоген в своей бочке, а в менее жесткой форме
– стоики.
Если мы перейдем от эллинского мира к сирийскому в период
его «смутного времени», то обнаружим ту же самую непримиримую оппозицию между
«несдержанностью» и самоконтролем, проявляющуюся в противоположности между
невозмутимо‑скептической теорией Книги Екклесиаста и благочестиво‑аскетической
практикой монашеской общины ессеев.[146]
Существует еще одна группа цивилизаций – индская, вавилонская,
хеттская и майянская, – которые, по‑видимому, по мере своего распада
возвращаются к этосу первобытного человека в своей явной нечувствительности к
зияющей пропасти между безудержной сексуальностью их религии и преувеличенным
аскетизмом их философии. В случае индской цивилизации присутствует
противоречие, кажущееся, на первый взгляд, неразрешимым, между культом лингама[147] и йогой. Подобным же образом мы поражаемся
соответствующим контрастом между храмовой проституцией и астральной философией
в распадающемся вавилонском обществе, между человеческими жертвоприношениями и
покаянными самоубийствами у майя и между оргиастическими и аскетическими
сторонами хеттского культа Кибелы и Аттиса. Возможно, как раз общая тенденция садистической
крайности, которая входит равным образом и в практику «несдержанности», и в
практику самоконтроля, и поддерживает в душах членов этих распадающихся
цивилизаций эмоциональную гармонию между практиками, которые кажутся
непримиримыми, когда исследуешь их холодным аналитическим взглядом постороннего
наблюдателя.
Играют ли свою роль две эти несовместимые формы поведения на
более широкой сцене западного общества в современной главе его истории?
Недостатка в фактах «несдержанности» нет. В области теории она нашла своего
пророка в лице Жан‑Жака Руссо с его притягательным приглашением «вернуться к
природе», тогда как в области практики «несдержанность» сегодня – это «si
monumentum requiris, circumspice»[148].
С другой стороны, мы можем напрасно искать противоположное возрождение
аскетизма. Быть может, из этого факта можно предварительно сделать циничный
вывод, что если западная цивилизация, в самом деле, находится в стадии надлома,
то ее распад не мог зайти еще очень далеко.
3. Труантизм и мученичество
Труантизм и мученичество в неспециализированном смысле этих
понятий являются просто продуктами порока трусости и добродетели храбрости и
как таковые представляют собой явления, общие для человеческого поведения во
все века и во всех типах общества. Тем не менее, труантизм и мученичество,
которые мы рассмотрим теперь, являются специальными формами, вдохновленными
особым отношением к жизни. Труантизм из простой трусости и мученичество из
чистой храбрости не интересуют нас. Душа труантиста, исследуемая нами, это
душа, вдохновляющаяся подлинным чувством того, что дело, которому она служит, в
действительности не стоит того, чтобы служить ему должным образом. Подобным же
образом, душа мученика, исследуемая нами, это душа, которая идет на
мученичество не просто для того, чтобы оказать практическую услугу в поддержку
этого дела, но скорее для того, чтобы удовлетворить стремление самой души
сбросить с себя
Тяжелое, измучившее бремя,
Которое несем мы в этой жизни{24}.
Подобный мученик, как бы он ни был благороден, в
психологическом смысле – более чем на половину самоубийца. Говоря современным
языком, он – эскапист. Таким же эскапистом более низкого сорта является, без
сомнения, и труантист. Римские архаики, обратившиеся к философии отрешенности,
в этом смысле были мучениками. В своем высшем акте они чувствовали, что они не
лишают себя жизни, но освобождаются от нее. И если поискать примеры труантизма
в том же самом классе в тот же период истории, то можно привести в качестве
примера Марка Антония, пренебрегающего Римом и римскими идеалами gravitas[149] в объятиях полуазиатской Клеопатры.[150]
Два столетия спустя, среди сгустившегося мрака последних
десятилетий II в. христианской эры мы видим в личности Марка Аврелия государя,
чье право на мученический венец не только не лишено законной силы, но,
наоборот, подтверждено предсмертным отказом прервать тяжелую муку, прибегнув к
какому‑либо coup de grace («удару милосердия»).[151] В то же время в его сыне и наследнике, Марке
Коммоде[152], перед нами
зрелище императора‑бездельника, который даже не пытается взять на себя груз
отцовского наследия, перед тем как убежать и освободиться от своих обязанностей
в безудержном моральном бегстве вдоль убогой пепельной дорожке пролетаризации.
Рожденный быть императором, он предпочитает развлекаться в качестве гладиатора‑любителя.
Христианская Церковь была основной мишенью для последних
ударов эллинского правящего меньшинства, которое одичало в своей предсмертной
агонии. Этот умирающий языческий правящий класс отказывался признавать ту
душераздирающую истину, что он сам является причиной собственного падения и
гибели. Даже in articulo mortis (на смертном одре) он пытался спасти
последние крупицы чувства собственного достоинства, убеждая себя, что пал
жертвой подлого нападения со стороны пролетариата. А поскольку внешний
пролетариат теперь собирался в грозные военные отряды, которые были способны не
повиноваться или ускользать от попыток имперского правительства совершить
возмездие за их наглые набеги, главный удар пал на христианскую Церковь,
которая была главным институтом внутреннего пролетариата. В этом суровом испытании
овцы христианского стада были недвусмысленно отделены от козлищ вызовом,
брошенным им необходимостью совершать страшный выбор между отказом от своей
веры и принесением в жертву своей жизни. Изменников был легион – их число,
действительно, было таким огромным, что проблема того, как поступать с ними,
стала жгучим вопросом церковной политики, как только преследования
прекратились. Однако крошечная группа мучеников духовно была несоразмерно более
могущественной в сравнении с их численностью. Благодаря доблести этих героев,
которые в критический момент вышли вперед из рядов христиан, чтобы
засвидетельствовать свою веру ценой самой жизни, Церковь вышла победительницей.
И эта небольшая, но благородная армия мужчин и женщин получила ни больше, ни
меньше как заслуженную ими награду в виде славы, будучи вспоминаемы в истории
как «мученики» par excellence (по преимуществу), в противоположность
«изменникам» (traditores), которые выдавали священные книги или
священные сосуды Церкви по требованию языческих властей Империи. Можно было бы
возразить, что здесь, с одной стороны, явная трусость, а с другой – чистая
храбрость, и что этот пример не годится для поставленной перед нами цели. Что
касается манкирующих своими обязанностями, то у нас нет фактов для ответа на
это обвинение. Их побуждения преданы позорному забвению. Однако относительно
побуждений мучеников имеется преизбыточное количество фактов, доказывающих, что
источником их вдохновения было нечто большее (или меньшее, если угодно
читателю), чем абсолютно незаинтересованная храбрость. Мужчины и женщины
восторженно искали мученичества как таинства, как «второго крещения», средства
оставления грехов и гарантии пути на Небеса. Игнатий Антиохийский[153], один из
знаменитых христианских мучеников II столетия, говорит о себе как о «пшенице
Божьей» и страстно желает того дня, когда он будет «перемолот зубами диких
зверей в чистый хлеб Христов».
Можем ли мы различить эти две противоположные формы
общественного поведения в современном западном мире? Несомненно, мы можем
указать на поразительный акт труантизма в современном западном мире в виде «la
trahison de clercs »[154],[155]. Корни этого
предательства берут начало на такой глубине, до которой одаренный француз,
придумавший это выражение, возможно, не решился дойти, хотя фактически он
осознал, насколько глубоко коренится вред, выбрав средневековое церковное
название для обозначения или обвинения наших современных «интеллектуалов». Их
предательство началось не с той пары вероломных актов, которые они совершили на
памяти нашего поколения, – не с циничной утраты веры в только что бывшие
авторитетными принципы и не с бессильного отказа от недавно завоеванных выгод
либерализма. Процесс, проявившийся в этом позднейшем труантизме, начался
несколькими столетиями раньше, когда «клерки» отказывались от своего
клерикального происхождения, пытаясь передвинуть основание растущей западно‑христианской
цивилизации с религиозного базиса на секулярный. Это был первоначальный акт ϋρβις
(необузданности), возмездием за которую явилось в наши дни άτε
(безумие), накапливавшееся в течение столетий вместе со сложными процентами.
Если мы окинем общим взглядом приблизительно последние
четыреста лет, а затем сосредоточимся на одной части западно‑христианского мира
– Англии, то увидим там Томаса Вулси[156] – современно мыслящего клирика, который признал
себя виновным, оказавшись в немилости, что служил своему Богу меньше, чем
своему королю. Менее чем через пять лет после его позорного конца труантизм
Томаса Вулси обозначился еще четче во всей своей черноте на фоне мученичества
его современников – святого Джона Фишера[157] и святого Томаса Мора.[158] 4. Чувство самотека и чувство греха
Чувство самотека, являющееся пассивным переживанием потери
жизненного порыва, представляет собой одно из наиболее болезненных несчастий,
причиняющих страдания душам мужчин и женщин, которым выпало жить в эпоху
социального распада. Эта боль, возможно, является наказанием за грех
идолопоклонства, совершенный в процессе поклонения творениям вместо Творца. Мы
уже обнаружили, что именно в этом грехе заключается одна из причин тех
надломов, за которыми следуют распады цивилизаций.
Случайность и Необходимость – взаимоисключающие формы той
Силы, которая управляет миром в глазах людей, страдающих чувством самотека. И
хотя, на первый взгляд, два эти представления могут, по‑видимому, противоречить
друг другу, они оказываются, будучи исследованными, просто различными аспектами
одной и той же иллюзии.
Идея Случайности выражена в литературе эпохи египетского
«смутного времени» через сравнение с головокружительным вращением гончарного
круга, а в литературе эллинского «смутного времени» – через сравнение с
кораблем, который брошен рулевым на волю ветра и волн{25}. Благодаря
пристрастию греков к антропоморфизму, Случайность была превращена в богиню, в
«госпожу нашу Автоматик».[159] Освободитель Сиракуз Тимолеон[160] выстроил для нее часовню, в которой совершал
жертвоприношения, а Гораций посвятил ей оду{26}.
Когда мы заглянем в наши собственные сердца, то обнаружим,
что и там эта эллинская богиня восседает на троне, как об этом свидетельствует
вероисповедание, содержащееся в предисловии к «Истории Европы» Г. Э. Л. Фишера:
«Одна мысль… не давала мне покоя. Люди более мудрые и более
ученые, чем я, различали в истории план, ритм, заранее установленную модель. От
меня же эти созвучия были скрыты. Я видел лишь одну случайность, следующую за
другой, как волна следует за волной. Я видел лишь один факт, в отношении
которого, поскольку он уникален, не могло быть обобщений. Я видел только одно
верное правило для историка: о том, что ему следовало признать в развитии
человеческих судеб игру случайного и непредвиденного».
Эта современная западная вера во всемогущество Случая
породила в XIX столетии, когда дела западного человека еще, казалось, обстояли
вполне благополучно, политику laissez‑faire[161] – философию практической жизни, которая была
основана на вере в чудесное просвещение эгоистического интереса. В свете
испытанного ими скоропреходящего удовлетворения наши деды в XIX столетии
претендовали на то, что «знают, что все работает на благо тех, кто любит»
богиню Случайность. И даже в XX столетии, когда богиня начала показывать свои
зубы, она все еще оставалась оракулом британской внешней политики. Точка
зрения, преобладавшая как в народе, так и в правительстве Соединенного
Королевства в течение нескольких роковых лет, начавшихся осенью 1931 г., была
точно выражена в следующей сентенции из передовицы одной крупной либеральной
английской газеты:
«Несколько лет мира – это всегда несколько лет выигрыша, а
война, которая должна идти несколько лет, может вообще никогда не окончиться
успехом»{27}.
Доктрина laissez‑faire не может претендовать на то, что
является оригинальным вкладом европейцев в кладовую человеческой мудрости, ибо
она являлась общераспространенным мнением в китайском мире приблизительно два
тысячелетия назад. Однако китайский культ Случая отличался от западного тем,
что происходил из менее низкого источника. Французский буржуа XVIII столетия
стал верить в laissez‑faire laissez‑passer, потому что с завистью
заметил, как процветает его английский «сосед», проанализировал его положение и
пришел к выводу, что буржуазия может процветать во Франции так же, как и в
Англии, если только короля Людовика заставить последовать примеру короля
Георга, позволившего буржуазии производить то, что она хочет, без ограничений,
и беспошлинно посылать свои товары на любой рынок. С другой стороны, тот путь наименьшего
сопротивления, по которому утомленный китайский мир позволил себе идти в
течение первых десятилетий II в. до н. э., понимался не как проторенная
лошадьми дорожка от гудящей мельницы до суетливого рынка, но как путь, который
является истиной и жизнью – как дао, которое «означает “путь всех вещей”
– ив конечном итоге нечто, очень похожее на Бога, в более абстрактном и
философском смысле этого термина»{28}.
Великое Дао растекается повсюду.
Оно может находиться и вправо, и
влево{29}.
Однако у богини laissez‑faire есть и другой лик,
которому поклоняются, – лик не Случайности, но Необходимости. Два представления
о существовании Случайности и Необходимости – это лишь два различных способа
смотреть на одно и то же явление. Так, например, беспорядочное движение
лишенного управления корабля в глазах Платона символизирует хаос Вселенной,
оставленной Богом. В то же время разум, одаренный необходимыми познаниями в
области динамики и физики, может рассматривать это движение как превосходную
иллюстрацию упорядоченного поведения волн и потоков в воздушной и водной среде.
Когда плывущая по течению человеческая душа понимает, что препятствующая ей
сила – не просто отрицание собственной воли души, но вещь в себе, тогда лицо
невидимой богини меняет выражение с субъективного, или негативного, в котором
она была известна как Случайность, на объективное, или позитивное, в котором
она известна как Необходимость. Однако это происходит без какой‑либо
соответствующей перемены в природе богини или же в затруднительном положении ее
жертв.
Догмат о всемогуществе Необходимости на физическом уровне
существования в эллинскую мысль, по‑видимому, ввел Демокрит – философ, чья
долгая жизнь (около 460‑360 гг. до н. э.) позволила ему достичь зрелости еще до
того, как он стал свидетелем надлома эллинской цивилизации, а впоследствии
наблюдать в течение семидесяти лет процесс ее распада. Однако, по‑видимому, он
игнорировал те проблемы, которые предполагались распространением господства
детерминизма из физической сферы на нравственную. Физический детерминизм был
также основой астральной философии правящего меньшинства в вавилонском мире, и
халдеи не избегли того, чтобы распространить тот же самый принцип на жизни и
судьбы людей. Вполне возможно, что скорее из вавилонских источников, нежели из
идей Демокрита, Зенон, основатель философии стоиков, вывел далеко идущий
фатализм, которым он заразил свою школу и который столь очевиден в
«Размышлениях» самого известного из учеников Зе‑нона – императора Марка
Аврелия.
Современный западный мир, по‑видимому, вспахал целину,
распространив господство Необходимости на сферу экономики, которая, в
действительности, является сферой общественной жизни, упущенной из виду или же
проигнорированной почти всеми теми умами, которые направляли мысль других
обществ. Классическим изложением экономического детерминизма является, конечно
же, философия (или религия) Карла Маркса. Однако в сегодняшнем западном мире
число душ, которые свидетельствуют о сознательной или бессознательной
убежденности в существовании экономического детерминизма, значительно больше,
чем число открыто исповедующих свою веру марксистов, и среди них можно
обнаружить фалангу самых крупных капиталистов.
Владычество Необходимости в физической сфере было также
провозглашено, по крайней мере, одной из групп недавно оперившейся школы
современных западных психологов, которые поддались соблазну отрицания
существования души (в смысле личности или самодетерминирующегося целого),
возбужденные явным первоначальным успехом, которым увенчалась их попытка
проанализировать психические процессы. И как бы ни была молода наука
психоанализа, культ Необходимости в среде психологов может претендовать на то,
что среди его неофитов в час его краткой победы оказался самый известный
политик эпохи.
«Я следую своим путем с уверенностью сомнамбулы, с
уверенностью, которую Провидение послало мне».
Эти слова из речи, произнесенной Адольфом Гитлером в Мюнхене
14 марта 1936 г., заставили содрогнуться миллионы европейских мужчин и женщин
за пределами Третьего рейха, а возможно, и внутри него, тех, чья нервная
система еще не оправилась от предыдущего шока, вызванного немецкой военной
оккупацией Рейнской области за семь дней до того.
Существует еще одна версия веры в психический детерминизм,
разрушающая границы краткой человеческой жизни на Земле и продолжающая причинно‑следственную
цепь во времени как назад, так и вперед. Назад – вплоть до первого появления
человека на земной арене, вперед – до его финального ухода с нее. Это учение
обнаруживается в двух вариантах, которые, по‑видимому, возникли вполне
независимо один от другого. Один вариант – это христианская концепция
первородного греха, другой – индская концепция кармы, которая вошла как
в философию буддизма, так и в религию индуизма. Два эти толкования одного
учения сходятся в том существенном пункте, что заставляют цепь причин и
следствий тянуться непрерывно от одной земной жизни к другой. Как в
христианской, так и в индской точке зрения характер и поведение человека,
живущего сегодня, причинно обусловлено действиями, совершенными в других жизнях
(или в другой жизни) в прошлом. Досюда христианская и индская концепции
совпадают. Однако в этой точке они расходятся в разные стороны.
Христианское учение о первородном грехе утверждает, что
отдельный личный грех прародителя рода человеческого навлек на все его
потомство наследие духовной немощи, от которой оно было бы избавлено, если бы
Адам не утратил благодать. Каждый потомок Адама обречен на это позорное Адамово
наследство, – невзирая на духовную изоляцию и индивидуальность каждой отдельной
души, что является одним из существеннейших догматов христианской религии.
Согласно этому учению, способностью передавать приобретенные духовные
характеристики своим физическим потомкам обладал из всего рода лишь один
прародитель Адам.
Эту последнюю характерную черту учения о первородном грехе
мы не обнаружим в концепции «кармы». Согласно индскому учению, все духовные
характеристики, приобретаемые всяким индивидом в ходе его собственных действий,
передаются по наследству от первого до последнего, во благо или во зло, без
исключения. Носителем этого накопившегося духовного наследия является не
генеалогическое древо, представляющее собой вереницу следующих друг за другом
отдельных личностей, но некий духовный континуум, который неоднократно появляется
в чувственном мире в ряде перевоплощений. Согласно буддийской философии,
непрерывность «кармы» является причиной того «переселения душ», или
метемпсихоза, которое представляет собой одну из аксиом буддийской мысли.
Наконец, мы должны обратить внимание на теистическую форму
детерминизма – форму, которая является, возможно, наиболее странной и
извращенной из всех, поскольку в этом теистическом детерминизме идолу
поклоняются под видом истинного Бога. Приверженцы этого завуалированного
идолопоклонства теоретически еще приписывают объекту своего культа все атрибуты
божественной личности, хотя в то же самое время они упорно настаивают на
единственном атрибуте трансцендентности, усиливая его до такой степени, что их
Бог превращается в существо столь же непостижимое, неумолимое и безличное, что
и сама Saeva Necessitas (Жестокая Необходимость). «Высшие религии», возникшие в
среде внутреннего пролетариата сирийского общества, представляют собой духовные
поля, на которых это идолопоклонническое извращение трансцендентального теизма,
по‑видимому, нашло наиболее благодатную почву. Два классических примера этого
явления – исламское понятие «кысмета» и учение о предопределении,
сформулированное Кальвином, основателем и организатором воинствующего
протестантизма в Женеве.
Упоминание кальвинизма ставит перед нами проблему, которая
оказалась головоломкой для многих умов и для которой мы должны попытаться найти
какое‑то решение. Мы высказали мнение, что детерминистская вера есть выражение
того чувства самотека, которое является одним из психологических симптомов
социального распада. Однако неопровержимым фактом является и то, что многие
люди, которых считали детерминистами, в действительности отличались, в
отдельности и коллективно, необыкновенной энергией, активностью и целеустремленностью,
равно как и необыкновенной уверенностью в себе.
«Основной парадокс религиозной этики, – заключающийся в том,
что только те имеют храбрость обратиться к перевернутому вверх дном миру, кто
убежден, что к ним уже в высшем смысле благоволит та сила, скромными
инструментами которой они являются, – находит в кальвинизме особое
подтверждение»{30}.
Однако кальвинизм – лишь один из нескольких известных
примеров фаталистической веры, которая явно находится в противоречии с
поведением его адептов. Нрав, проявляемый кальвинистами (женевскими,
гугенотами, голландскими, шотландскими, английскими и американскими),
проявлялся точно так же и другими теистическими сторонниками предопределения,
как‑то иудейские зелоты, первоначальные арабо‑мусульмане и мусульмане других
времен и народов – например, янычары Оттоманской империи и сторонники
суданского Махди. А в либеральных западных приверженцах прогресса в XIX
столетии и в русских марксистах XX столетия мы видим две секты атеистического
направления ума, исповедующие веру в предопределение. Их этос явно сродни их
теистическим собратьям, поклоняющимся идолу Необходимости. Параллель между
коммунистами и кальвинистами была проведена под блестящим пером английского
историка, которого мы уже цитировали выше:
«Покажется не совсем фантастичным, если мы скажем, что в
более ограниченном масштабе, однако же при помощи не менее грозного оружия,
Кальвин сделал для буржуазии XVI в. то же, что Маркс сделал для пролетариата
XIX, или что учение о предопределении утоляло тот же самый голод, придавая
уверенность в том, что силы Вселенной – на стороне ''избранных”, как
успокаивала в другую эпоху теория исторического материализма. Он… учил их
чувствовать, что они – избранный народ, пробуждая в них сознание их великой
судьбы в провиденциальном плане и придавая им решимость для осуществления его»{31}.
Историческим звеном между кальвинизмом XVI в. и коммунизмом
XX в. является либерализм века XIX.
«Детерминизм в это время был в моде. И почему бы
детерминизму быть верой гонимой? Закон, которого мы не можем избегнуть, это
благословенный Закон Прогресса – “та разновидность улучшения, которое можно
измерить при помощи статистических данных”. Мы должны только благодарить наши
звезды за то, что нам выпало счастье родиться в таком окружении. Мы должны
энергично осуществлять процесс развития, предписанный нам Природой, и
сопротивляться тому, что было бы одновременно и нечестиво, и бесполезно. Так
утвердилось суеверие Прогресса. Чтобы стать популярной религией, суеверию нужно
было только поработить философию. Суеверию Прогресса посчастливилось сделать
своими рабами, по крайней мере, трех философов – Гегеля, Конта и Дарвина.
Странность заключается в том, что ни один из этих философов в действительности
не относился благосклонно к той вере, которую был обязан поддерживать»{32}.
Можем ли мы в таком случае сделать вывод о том, что
признание детерминистской философии само по себе является стимулом к уверенным
и успешным действиям? Отнюдь нет. Ибо приверженцы учений о предопределении, на
которых их вера произвела столь укрепляющее и стимулирующее воздействие, по‑видимому,
сделали чрезмерно смелое предположение о том, что их собственная воля совпала с
волей Божией, или с законом Природы, или постановлениями Необходимости, и,
следовательно, a priori была обречена на победу. Кальвинистский Иегова –
это Бог, Который отстаивает права Своих избранных. Марксистская Историческая
Необходимость – это безличная сила, которая приводит к установлению диктатуры
пролетариата. Подобные предположения дают уверенность в победе, которая, как
учит военная история, является одним из источников морали, а
следовательно, склонна оправдывать себя достигнутым результатом, заранее
считающимся доказанным. «Possum quia posse videntur»{33} (они
могут, потому что верят, что могут) – было секретом успеха в конечном счете
победившего экипажа в вергилиевском состязании по гребле. Короче говоря,
Необходимость может действовать как могущественная союзница, когда ее принимают
за таковую. Однако это предположение, конечно же, есть акт (и акт высший) ϋρβις (необузданности), который влечет за собой его
конечное отрицание неумолимой логикой событий. Уверенность в победе в конце
концов оказывается проклятием Голиафа, когда длинный ряд его успешных боев
прерывается и завершается его столкновением с Давидом. Марксисты живут своим
предположением приблизительно сто лет, а кальвинисты – около четырех столетий.
Однако мусульмане, которые вверились той же гордой, но бездоказательной вере
около тринадцати столетий назад и в силу этого совершили не менее могучие
деяния в своей ранней истории, имели достаточно времени, чтобы попасть в полосу
неудач. Слабость их реакции на их нынешние бедствия показывает, что детерминизм
с таким же успехом способен черпать мораль из несчастий, с каким способен
стимулировать ее, пока есть возможность давать на вызовы успешные ответы.
Разочарованный сторонник предопределения, наученный горьким опытом, что Бог все‑таки
не на его стороне, обязательно придет к опустошающему выводу о том, что его и
его собратьев‑гомункулусов
…на доске ночей и дней вперед
И в стороны, как пешки, Рок ведет;
Порою вместе сталкивает, бьет
И друг за другом в ящик вновь
кладет{34}.
Если чувство самотека – чувство пассивное, то чувство греха,
представляющее собой альтернативную реакцию на сходное осознание своего
морального поражения, является его активным двойником и антитезой. По своей
сути и по своему духу чувство греха и чувство самотека резко контрастируют друг
с другом. Если чувство самотека производит усыпляющее действие, коварно внушая
душе, чтобы она согласилась со злом, которое, по ее мнению, коренится во внешних
обстоятельствах, недоступное ее контролю, то чувство греха производит действие
стимулирующее, поскольку говорит грешнику о том, что зло находится все‑таки не
вовне, а внутри него и, следовательно, подвластно его воле (если только он
пожелает осуществлять намерения Бога и стать доступным для Божьей благодати). В
этом заключается все различие между той трясиной отчаяния, в которой время от
времени утопает христианин, и тем изначальным импульсом, который начал
подталкивать его вперед, к «вон тем воротам».
Тем не менее, существует своего рода «ничейная земля», на
которой два настроения частично пересекаются, что косвенным образом
предполагается в индской концепции «кармы». Ибо хотя, с одной стороны, «карма»,
подобно «первородному греху», понимается как духовное наследие, которое
взвалено на душу без права отказа от него, накопленное бремя «кармы» в любой
данный момент может быть усилено или ослаблено благодаря сознательному и
добровольному действию индивида, в котором в любой данный момент эта душа
воплощена. Тот же самый путь от неодолимой судьбы к преодолимому греху можно
проделать и следуя христианскому образу жизни. Ибо христианской душе
предоставлена возможность очищения от порчи первородного греха, являющегося
наследством Адама, благодаря поиску и нахождению Божьей благодати, которая
стяжается единственно как Божественный ответ на человеческое усилие.
Пробуждение чувства греха можно обнаружить в развитии
египетской концепции жизни после смерти, возникшей в ходе египетского «смутного
времени». Однако классическим случаем является духовный опыт пророков Израиля и
Иудеи в сирийское «смутное время». Когда эти пророки открывали свои истины и
сообщали о полученном откровении людям, общество, из лона которого они
происходили и к членам которого они обращались, пребывало в беспомощном
ничтожестве в лапах ассирийского тигра. Для людей, социальная система которых
находилась в таком ужасном состоянии, было героическим духовным подвигом
отрицать очевидное объяснение их ничтожного положения действием непреодолимой
внешней материальной силы и пророчить, что, несмотря на внешнюю видимость, лишь
их собственный грех явился причиной их бедствий и что, следовательно, от них
самих зависит их подлинное освобождение.
Эта спасительная истина, открытая сирийским обществом в
момент его сурового испытания надломом и распадом, была унаследована у пророков
Израиля и распространена в христианском обличий сирийским крылом внутреннего
пролетариата эллинского мира. Не научившись у чужеземцев этому принципу,
который уже постигли сирийские души с совершенно неэллинским мировоззрением,
эллинское общество никогда не смогло бы извлечь для себя урок, настолько
расходившийся с его собственным это‑сом. В то же самое время эллины могли бы
столкнуться с еще большими трудностями, чем те, с которыми они столкнулись,
приняв это сирийское открытие близко к сердцу, если бы они сами, своим ходом,
не шли в том же направлении.
Это свое собственное пробуждение чувства греха можно
проследить в духовной истории эллинизма за много веков до того, как эллинская
струйка смешалась с сирийским потоком в одной реке христианства.
Если наша интерпретация происхождения, природы и целей
орфизма верна, то очевидно, что даже до того, как эллинская цивилизация вошла в
фазу надлома, по крайней мере, несколько эллинских душ столь болезненно
осознали духовную пустоту в их собственном культурном наследии, что прибегли к tour
de force (насилию), искусственно изобретя «высшую религию», которую не
удалось создать для них материнской минойской цивилизации. Во всяком случае, не
вызывает никакого сомнения, что в самом первом поколении после надлома 431 г.
до н. э. аппарат орфизма был введен в употребление (и в употребление неверное)
в целях удовлетворения потребности тех душ, которые уже пришли к осознанию
греха и искали, хотя и вслепую, пути освобождения от него. Доказательство этого
мы находим в одном платоновском пассаже, который мог бы равным образом выйти и
из‑под пера Лютера.
«Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей,
уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и
заклинаниями загладить тяготеющий на ком‑либо или на его предках проступок,
причем это будет сделано приятным образом, посреди празднеств… И по этим книгам
[Мусея и Орфея] они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже
целые народы, будто и для тех, кто еще жив, и для тех, кто уже скончался, есть
избавление и очищение от зла: оно состоит в жертвоприношениях и в приятных
забавах, которые они называют посвящением в таинства; это будто бы избавляет
нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают беды»{35}.
Этот первый проблеск собственного чувства греха в душах
эллинского правящего меньшинства кажется настолько же не обещающим ничего
хорошего, насколько отталкивающим. Однако четыре столетия спустя мы
обнаруживаем собственное эллинское чувство греха, которое, без всякого
сомнения, очистилось в пламени страдания. В голосе эллинского правящего
меньшинства эпохи Августа мы слышим почти христианскую ноту, о чем
свидетельствует поэзия Вергилия. Хорошо известный отрывок в конце первой песни
«Георгик» – это молитва об избавлении от мучительного чувства самотека, которая
принимает форму исповеди в своих грехах. Кроме того, хотя грех, об освобождении
которого поэт умоляет Небеса, номинально является «первородным грехом»,
унаследованным от легендарного троянского прародителя, этот отрывок со всей
своей силой заставляет читателя осознать, что здесь он имеет дело с аллегорией.
Грех, в действительности искупаемый римлянами времен Вергилия, это грех,
который они совершали в течение двухвекового периода скатывания, в который
вступили, ввергнув свою страну в войну с Ганнибалом.
За столетие, прошедшее со времени написания поэмы Вергилия,
дух, вдохновлявший его, стал преобладать в слоях эллинского общества, которое едва
ли еще вошло в диапазон излучения христианства. В ретроспективе становится
ясным, что поколения Сенеки и Плутарха, Эпиктета и Марка Аврелия
непреднамеренно готовили свои сердца к тому, чтобы наполнить их светом, шедшим
из пролетарского источника. Причем ни один изощренный эллинский интеллектуал
никогда не предсказал бы, что от этого источника можно ожидать чего‑либо
хорошего. И невольное при‑уготовление сердца, и – в данном избранном случае –
изощренное отрицание пролетарского просвещения с замечательной
проницательностью и меткостью изображены Робертом Браунингом в характерном
наброске «Клеон». Клеон, вымышленный философ, представитель эллинского
правящего меньшинства I в. н. э., пришел в результате своего изучения истории к
душевному состоянию, которое описывает как «глубокое разочарование». Тем не
менее, когда ему предлагают направиться к «некоему Павлу» за разрешением его
проблем, которые он не смог разрешить сам, его amour‑propre[162] просто возмущено:
Ты думаешь, что варвар‑иудей,
Каков и сей обрезанный твой Павел,
Владеет тайной, скрытою от нас?[163]
Эллинское и сирийское общества, несомненно, были далеко не
единственными цивилизациями, в которых чувство греха пробудилось в результате
потрясения, вызванного зрелищем того, как древняя общественная структура
потерпела крах. Не пытаясь составить список подобных обществ, мы можем в
заключение задаться вопросом: а не присоединится ли к ним и западное общество?
Чувство греха – это, без сомнения, то чувство, с которым наш
современный западный гомункулус вполне знаком. Знакомство с ним, на самом деле,
почти что навязано ему, ведь чувство греха является главной отличительной
чертой той «высшей религии», которую он получил в наследство. Однако в данном
случае знакомство, по‑видимому, до недавнего времени воспитывало в людях не
столько презрение, сколько позитивное отвращение. Контраст между этим
характером современного западного мира и противоположным ему характером эллинского
мира VI в. до н. э. обнаруживает склонность к порочности в человеческой
природе. Эллинское общество, начав свою жизнь со скудным и неудовлетворительным
религиозным наследством в виде варварского пантеона, по‑видимому, осознало свою
духовную нищету и приложило все усилия, чтобы заполнить эту пустоту, создав в
лице орфизма «высшую религию» того же рода, какую некоторые другие цивилизации
получили в наследство от своих предшественниц. Характер орфического ритуала и
учения ясно показывает, что чувство греха было сдерживаемым религиозным
чувством, для которого грекам VI в. до н. э. не терпелось найти нормальный
выход. В противоположность эллинскому обществу западное общество является одной
их тех щедро одаренных цивилизаций, которые выросли под эгидой «высшей религии»
внутри куколки вселенской церкви. Возможно, именно потому, что западный человек
всегда был способен доказать свое христианское происхождение, он так часто
недооценивал его и теперь близок к тому, чтобы от него отречься. В самом деле,
культ эллинизма, являвшийся весьма могущественной, а во многих случаях и весьма
плодотворной составляющей западной секулярной культуры со времен Ренессанса,
частично стимулировался и поддерживался общепринятой концепцией эллинизма как
образа жизни. Эта концепция великолепно сочетала со всеми современными
западными добродетелями и достижениями прирожденную и не требующую усилий
свободу от того чувства греха, которое западный человек теперь усердно пытается
удалить из своего христианского наследия. Далеко не случайно, что хотя новейшие
разновидности протестантизма и сохраняют представление о Небесах, они
совершенно отбросили представление об аде и отдали представление о дьяволе на
откуп сатирикам и комедиографам.
Сегодня культ эллинизма вытеснен культом естествознания, однако
перспективы открытия чувства греха в связи с этим не улучшились. Наши
социальные реформаторы и филантропы всегда готовы рассматривать грехи бедных
как неудачи, вызванные внешними обстоятельствами. «Что можно ожидать от
человека, зная, что он родился в трущобах?» А психоаналитики равным образом
готовы рассматривать грехи своих пациентов как несчастья, вызванные внутренними
обстоятельствами, комплексами и неврозами, то есть фактически объяснять и
оправдывать грех как болезнь. В подобном направлении мысли их предвосхитили
философы из романа Сэмюэля Батлера «Едгин», в котором, как, возможно, помнит
читатель, бедному мистеру Носнибору приходится послать за семейным доктором,
потому что он страдает от припадков хищения.
Раскается ли современный западный человек в своем ϋρβις
(необузданности) и почувствует ли к нему отвращение, прежде чем его настигнет
возмездие в виде άτη (безумия)? Ответ предсказать нельзя, однако мы
можем тщательно изучить ландшафт современной духовной жизни, чтобы увидеть
любые симптомы, которые бы могли подать нам надежду на то, что мы вновь обретем
ту духовную способность, для выхолащивания которой сделали все возможное.
5. Чувство промискуитета
а) Вульгарность и варварство манер
Чувство промискуитета – пассивный заменитель того чувства
стиля, которое развивается pari passu[164] с ростом цивилизации. Это состояние ума
практически выражается в акте отказа от себя ради смешения. В процессе
социального распада сходное настроение проявляется во всех областях общественной
жизни – в религии и литературе, языке и искусстве, в равной мере и в такой
более широкой и неопределенной области, как манеры и обычаи. Было бы удобно
начать с этой последней области.
В нашем поиске доказательств по этому вопросу мы, пожалуй, с
особой надеждой будем смотреть на внутренний пролетариат, поскольку уже
отмечали, что общим и характерным бедствием всех внутренних пролетариатов
является пытка переживания оторванности от своих корней. Этот страшный опыт
социального искоренения, как можно было бы ожидать, более других видов опыта
приведет к рождению чувства промискуитета в душах тех, кто вынужденно ему
подвергся. Это априорное ожидание, однако же, не подтверждается фактами.
Гораздо чаще суровый вызов, которому подвергается внутренний пролетариат, по‑видимому,
оказывается вызовом оптимального уровня суровости, на котором действует как
стимул. Мы видим, как оторванный от корней, изгнанный из отечества и обращенный
в рабство народ, пополняющий ряды внутреннего пролетариата, не только прочно
удерживает остатки своего социального наследия, но фактически передает их
правящему меньшинству, которое, как это можно было бы ожидать априорно,
навязывает свою собственную культурную модель массам бездомных и бесприютных
людей, пойманных им в свою сеть и впряженных в ярмо.
Еще удивительнее наблюдать (если, опять‑таки, мы имеем
возможность наблюдать), как правящее меньшинство демонстрирует подобную же
восприимчивость к культурному влиянию внешнего пролетариата. Особенно если
учесть тот факт, что эти свирепые военные отряды изолированы от правящего
меньшинства военной границей и что их варварское социальное наследие, как можно
было бы ожидать, лишено и очарования, и престижа, еще явно сохраняемых даже
осколками тех зрелых цивилизаций, наследниками которых в лице, по крайней мере,
отдельных его невольных рекрутов является внутренний пролетариат.
Тем не менее, мы действительно обнаруживаем в качестве
неопровержимого факта, что из трех частей, на которые раскалывается
распадающееся общество, именно правящее меньшинство наиболее легко поддается
чувству промискуитета. Конечным результатом этой пролетаризации правящего
меньшинства является исчезновение того раскола в социальной системе, который
выступает как показатель социального надлома и воздаяние за него. Правящее
меньшинство в конце концов заглаживает свои грехи, закрывая ту брешь, которая
была ее собственной работой, и сливаясь с собственным пролетариатом.
Прежде чем мы попытаемся проследить ход процесса
пролетаризации по двум параллельным направлениям – вульгаризации в результате
контакта с внутренним пролетариатом и варваризации в результате контакта с
внешним пролетариатом, – было бы удобно взглянуть на некоторые факты
восприимчивости основателей империй, поскольку эта склонность частично может
объяснить последующие события.
Универсальные государства, архитекторами которых являются
эти основатели империй, по большей части являются продуктами военного
завоевания. Следовательно, мы можем обратиться за примерами восприимчивости в
область военной техники. Например, римляне, согласно Полибию, отказались от
собственного кавалерийского оснащения и переняли оснащение у греков, которых
тогда завоевывали. Фиванские основатели «Нового царства» в Египте заимствовали
колесницу в качестве военного средства у своих побежденных противников –
кочевников‑гиксосов. Победившие турки‑османы заимствовали изобретенное
европейцами огнестрельное оружие, а когда события в этой борьбе круто
переменились, западный мир заимствовал у османов их несравненно более мощное
оружие дисциплинированной, вымуштрованной и унифицированной регулярной пехоты.
Однако подобные заимствования не ограничиваются военным
искусством. Геродот отмечает, что персы, хотя и провозглашали себя выше всех
своих соседей, заимствовали свое гражданское платье у мидян, а множество заморских
слабостей, включая противоестественный грех, – у греков. «Старый олигарх» в
ходе своей острой критики Афин V в. до н. э. замечает, что его земляки
благодаря своему господству на море подверглись более широкой порче
иностранными обычаями, чем жители городов менее преуспевающих греческих общин.
Что касается Запада, то привычка западного человека курить табак служит
напоминанием об истреблении им краснокожих аборигенов Северной Америки, а
привычка пить кофе и чай, игра в водное поло, пижама и турецкие бани напоминают
о том времени, когда франкский делец занимал места в оттоманском Кайсар‑и‑Руме[165] и могольском Кайсар‑и‑Хинде. Джазовая музыка
напоминает об обращении в рабство африканских негров и их перевозке через
Атлантику для работ на американских плантациях, возникших на месте охотничьих
угодий исчезнувших краснокожих индейцев.
После этого предварительного изложения некоторых наиболее
известных фактов восприимчивости правящего меньшинства распадающегося общества
мы теперь можем продолжить наше исследование. Сначала мы исследуем
вульгаризацию правящего меньшинства в процессе его мирных контактов с
внутренним пролетариатом, находившимся в его власти, а затем – его варваризацию
в процессе его военных конфликтов с внешним пролетариатом, избежавшим его ярма.
Хотя контакты правящего меньшинства с внутренним
пролетариатом носят мирный характер, в том смысле, что пролетарии уже
завоеваны, часто случается так, что первый контакт между двумя группами
правителей и подданных принимает форму набора рекрутов из рядов пролетариата в
регулярную армию основателей империи. История регулярной армии Римской империи,
например, это история постепенного разжижения, которое началось почти
непосредственно после того, как римская армия в результате изданного Августом
указа была преобразована из случайно набираемой и любительской в постоянную и
профессиональную добровольческую силу. Через несколько столетий армия, которая
первоначально отбиралась почти всецело из правящего меньшинства, стала
набираться почти всецело из внутреннего пролетариата, а в последней фазе своего
существования в весьма значительной степени и из внешнего пролетариата. Историю
римской армии воспроизводит с небольшой разницей в деталях история армии
дальневосточного универсального государства, восстановленного маньчжурскими
основателями империи в XVII столетии христианской эры и история арабской регулярной
армии Омейядского и Аббасидского халифатов.
Если мы попытаемся оценить важность той роли, которую
сыграло товарищество по оружию в разрушении барьера между правящим меньшинством
и внутренним пролетариатом, то обнаружим, как и следовало ожидать, что этот
фактор имел наибольшее значение в тех случаях, когда правящее меньшинство было
представлено основателями империи – выходцами не просто из приграничных
территорий, но выходцами с другой стороны границы, то есть основателями империи
варварского происхождения. Ибо варварский завоеватель, вероятно, еще даже более
восприимчив, чем житель границы, к тем жизненным удобствам, которые он находит
у покоренных им народов. Таким, во всяком случае, был результат товарищества по
оружию между маньчжурами и их китайскими подданными. Маньчжуры совершенно
ассимилировались с китайцами. Ту же самую тенденцию к отказу от формальной
изоляции в пользу фактического симбиоза можно проследить и в истории
первоначальных арабо‑мусульманских завоевателей Юго‑Западной Азии, невольно
восстановивших сирийское универсальное государство, которое первоначально
приняло форму преждевременно уничтоженной империи Ахеменидов.
Если мы обратимся к истории тех правящих меньшинств, которые
появились (как и должно обычно появляться правящее меньшинство) в рамках
распадающегося общества, то мы не сможем не принимать во внимание военный
фактор, однако обнаружим, что здесь товарищество по оружию будет заменено
партнерством по бизнесу. «Старый олигарх» заметил, что в талассократических
Афинах рабы иностранного происхождения стали неотличимы на улицах от
представителей низших слоев общества. В последние дни существования Римской
республики управление домашним хозяйством римских аристократов с их огромным
персоналом и сложнейшей организацией стало привилегий наиболее способных
вольноотпущенников номинального хозяина. А когда домашнее хозяйство Цезаря
фактически стало равноправным партнером вместе с сенатом и народом в управлении
римским универсальным государством, вольноотпущенники Цезаря стали членами правительства.
Императорские вольноотпущенники в ранней Римской империи наслаждались полнотой
власти, сравнимой с той, которой обладали домашние рабы оттоманского султана,
достигшие в одинаковой степени могущественной и столь же ненадежной должности
главного визиря.
Во всех этих случаях симбиоз между правящим меньшинством и
внутренним пролетариатом затрагивал обе партии, и влияние каждой из них
заставляло их следовать тому курсу, который приводил к ассимиляции с другим
классом. На поверхностном уровне «манер» внутренний пролетариат шел к
освобождению, а правящее меньшинство – к вульгаризации. Два эти движения
дополняли друг друга и оба постоянно имели место. Однако если для ранних фаз
было более характерно освобождение пролетариата, то в позднейших главах истории
наше внимание привлекает вульгаризация правящего меньшинства. Классическим
примером является вульгаризация римского правящего класса в эпоху «Серебряного
века»[166] – жалкая трагедия, которая была неподражаемо
описана (или изображена в карикатурной форме) в латинской литературе, еще
продолжавшей сохранять свой сатирический гений после того, как утратила
последнюю искру вдохновения во всех иных жанрах. Этот римский регресс можно
проследить в ряде картин в стиле Хогарта[167], в каждой из
которых центральной фигурой является не просто аристократ, но император:
Калигула, Нерон, Коммод и Каракалла.
О последнем мы читаем у Гиббона:
«Каракалла со всеми обходился надменно и гордо, но среди
своих войск он позабывал даже о свойственном его положению достоинстве, поощрял
их дерзкие фамильярности и, пренебрегая существенными обязанностями
военачальника, старался подражать простым солдатам в их одежде и привычках»{36}.
Манера превращения Каракаллы в «пролетария» не является
столь патологической, как превращение Нерона в артиста мюзик‑холла или же
Коммода – в гладиатора, однако, быть может, имеет гораздо большее значение в
качестве социологического симптома. Эллинское правящее меньшинство, в отрицании
своего социального наследия достигшее последней стадии, было достойным образом
представлено личностью императора, который стремился к пролетарской свободе
бараков, убегая от свободы Академии и Стой. Они казались ему невыносимыми как
раз потому, что он осознавал их в качестве своего наследия. В самом деле, в это
время, накануне следующего спада в развитии эллинского общества после
кратковременной передышки в виде августовского восстановления, относительный
объем, энергия и скорость двух взаимно противоположных потоков влияния,
проистекавших соответственно от правящего меньшинства и от внутреннего
пролетариата, переменились в пользу пролетарского потока до такой степени, что
современный исследователь будет удивлен, не увидев одного из потоков, который
теперь, на данный момент, просто резко изменил свое направление.
Если мы теперь обратим свои взоры на дальневосточный мир, то
увидим, что первая глава из нашей истории пролетаризации римского правящего
класса воспроизводится там в настоящее время. Это можно проиллюстрировать
следующей записью, сделанной ныне живущим западным ученым, показывающим нам,
что война за освобождение открыла путь для пролетаризации в пределах одного
поколения, отделяющего китайского отца маньчжурского происхождения от его
пролетаризированного сына:
«Возможно, именно в Маньчжурии китайцам из Китая свойственно
становиться в течение своей жизни совершенными “маньчжурами”. С примером этого
явления я столкнулся на собственном опыте, когда познакомился с китайским
офицером и его старым отцом. Отец, родившийся в провинции Хэнань, приехал в
Маньчжурию молодым человеком, странствовал по отдаленным уголкам трех ее провинций
и наконец осел в Цицикаре. Однажды я сказал молодому человеку: “Почему вы,
родившись в Цицикаре, говорите, как большинство маньчжурских китайцев, тогда
как ваш отец, родившийся в Хэнани, не только говорит, но и в совершенстве
обладает манерами и даже жестикуляцией старинного маньчжура из Маньчжурии?” Он
засмеялся и сказал: “Когда мой отец был молодым человеком, минженю
(“необразцовому” китайцу, “человеку из народа”) было трудно сделать карьеру в
северных районах. Везде господствовали маньчжуры… Но когда рос я, уже никакого
смысла не имело становиться “образцовым китайцем”, и поэтому я стал, как и все
другие молодые люди моего поколения”. Эта история иллюстрирует процессы,
происходящие в настоящем, так же как и происходившие в прошлом. Молодой маньчжур
из Маньчжурии очень быстро стал неотличим от родившихся в Маньчжурии китайцев».
Однако в 1946 г. англичанину уже не нужно было читать
Гиббона или же покупать билет на транссибирский экспресс, чтобы изучить процесс
пролетаризации. Он мог изучать его у себя на родине. В кинотеатре он мог
увидеть представителей всех классов, находящих одинаковое удовольствие в
просмотре фильмов, созданных для угождения вкусам пролетарского большинства,
тогда как в клубе он мог бы обнаружить, что черный шар не исключает «желтую
прессу». Действительно, если бы наш современный Ювенал был семейным человеком,
то он мог бы оставаться внутри дома и находить свои образцы здесь. Ему просто
следовало бы прислушаться (что гораздо легче, чем заткнуть уши) к той музыке
джаза или «варьете», которую его дети вызывают из радиоприемника. А затем,
когда в конце каникул он провожал бы своих мальчиков в одну из закрытых частных
школ – институт, социальная исключительность которого вызывала отвращение у
демократов, – ему следовало бы не забыть попросить их указать ему на
«благородных» среди их товарищей, собравшихся на платформе. Как только, бегло
оглядев всех, наш насмешливый отец семейства присмотрелся бы к щеголеватому
юному Коммоду, то заметил бы на нем ухарски заломленную пролетарскую шляпу и
увидел, что неряшливо наброшенный, как у апашей, шарф на самом деле тщательно
скрывает обязательный белый воротничок. Здесь мы видим определенное
доказательство того, что пролетарский стиль a la mode[168].
А поскольку соломинка показывает, откуда ветер дует, банальности сатирика могли
бы стать замечательной поживой для более скучного труда историка.
Когда мы переходим от вульгаризации правящего меньшинства в
ходе его мирных контактов с внутренним пролетариатом к исследованию
параллельного процесса его варваризации в ходе военных столкновений с внешним
пролетариатом по ту сторону границы, мы обнаруживаем, что сюжет обеих пьес по
своей основной структуре один и тот же. Во второй из двух пьес мизансценой
является искусственно созданная военная граница – limes универсального
государства, – по сторонам которой, как только поднимается занавес, мы видим
правящее меньшинство и внешний пролетариат, противостоящие друг другу в позиции
обоюдной отчужденности и враждебности. По ходу пьесы отчужденность превращается
в близость, которая, однако же, не приносит мира. А поскольку война
продолжается, время постепенно работает на варваров, пока наконец им не удается
прорваться через границу и опустошить владения, защищаемые гарнизоном правящего
меньшинства.
В первом акте варвар входит в мир правящего меньшинства
последовательно в роли заложника и наемника. В двух этих качествах он
фигурирует как более или менее способный ученик. Во втором акте он приходит как
участник набега, незвано и непрошено, который в конце концов оседает как
колонист или завоеватель. Таким образом, между первым актом и вторым военная
инициатива переходит в варварские руки, и этот сенсационный переход царства,
силы и славы из‑под знамен правящего меньшинства к знаменам варваров оказывает
глубокое воздействие на мировоззрение правящего меньшинства. Теперь оно
пытается восстановить свое быстро утраченное военное и политическое положение,
следуя примеру варваров, а имитация является, несомненно, самой искренней
формой лести.
Набросав, таким образом, сюжет пьесы в общих чертах, мы
можем теперь вернуться к ее началу и проследить, как варвары появляются впервые
на сцене в качестве учеников правящего меньшинства. Затем мы можем заметить,
как правящее меньшинство начинает переменять обычаи, мельком увидеть двух
противников в какой‑то момент, когда, соревнуясь в своем маскараде и заимствуя
друг у друга оперенье, они приобретают гротескное характерное сходство с
химерой. Наконец, мы можем увидеть, что бывшее правящее меньшинство утратило
последние следы своей оригинальной формы, опустившись до восторжествовавшего
варвара по общему уровню явно выраженного варварства.
Наш список варварских военачальников, дебютировавших в
качестве заложников «цивилизованных» держав, включает в себя несколько
известных имен. Теодорих[169] проходил свое ученичество в качестве заложника
римского двора в Константинополе, а Скандербег[170] – в качестве заложника оттоманского двора в
Адрианополе. Филипп Македонский[171] учился военным и мирным искусствам в Фивах у
Эпаминонда[172], а
марокканский вождь Абд аль‑Керим[173], уничтоживший
испанские экспедиционные войска при Анвалев 1921 г., а спустя четыре года
потрясший до основания власть французов в Марокко, проходил одиннадцатимесячное
обучение в испанской тюрьме в Мелиле.
Список варваров, которые «пришли» и «увидели» в качестве
наемников еще до того, как навязали себя в качестве завоевателей, можно
продолжать. Тевтонские и арабские завоеватели римских провинций в V–VII вв.
христианской эры были потомками многих поколений тевтонов и арабов, которые
проходили военную службу в римской армии. Тюркские телохранители Аббасидов IX
в. проложили путь для тюркских пиратов, разделивших Халифат на государства‑наследники
в XI в. Можно привести и другие примеры, и наш список был бы еще длиннее, если
бы исторические письменные свидетельства о предсмертной агонии цивилизаций не
были бы столь фрагментарны. Однако мы можем, по крайней мере, предположить, что
морские пираты, которые толпились по окраинам минойской талассократии и
разграбили Кносс около 1400 г. до н. э., проходили свое ученичество в качестве
наемников Миноса до того, как стали стремиться его вытеснить. Традиция говорит
и о том, что Вортегирн[174], британский
король Кента, держал на службе саксонских наемников до того, как был свергнут
неопытными мародерами Хенгистом и Хорсом.[175]
Мы можем также обнаружить несколько примеров, в которых
варварский наемник упустил свою «несомненную судьбу». Например, Восточная
Римская империя могла бы пасть жертвой варяжской гвардии, если бы не была
разграблена норманнами и сельджуками, разделена франками и венецианцами и
наконец целиком проглочена османами. В свою очередь, Османская империя,
несомненно, могла быть расчленена боснийскими и албанскими наемниками, которые
быстро установили свое господство над провинциальными пашами и даже над самой
Блистательной Портой[176] на рубеже XVIII–XIX вв. Это произошло бы, если
бы не пришли франкские дельцы, следовавшие по пятам албанских всадников, чтобы
придать последней главе оттоманской истории неожиданный поворот, наводнив
Левант и западными политическими идеями, и манчестерскими товарами. Оскские
наемники, нашедшие рынок сбыта для своих услуг в греческих городах‑государствах
Кампании, Великой Греции и Сицилии, осуществляли практику изгнания или
уничтожения своих греческих работодателей всякий раз, когда им представлялась
такая возможность. Не вызывает никаких сомнений, что они продолжали бы эту игру
до тех пор, пока на запад от пролива Отранто не осталось бы ни одной греческой
общины, если бы в критический момент на них с тыла не напали римляне.
Эти примеры могут намекнуть нам на современную ситуацию, в
которой мы не можем еще предсказать, превратятся ли наемники в мародеров, а
если да, то будет ли их смелое предприятие, подобно деятельности осков и
албанцев, пресечено в корне или же, подобно деятельности тевтонов и турок,
осуществится. Нынешний индиец мог бы хорошо подумать о будущей роли в судьбе
Индии тех варваров (воинственно отстаивавших независимость в своих цитаделях за
пределами управления индийской администрации), из которых в 1930 г. была
набрана не менее чем на одну седьмую часть регулярная индийская армия. Не будет
ли гурхским наемникам и патанским рейдерам нашего времени предназначено
остаться в истории в качестве отцов и дедов тех варварских завоевателей,
которые смогут в результате упорного труда создать на равнинах Индостана
государства‑наследники Британской империи?
В этом примере мы еще не знакомы со вторым актом пьесы.
Чтобы увидеть развитие драмы в этой фазе, мы должны вернуться к истории отношений
между эллинским универсальным государством и европейскими варварами за
пределами северной границы Римской империи. На этой исторической сцене мы можем
увидеть от начала до конца параллельный процесс, в ходе которого правящее
меньшинство опускается до состояния варварства, в то время как варвары делают
себе за его счет состояние.
Пьеса начинается в либеральной атмосфере просвещенного
эгоизма.
«Империя не была объектом ненависти варваров. В
действительности они часто стремились быть принятыми на ее службу и многие из
их вождей, подобно Алариху или Атаульфу, не имели больших стремлений, чем быть
назначенными на высокую военную должность. С другой стороны, римляне проявляли
соответствующую готовность использовать для ведения войны силы варваров»{37}.
Оказывается, примерно к середине IV в. христианской эры
среди германцев, находившихся на римской службе, установилась новая практика
сохранения своих национальных имен. Это изменение в этикете, которое, по‑видимому,
было внезапным, указывает на неожиданный прилив самосознания и самоуверенности
в душах варварского личного состава, прежде безоговорочно соглашавшегося «стать
римлянами». Эта новая настойчивость в сохранении своей культурной
индивидуальности не вызвала с римской стороны никакой контр‑демонстрации антиварварской
исключительности. Напротив, варвары, состоявшие на римской службе, начали в
этот самый момент назначаться на консульскую должность, являвшуюся высшей
почестью, которой только мог удостоить император.
В то время как варвары таким образом поднимались на самые
высокие ступени римской социальной лестницы, сами римляне двигались в
противоположном направлении. Например, император Грациан (375‑383)[177] пал жертвой новоявленной формы снобизма, моды
не на вульгарность, но на варварство, которая привела его к принятию
варварского стиля в одежде и к увлечению варварской охотой. Столетие спустя мы
обнаруживаем римлян, фактически завербованных в военные отряды независимых
варварских вождей. Например, в битве при Пуатье в 507 г.[178], когда
вестготы и франки сражались за обладание Галлией, одним из убитых с вестготской
стороны оказался внук Сидония Аполлинария, который в своем поколении ухитрялся
продолжать жизнь культурного литератора классического времени. В начале VI
столетия христианской эры потомки римских провинциалов проявляли не меньшее
рвение в желании следовать по тропе войны за своим «фюрером», чем показали
современные потомки варваров, для которых на протяжении прошлых веков военная
игра была необходима как воздух. К этому времени две части общества достигли
культурного паритета в своем общем варварстве. Мы уже видели, как в IV в.
варвары‑офицеры, состоявшие на римской службе, начали оставлять свои варварские
имена. Следующее столетие явилось свидетелем наиболее ранних примеров
противоположной практики со стороны чистокровных римлян в Галлии принимать
германские имена. Не успело еще закончиться VIII столетие, как эта практика
стала повсеместной. Ко времени Карла Великого каждый житель Галлии, каково бы
ни было его происхождение, носил германское имя.
Если мы сопоставим эту историю упадка и падения Римской
империи с параллельной историей варваризации древнекитайского мира, известные
даты которой выпадают примерно на два столетия ранее, то мы обнаружим
значительное отличие в отношении этого последнего вопроса. Основатели
варварских государств‑наследников древнекитайского универсального государства
дотошно скрывали свою варварскую наготу, усваивая образованные по всем правилам
китайские имена. Возможно, не совсем фантастично будет усмотреть связь между
этим различием в практике по поводу вроде бы незначительного вопроса и
дальнейшим воскрешением древнекитайского универсального государства в форме,
которая была гораздо более эффективной, чем параллельная эвокация «призрака»
Римской империи Карлом Великим.
Прежде чем завершить наш обзор варваризации правящего
меньшинства, мы можем остановиться и задать вопрос: различимы ли какие‑либо
симптомы этого социального явления в современном западном мире? Сначала мы,
вероятно, будем склонны думать, что окончательный ответ на наш вопрос уже
содержится в том факте, что западное общество охватило своими щупальцами весь
мир и что более уже нет никакого значительного по объему внешнего пролетариата,
способного варваризировать нас. Однако мы должны вспомнить об одном факте, в
достаточной мере расстраивающем наши планы. В самом сердце принадлежащего к
западному миру северо‑американского «Нового Света» сегодня существует
многочисленное и широко распространенное население английского и южно‑шотландского
происхождения с протестантским западно‑христианским социальным наследием. Оно
подверглось несомненной и глубокой варваризации, оказавшись отрезанным в лесной
глуши Аппалачей после того, как предварительно «отбыло срок» в ссылке на
«кельтскую окраину» Европы.
Варваризирующий эффект американской границы был описан
американским историком, являющимся знатоком этого предмета.
«В американских поселениях мы можем наблюдать, как
европейский образ жизни входил на континент и как Америка изменяла и развивала
этот образ жизни и влияла на Европу. Наша начальная история – это исследование
европейских зародышей, развивавшихся в американском окружении… Граница – линия
наиболее быстрой и эффективной американизации. Колонистом овладевает дикость.
Она застает его европейцем в одежде, промышленности, орудиях труда, способах
передвижения и в образе мысли. Из железнодорожного вагона она пересаживает его
в берестяное каноэ. Она снимает с него цивилизованные одежды и облекает в
охотничью рубаху и мокасины. Она поселяет его в бревенчатой хижине чироки и
ирокезов и обсаживает вокруг индейский палисад. Вскоре он уже выращивает
индейскую кукурузу и распахивает землю острой палкой, осваивает устрашающие
воинственные выкрики и не хуже индейца снимает скальпы с врагов. Короче говоря,
пограничное окружение сначала было слишком суровым для человека…. Постепенно он
преобразует пустыню. Однако делает это он не так, как в старой Европе… Можно
считать непреложным факт, что здесь новый продукт, который является
американским»{38}.
Если этот тезис правилен, то тогда мы вынуждены признать,
что, по крайней мере, в Северной Америке на одну из частей западного правящего
меньшинства было оказано сильнейшее воздействие одной из частей его внешнего
пролетариата. В свете этого американского предзнаменования было бы опрометчиво
предполагать, что духовная болезнь варваризации – это примета, которую
современное западное правящее меньшинство может позволить себе всецело
проигнорировать. Оказывается, что даже завоеванный и уничтоженный внешний
пролетариат может брать реванш.
б) Вульгарность и варварство в искусстве
Если мы перейдем от более общей сферы манер и обычаев к
узкой сфере искусства, то обнаружим, что чувство промискуитета выдает себя
снова и здесь, выражаясь в альтернативных формах вульгарности и варварства. В
той или иной из этих форм искусства распадающаяся цивилизация поплатится за
неестественно широкое и быстрое распространение, утратив те отличительные
особенности стиля, которые являются «собственноручной подписью» первоклассного
качества.
Классическим примером вульгарности является то, каким
образом распадающаяся минойская и распадающаяся сирийская цивилизации
последовательно распространяли свое эстетическое влияние на побережье
Средиземного моря. Междуцарствие (ок. 1425‑1125 гг. до н. э.), последовавшее за
гибелью минойской талассократии, отмечено вульгарным стилем, за которым
закрепилось название стиль «позднеминойского III периода». Этот стиль превзошел
по своему распространению все более ранние и более утонченные минойские стили.
Подобным же образом, «смутное время» (ок. 925‑525 гг. до н. э.), последовавшее
за надломом сирийской цивилизации, отмечено в финикийском искусстве в равной
мере вульгарным и широко распространенным механистическим соединением сюжетов.
В истории эллинского искусства подобная вульгарность нашла выражение в
чрезмерно роскошном декоре, вошедшем в моду вместе с коринфским ордером в
архитектуре, – расточительность, являющая собой настоящий антитезис характеру
эллинского гения. Когда мы начнем искать выдающиеся образцы этого стиля,
достигшего высшей точки своего развития во времена Римской империи, то
обнаружим их не в центре эллинского мира, а среди остатков храма неэллинского
божества в Баальбеке[179] или на саркофагах, изготовленных эллинскими
каменщиками‑монументалистами для смертных останков варварских вождей‑филэллинов
на удаленной восточной окраине Иранского нагорья.
Если мы обратимся от археологических свидетельств распада
эллинского общества к письменным, то обнаружим, что «высоколобые» из первых
нескольких поколений после надлома 431 г. до н. э. скорбели о вульгаризации
эллинской музыки. Мы уже отмечали в ином контексте вульгаризацию аттической
драмы в руках Δυονύσσυ Tεχνιται («Объединение артистов»). В современном
западном мире мы можем наблюдать, что именно этот цветистый декадентский, а не
строго классический стиль эллинского искусства вдохновлял западную моду на эллинизм
времен барокко и рококо. А в так называемом конфетном (chocolate‑box) стиле
викторианского коммерческого искусства можно узнать аналог стиля
«позднеминойского III периода», который, вполне вероятно, завоюет всю планету,
поставив на службу специфическую западную технику наглядной рекламы
промышленных изделий.
Глупый «конфетный» стиль действует настолько опустошительно,
что заставляет нынешнее поколение прибегать к не менее ужасным средствам. Наше
архаическое бегство от вульгарности к прерафаэлитскому византизму будет
обсуждаться в одной из следующих глав. Здесь же мы должны отметить современную
альтернативную попытку бегства от вульгарности к варварству. Обладающие
чувством собственного достоинства современные западные скульпторы, не нашедшие
подходящего убежища в Византии, обратили свои взоры к Бенину. Не в одном только
искусстве глиптики западный мир, творческие ресурсы которого явно иссякли,
нашел новое вдохновение у варваров Западной Африки. Западно‑африканская музыка
и танцы, равно как и западно‑африканская скульптура, были импортированы через
Америку в самый центр Европы.
На взгляд дилетанта, бегство в Бенин и бегство в Византию,
по‑видимому, вряд ли приведут современного западного художника к возвращению
собственной утраченной души. Однако даже если он и не сможет спасти себя, он
может, вероятно, стать средством спасения для других. Бергсон замечает, что
«посредственный учитель, дающий механические инструкции в науке, созданной
гениальными людьми, может пробудить в одном из своих учеников призвание,
которое никогда сам не чувствовал». И если «коммерческое искусство»
распадающегося эллинского мира совершило поразительный подвиг, пробудив гораздо
более высокое искусство махаянского буддизма, неожиданно встретившись с
религиозным опытом другого распадающегося мира на индской почве, то мы не можем
a priori заявить, что современный западный «конфетный» стиль не способен
будет произвести подобные же чудеса, поскольку он выставляет себя напоказ на
рекламных щитах и вывесках по всей планете.
в) Lingue Franche[180]
В области языка чувство промискуитета проявляется в переходе
от местной особенности к общему смешению языков.
Хотя институт языка существует для того, чтобы служить
средством коммуникации между людьми, его социальным действием в истории
человечества в целом до сих пор было фактическое разделение человеческого рода,
а не объединение его. Ибо языки принимали такое количество различных форм, что
даже те из них, которые наиболее широко распространены, никогда не являлись
общими более чем для одной части человечества, а неразборчивость речи
воспринимается как отличительный признак «иностранца».
В распадающихся цивилизациях на высшей стадии их упадка мы
можем увидеть, что языки, – следуя за судьбой народов, которые являются их
носителями, – ведут междоусобные войны друг с другом и завоевывают (в случае
победы) обширные владения за счет своих побежденных противников. И если есть хоть
крупица исторической правды в легенде о смешении языков в земле Сеннаар у
подножия недостроенного зиккурата в недавно основанном городе Вавилоне, то
история эта, возможно, относится к Вавилону периода распада шумерского
универсального государства. В последней катастрофической главе шумерской
истории шумерский язык стал мертвым языком, сыграв историческую роль в качестве
оригинального проводника шумерской культуры, тогда как аккадский язык, который
недавно добился равенства с ним, теперь должен был бороться с массой диалектов
внешнего пролетариата, принесенных в опустевшие владения варварскими военными
отрядами. Легенда о смешении языков жизненно правдива в том, что ухватывает это
состояние взаимного непонимания как высшего препятствия на пути согласованного
социального действия перед лицом нового, беспрецедентного социального кризиса.
Эту связь языкового различия с социальным параличом можно проиллюстрировать
примерами, которые особенно ярко выделяются при полном свете истории.
В западном мире нашего времени это была одна из роковых
слабостей Дунайской габсбургской монархии, которая погибла в Первой мировой
войне 1914‑1918 гг. Даже в бесчеловечно‑эффективной рабской системе
оттоманского падишаха в период ее зрелости мы видим, как в 1651 г. проклятие
Вавилона пало на головы Ich‑oghlans[181] внутри сераля и привело их к полной
неспособности в критический момент дворцового переворота. В состоянии
возбуждения мальчики забыли искусственно выученный османский язык, и слух
изумленных наблюдателей был поражен «криками… издаваемыми различными голосами
на различных языках, – одни кричали на грузинском, другие – на албанском,
боснийском, мингрельском, тюркском и итальянском»{39}.
Обстоятельства этого обыденного происшествия из оттоманской истории, однако же,
становятся событием особой важности в сцене сошествия Святого Духа, записанной
во второй главе Деяний святых апостолов.{40} В этой сцене языки, на
которых говорят, являются иностранными для говорящих на них – неграмотных
галилеян, до сих пор никогда не говоривших и редко слышавших какой‑либо другой
язык, кроме своего родного арамейского. Их неожиданное уразумение других языков
представляется как чудесный дар Божий.
Таинственный отрывок можно интерпретировать различным
образом, однако не вызовет никаких сомнений то место в нем, которое касается
разбираемой нами проблемы. С точки зрения автора Деяний, ясно, что дар владения
языками был первым расширением их природных способностей, который был необходим
апостолам для выполнения их громадной задачи по обращению всего человечества в
недавно открытую «высшую религию». Однако общество, в котором родились
апостолы, было гораздо лучше снабжено lingue franche, чем наш
сегодняшний мир. Зная родной арамейский язык галилеян, его носитель мог дойти
на севере вплоть до Амана, на востоке – до Загроса, на западе – до Нила, тогда
как греческий, на котором написана сама книга Деяний святых апостолов, мог
привести христианских миссионеров через море до Рима и далее.
Если мы продолжим исследование причин и следствий превращения
местных языков в экуменические lingue franche, то обнаружим, что язык,
одержавший этого рода победу над своими соперниками, обычно обязан своим
успехом тому выгодному преимуществу, что служит в эпоху социального распада
инструментом какого‑либо общества, достигшего могущества или в сфере войны, или
в сфере торговли. Мы обнаружим также, что языки, подобно людям, не могут
одержать победу, не заплатив за это дорогой цены. Ценой, которую платит язык за
то, чтобы стать lingua franca, является принесение в жертву свойственных
ему тонкостей. Ибо только те, кто выучил тот или иной язык в детстве, могут
говорить на нем с тем совершенством, которое является природным талантом и
которого не может достичь искусство. Это суждение может быть подтверждено
обзором исторических фактов.
В истории распада эллинского общества мы видим, как два
языка один за другим – сначала аттический греческий, а затем латинский – начали
свой путь в качестве родных языков двух крошечных областей – Аттики и Лациума,
а затем, к началу христианской эры, распространились настолько широко, что мы
обнаруживаем аттический греческий в канцеляриях на берегах Джелама[182], а латинский
– в лагерях на берегах Рейна. Расширение владений аттического греческого языка
началось с его первоначального утверждения в афинской талассократии в V в. до
н. э., а впоследствии чрезвычайно увеличилось в результате принятия Филиппом
Македонским аттического диалекта в качестве официального языка его канцелярии.
Что касается латинского языка, то он следовал за знаменами победоносных римских
легионов. Однако же если мы, восхитившись распространением этих языков,
исследуем их современное развитие с точки зрения филолога и знатока литературы,
то будем в не меньшей мере изумлены их вульгаризацией. Изысканный местный
аттический язык Софокла и Платона выродился в вульгарный κοινέ[183] Септуагинты[184], Полибия и
Нового Завета. В то же время литературный посредник Цицерона и Вергилия в конце
концов стал «кухонной латынью»[185], которая
выполняла свои долг для всех серьезных форм международного общения в
аффилированном западно‑христианском обществе вплоть до начала XVIII столетия.
Например, Мильтон был «латинским секретарем» при правительстве Кромвеля. В
венгерском парламенте «кухонная латынь» продолжала использоваться в качестве
посредника по деловым вопросам вплоть до 1840 г. Отказ от нее явился одним из
детонаторов того взрыва братоубийственной борьбы между смешанными
национальностями, который произошел в 1848 г.
В процессе распада вавилонской и сирийской цивилизаций
остатки двух погибших одновременно обществ перемешались до такой степени, что
оказались неразличимы под засыпавшим их общим Trümmerfeld[186].
Сквозь разбитую поверхность этих перемешавшихся обломков арамейский язык
распространился пышно, словно сорняк, хотя в отличие от греческого и латинского
арамейский язык был мало или совсем не был обязан своим распространением
покровительству удачливых завоевателей. Однако употребительность арамейского
языка, поразительная для того времени, выглядит мимолетной и ограниченной по
сравнению с распространением арамейского алфавита и письма. Одна из
разновидностей этого письма достигла Индии, где была использована буддийским
императором Ашокой для записи пракритских текстов в двух из четырнадцати его
надписей, известных нам. Другая разновидность, так называемая согдианская,
постепенно проложила путь на северо‑восток от Яксарта до Амура, и к 1599 г.
стала алфавитом маньчжуров. Третья разновидность арамейского алфавита стала
средством распространения арабского языка.
Если мы обратимся теперь к недоразвившемуся космосу городов‑государств
с главным центром в Северной Италии[187], возникшему в
западно‑христианском мире в так называемые Средние века, то мы обнаружим, что
тосканский диалект итальянцев заслонял своих соперников, как аттический
заслонял конкурирующие диалекты древних греков. В то же самое время он
распространился по всему побережью Средиземного моря венецианскими и
генуэзскими купцами и основателями империй. Это общесредиземноморское
распространение тосканского диалекта пережило процветание и даже независимость
итальянских городов‑государств. В XVI столетии итальянский был служебным языком
оттоманского флота, вытеснившего итальянцев из левантийских вод. В XIX в. тот
же итальянский был служебным языком габсбургского флота, имперские владельцы
которого успешно препятствовали итальянским национальным устремлениям с 1814 по
1859 гг. Этот итальянский lingua franca Леванта с его итальянской
основой, которая была почти похоронена под грузом разнообразных иностранных
наносов, является до такой степени изумительным примером гения, ее
представляющего, что его историческое название приобрело всеобщее значение.
Впоследствии, однако, этот вульгаризированный тосканский
диалект был вытеснен (даже в характерных для него левантийских местах
распространения) вульгаризированным французским. Успех французского языка был
обеспечен тем фактом, что в период «смутного времени», надломившего космос
итальянских, немецких и фламандских городов‑государств (фаза в истории распада
этого суб‑общества, начавшаяся в конце XIV столетия и продолжавшаяся вплоть до
конца XVIII), Франция одержала победу в соперничестве среди великих держав,
которые находились на периферии этого все еще распространявшегося общества, за
контроль над его загнивающим центром. Начиная с века Людовика XIV французская
культура оказывала влияние, распространявшееся по мере увеличения военной мощи
Франции. А когда Наполеон достиг исполнения амбиций своих предшественников из
династии Бурбонов, собрав в единую мозаику по французскому плану все
разрозненные фрагменты городов‑государств, разбросанных по лицу Европы у дверей
французской нации от Адриатики до Северного моря и Балтики, наполеоновская
империя доказала, что является не только военной системой, но и культурной
силой.
В действительности как раз культурная миссия и погубила
наполеоновскую империю, ибо идеи, разносчиком которых (в медицинском смысле
этого слова) она являлась, были выражением современной западной культуры, еще
находившейся в процессе роста. Наполеоновской миссией было создание «суб‑универсального»
государства для суб‑общества космоса городов‑государств, располагавшихся в
центре западно‑христианского мира. Однако функцией универсального государства
является обеспечение передышки для общества, долго находившегося в фазе
«смутного времени». Универсальное государство, воодушевляемое динамичными
революционными идеями, есть противоречие в терминах, колыбельная, исполняемая
на тромбоне. Нельзя было рассчитывать, что «идеи Французской революции» будут
действовать как успокаивающее средство, которое заставило бы итальянцев,
фламандцев, жителей рейнских земель и ганзейцев смириться с ярмом французских
основателей империи, вводившими в употребление эти идеи. Наоборот,
революционное воздействие наполеоновской Франции дало этим находившимся в
состоянии стагнации народам стимулирующий толчок. Этот толчок вывел их из
состояния оцепенения и вдохновил на восстание против Французской империи и ее
уничтожение, что явилось первым шагом на пути к их утверждению в качестве
новорожденных наций в современном западном мире. Таким образом, наполеоновская
империя несла внутри себя прометеевские семена своего собственного неизбежного
поражения в эпиметеевской роли, служа в качестве универсального государства
упадочного мира, который некогда, в давно прошедшие годы своего процветания,
создал великолепие Флоренции и Венеции, Брюгге и Любека.
Действительной задачей, которую наполеоновская империя
выполнила невольно, была буксировка выброшенных на берег галеонов покинутой
средневековой армады в фарватер западной жизни и в то же время стимулирование
их бездеятельного экипажа к тому, чтобы он придал своим судам хорошие
мореходные качества. Это действительное французское свершение было бы
краткосрочным и неблагодарным делом по самой своей сути, даже если бы Наполеон
и не вызвал непреодолимую ненависть со стороны национальных государств –
Британии, России и Испании, находившихся за пределами того космоса городов‑государств,
который, по нашим данным, был собственной сферой его действия. Однако
сегодняшнее «великое общество» пользуется одним значительным наследием той
двухсотлетней роли, с ее кратковременной наполеоновской кульминацией, которую
играла Франция в последней фазе существования космоса городов‑государств.
Французскому языку удалось утвердиться в качестве lingua franca этой
центральной части западного мира. Он даже расширил границы своих владений
далеко за самые дальние пределы бывших владений Испанской и Оттоманской
империй. Знание французского все еще необходимо путешественнику по Бельгии и
Швейцарии, Иберийскому полуострову и Латинской Америке, Румынии и Греции,
Сирии, Турции и Египту. В период британской оккупации Египта французский
никогда не переставал быть языком официального общения между представителями
египетского правительства и их британскими советниками. Когда британский
верховный комиссар лорд Эленби[188] 23 ноября 1924 г. зачитал египетскому премьер‑министру
по‑английски два сообщения, содержавшие ультиматум по поводу убийства сердара,
необычный выбор языка, несомненно, предназначался для выражения неудовольствия.
Несмотря на это, письменные копии этих британских сообщений были переведены на
французский в то же самое время. Если наполеоновскую экспедицию в Египет по
следам средневековых итальянских моряков, которую обычно рассматривают как
неуместное и бесполезное предприятие в карьере европейского завоевателя,
рассмотреть с этой точки зрения, то она имеет видимость плодотворной попытки
посеять семена французской культуры на почве, которая была настолько
восприимчива, насколько далека.
Если французский lingua franca является памятником
упадка и падения средневекового суб‑общества внутри западной социальной системы,
то мы можем увидеть в английском lingua franca продукт того гигантского
процесса pammixia[189] , который расширил и разредил современный
западный мир до масштабов «великого общества». Эта победа английского языка
явилась естественным следствием победы самой Великобритании в военной,
политической и торговой борьбе за господство над новым миром за морем – как на
востоке, так и на западе. Английский стал родным языком в Северной Америке и
господствующим lingua franca Индийского полуострова. Он также широко
распространен в Китае и Японии. Мы уже видели, что итальянский употреблялся в
качестве служебного языка на флотах врагов итальянских государств. Точно также
мы обнаруживаем, как в Китае в 1923 г. агент русского коммунизма Бородин использовал
английский в качестве средства общения с китайскими представителями партии
Гоминьдан[190] в политических действиях, целью которых было
вытеснение британцев из портов, открытых по договору для внешней торговли.
Английский использовался также в качестве средства общения среди образованных
китайцев, приехавших из провинции, где говорили на различных китайских
диалектах. Вульгаризация в устах иностранцев классического тосканского и
классического аттического языков имеет аналог в английском языке индийских бабу
и в «пиджин‑инглиш» китайцев.
В Африке мы можем проследить развитие арабского lingua
franca по мере его продвижения вслед за отрядами удачливых арабских и
наполовину с ними ассимилировавшихся местных пастухов, кочевников и
работорговцев на запад – от западного побережья Индийского океана до Озер, и на
юг – от южной оконечности Сахары до Судана. Лингвистические последствия этого
движения можно еще исследовать в сегодняшней жизни. Если физическое влияние
арабских завоевателей было остановлено европейским вторжением, то лингвистическое
воздействие арабского языка на местные языки фактически получило новый импульс
от «открытия» Африки, которую недавно вырвали из рук арабов. Под европейскими
флагами, означающими установление западного режима, арабский язык пользуется
гораздо большими, чем когда‑либо раньше, возможностями для своего
распространения. Возможно, наибольшим из всех преимуществ, дарованных арабскому
языку европейскими колониальными властями, явилось то официальное предпочтение,
которое отдавалось (ради удовлетворения своих собственных административных
нужд) смешанным языкам, возникшим на других культурных берегах, до которых
прилив арабского языка дошел через их туземные мангровые болота. Именно
французский империализм в Верхнем Нигере и британский империализм в Нижнем Нигере,
британский и германский империализм в восточно‑африканских внутренних районах
Занзибара соответственно обеспечили успех языков фулани, хауса и суахили. Все
эти языки – лингвистические сплавы с африканской основой и арабской примесью,
которые стали письменными языками при помощи арабского алфавита.
г) Синкретизм в религии
В области религии синкретизм, или смешение обрядов, культов
и верований, является внешним проявлением того внутреннего чувства
промискуитета, которое возникает из раскола в душе в период социального
распада. Это явление может быть рассмотрено с определенной долей уверенности в
качестве симптома социального распада, поскольку видимые примеры религиозного
синкретизма, которые встречаются в истории цивилизаций в период их роста, оказываются
иллюзорными. Например, если рассмотреть местные мифологии бесчисленных городов‑государств,
согласованные и приведенные в единую панэллинскую систему усилиями Гесиода и
других архаических поэтов, то мы заметим здесь простое жонглирование именами,
которое не сопровождается каким‑либо соответствующим смешением разнообразных
обрядов или различных религиозных эмоций. Также если мы посмотрим на процесс
отождествления латинских numina[191] с олимпийскими божествами – Юпитера с Зевсом
или Юноны с Герой, – то мы заметим, что он в действительности является заменой
примитивного латинского анимизма греческим антропоморфным пантеоном.
Существует и другой класс идентификаций между именами богов,
когда эти вербальные уравнивания встречаются в век распада и также
свидетельствуют о чувстве промискуитета. Однако при более близком исследовании
обнаруживается, что они являются не подлинно религиозными феноменами, но лишь
политической деятельностью под религиозной маской. Таковы идентификации между
именами различных местных богов в эпоху, когда распадающееся общество
насильственно объединяется политически в ходе завоевательных войн между
различными местными государствами, на которые ранее распалось общество в период
своего роста. Например, когда в заключительных главах шумерской истории Энлиль,
владыка (Бел) Ниппура[192], слился с
Мардуком Вавилона и когда Бел‑Мардук Вавилона, в свою очередь, путешествовал
какое‑то время под чужим именем Харбе[193], всесмешение,
ознаменованное этими переменами, было чисто политическим. Первая перемена
свидетельствует о восстановлении шумерского универсального государства
благодаря героизму вавилонской династии, а вторая – о завоевании этого
универсального государства касситскими военными вождями.
Местные божества, которые в распадающемся обществе стали
отождествляться друг с другом в результате унификации различных местных
государств или переноса политической власти над объединенными таким образом
империями с одной группы военных вождей на другую, вероятно, обладали неким
предшествующим сходством друг с другом ввиду того, что они были в большинстве
случаев родовыми божествами различных частей одного и того же правящего
меньшинства. По этой причине смешение божеств, которого требовал raison
d'état[194],
как правило, не сильно противоречило характеру религиозных обычаев и
религиозного чувства. Чтобы найти примеры религиозного синкретизма, который
касается более глубоких слоев, чем raison d'état, и задевает за живое
религиозную практику и веру, мы должны перенести внимание с религии, которую
правящее меньшинство унаследовало от более счастливого прошлого, на философию,
которую оно придумало для себя, пытаясь ответить на вызовы «смутного времени».
При этом мы увидим, как эти соперничающие школы философии сталкивались и
смешивались не только друг с другом, но также и с новыми высшими религиями,
порожденными внутренним пролетариатом. Поскольку эти высшие религии также
сталкиваются друг с другом (не говоря об их столкновении с философскими
теориями), было бы удобно взглянуть сначала на отношения между высшими религиями
inter se[195] и философиями inter se в их изначально
обособленных социальных сферах, прежде чем мы продолжим рассмотрение более
динамических духовных следствий, вытекающих из взаимодействия философий и
высших религий.
В ходе распада эллинского общества поколение Посидония[196] (ок. 135‑51 гг. до н. э.), по‑видимому,
отмечает начало эпохи, когда несколько философских школ, которые до того вели
оживленную и язвительную полемику, теперь единодушно (за исключением одних
эпикурейцев) стремились отметить и подчеркнуть скорее объединявшие их моменты,
нежели разделявшие. Это продолжалось до тех пор, пока не пришло время первого и
второго веков Римской империи, когда каждый философ‑неэпикуреец в эллинском
мире, что бы он ни заявлял о себе сам, не начал подписываться под одним и тем
же эклектическим набором доктрин. Подобная же тенденция к промискуитету в
философии обнаруживает себя в истории распада древнекитайского общества на
соответствующей стадии. Во II в. до н. э., который явился первым столетием
существования империи Хань, эклектизм был в равной мере отличительным признаком
и даосизма, первоначально получившего одобрение при императорском дворе, и
конфуцианства, вытеснившего его впоследствии.
Этот синкретизм конкурирующих философий имеет параллель в
отношениях между конкурирующими высшими религиями. Например, в сирийском мире,
начиная со времени царя Соломона, мы обнаруживаем определенную тенденцию к rapprochement[197] между израильским культом Яхве и культами
местных «ваалов» соседних сирийских общин. Эта дата знаменательна, поскольку,
на наш взгляд, у нас есть причина полагать, что смерть Соломона возвестила о
надломе сирийского общества. Несомненно, замечательной и важной чертой
религиозной истории Израиля этого периода является тот необычайный успех,
которого достигли пророки, борясь с чувством промискуитета и пытаясь направить
поток израильского религиозного движения из не требующего усилий канала
синкретизма в новое напряженное русло, характерное для самого Израиля. Однако
когда мы посмотрим не на дебет, а на кредит сирийского счета взаимных
религиозных влияний, мы вспомним, что сирийское «смутное время» могло быть
свидетелемтого, как культ Яхве оказал влияние на религиозное сознание народов
Западного Ирана, среди которых ассирийскими милитаристами была насажена
«диаспора» израильских пленников. По крайней мере, несомненно, что существовало
и мощное обратное влияние иранского религиозного сознания на иудейское во
времена империи Ахеменидов и после. Ко II в. до н. э. взаимопроникновение
иудаизма и зороастризма достигло таких масштабов, что современные западные
ученые сталкиваются с весьма значительными трудностями, пытаясь определить и
распутать соответствующий вклад, который каждый из этих двух источников внес в
поток, питавшийся их объединенными водами.
Точно так же в развитии высших религий внутреннего
пролетариата индского мира мы видим слияние, гораздо более глубокое, чем
простое уравнивание имен. Это слияние культа Кришны и культа Вишну.
Такое разрушение барьеров между двумя религиями или двумя
философиями в период распада открывает дорогу для rapprochements
(сближений) между философиями и религиями. В подобного рода философско‑религиозных
синкретических соединениях мы обнаружим, что притяжение взаимно и что движение
идет с обеих сторон. Подобно тому, как на военной границе универсального
государства солдаты в имперских гарнизонах и завоеватели из варварских военных
отрядов постепенно сближаются друг с другом по своему образу жизни вплоть до
того, что два социальных типа становятся неразличимы, так и внутри
универсального государства мы можем заметить соответствующее движение
конвергенции между сторонниками философских школ и адептами народных религий.
Параллель оказывается истинной, ибо в том или ином случае мы обнаруживаем, что,
хотя представители пролетариата и соблюдали некоторую дистанцию, встретившись с
представителями правящего меньшинства, последние заходили настолько далеко по
пути пролетаризации, что окончательное смешение происходило почти всецело на
пролетарской основе. Следовательно, изучая rapprochement (сближение) с
обеих сторон, было бы удобнее сначала рассмотреть поближе духовный путь
пролетарской стороны, прежде чем попытаться пойти по следам более длительного
пути, проделанного правящим меньшинством.
Когда высшие религии внутреннего пролетариата оказываются
лицом к лицу с правящим меньшинством, их дальнейшее продвижение по пути адаптации
может по временам ненадолго задержаться на подготовительной ступени, на которой
они привлекают внимание правящего меньшинства, приняв на себя внешний образ
художественного стиля правящего меньшинства. Так, в процессе распада эллинского
мира все безуспешные соперники христианства стремились добиться успеха в своей
миссионерской деятельности на эллинской почве, переделывая визуальные
изображения своих божеств в форме, которая была бы приятна для эллинского
глаза. Однако ни один из них не предпринял хоть сколько‑нибудь заметного
движения, попытавшись сделать следующий шаг, эллинизировавшись не только
внешне, но и внутренне. Одно лишь христианство осмелилось выразить свой символ
веры на языке эллинской философии.
В истории христианства интеллектуальная эллинизация религии,
творческая сущность которой имела сирийское происхождение, наметилась уже в
использовании в качестве языкового средства выражения Нового Завета аттического
κοινή вместо арамейского языка, ибо сам словарный состав этого
изощренного языка нес в себе множество философских импликаций.
«В синоптических Евангелиях[198] Иисус рассматривается как Сын Божий, и эта вера
продолжается и углубляется в Четвертом Евангелии. Однако в прологе Четвертого
Евангелия высказывается и идея о том, что Спаситель мира является творческим
Логосом Бога. Тогда косвенным образом оказывается, хотя это высказывание в
явной форме не произносится, что Сын Божий и Логос Бога – одно и то же: Сын в
качестве Логоса отождествляется с творческой мудростью и целью Божества, Логос
в качестве Сына гипостазируется как личность рядом с личностью Бога‑Отца. В
один прием философия Логоса стала религией»{41}.
Способ проповеди религии на языке философии был одной из
фамильных черт, унаследованных христианством от иудаизма. Не кто иной, как
Филон, иудейский философ из Александрии (ок. 30 г. до н. э. – 45 г. н. э.),
посеял семена, от которых христианские земляки Филона Климент[199] и Ориген[200] смогли пожать столь богатый урожай два
столетия спустя. Возможно, именно в этой части света автор Четвертого Евангелия
удостоился видения Божественного Логоса, с которым он отождествляет
Воплощенного Бога. Несомненно, этот александрийский иудейский предтеча
александрийских христианских отцов Церкви вступил на тропу эллинской философии
через ворота греческого языка. Ибо, конечно же, далеко не случайно, что Филон
жил и философствовал в том городе, где аттический κοινή стал родным
языком местной иудейской общины, до такой степени утратившей знание иврита и
даже арамейского, что это привело их к осквернению Священных Писаний переводом
на язык язычников. Однако в истории самого иудаизма этот иудейский отец
христианской философии является обособленной фигурой. Его оригинальная попытка
вывести платоновскую философию из Закона Моисеева осталась для иудаизма усилием
без последствий.
Когда мы переходим от христианства к митраизму, его
сопернику в состязании за духовное завоевание эллинского мира, то замечаем, что
в своем продвижении на запад со своей иранской родины корабль Митры взял с
собой на борт тяжелый груз вавилонской астральной философии. Подобным же
образом индская высшая религия индуизма ограбила старческую буддийскую
философию, чтобы приобрести для себя оружие, с помощью которого она вытеснила
своего философского соперника с их общей родины в индском мире. Существует
мнение, по крайней мере, одного выдающегося современного египтолога, согласно
которому пролетарский культ Осириса пробил себе дорогу в цитадель
наследственного пантеона египетского правящего меньшинства, лишь узурпировав у
Ра этическую роль (первоначально совершенно чуждую вере в Осириса), роль
божества, которое выявляет и отстаивает справедливость. Однако эта «порча
египтян» дорого обошлась пролетарской религии. Ибо религии Осириса пришлось
поплатиться за «павлиньи перья», попав в руки партии, которой была вынуждена
помогать. Ловкий маневр старого египетского жречества привел к тому, что в его
распоряжении (а затем и под его началом) оказалось приобретающее вес
религиозное движение, которое оно было неспособно подавить или удержать в
страхе. Таким образом, этот маневр поднял жречество на такие вершины власти,
каких оно никогда ранее не достигало.
Пленение религии Осириса жрецами старого египетского
пантеона имеет свои аналоги в пленении индуизма брахманами и в пленении
зороастризма магами. Однако существует и другой, еще более коварный способ,
каким пролетарская религия может попасть в руки правящего меньшинства. Ибо то
жречество, которое приобретает контроль над пролетарской церковью и затем
начинает злоупотреблять им, чтобы управлять в духе и в интересах правящего
меньшинства, не обязательно должно быть старым жречеством, принадлежащим по
своему происхождению к правящему меньшинству. В действительности оно может
набираться из образцовых представителей самой пролетарской церкви.
В ранней главе политической истории Римской республики stasis
(раздор) между плебеями и патрициями завершился «сделкой», в результате которой
патриции приняли в компаньоны вождей плебеев на том негласном условии, что эти
вожди непривилегированного класса не оправдают оказанного им доверия и бросят в
тяжелом положении свой рядовой состав. Подобным же образом в религиозной сфере
евреи еще до времени Христа были преданы и брошены своими бывшими вождями –
книжниками и фарисеями. Эти иудейские «сепаратисты» остались достойными своего,
выбранного ими же, названия в смысле, оказавшемся противоположным тому, который
они вкладывали в него в свое время. Первоначально фарисеи были иудейскими
пуританами, отделившимися от эллинизированных евреев, когда эти отступники
присоединились к лагерю чуждого правящего меньшинства, тогда как отличительной
чертой фарисеев времен Христа было отделение от рядового состава верных и
преданных членов иудейской общины, которым они лицемерно проповедовали, якобы
подавая хороший пример. Этот исторический фон уничтожающего обличения фарисеев
отражен на страницах Евангелий. Фарисеи стали иудейскими церковными двойниками
римских политических хозяев еврейского народа. В трагедии Страстей Христовых мы
видим, что они активно выступают на стороне римских властей, добиваясь смерти
пророка собственного народа, который неоднократно их посрамлял.
Если теперь перейти к исследованию того дополнительного
движения, в ходе которого философские системы правящего меньшинства старались
привлечь внимание к религиям внутреннего пролетариата, то мы обнаружим, что
здесь процесс начинается раньше и, кроме того, заходит дальше. Он начинается в
первом поколении после надлома и движется от любопытства через набожность к
суеверию.
Столь раннее первое вливание религиозной примеси подтверждается
в классическом эллинском случае в мизансцене платоновского «Государства». Сцена
происходит в Пирее, этом древнейшем тигле социальной pammixia
(всесмешения) эллинского мира, перед роковым финалом Пелопоннесской войны.
Хозяин дома, в котором происходит диалог, является чужеземцем[201].
Предполагаемый рассказчик (Сократ) начинает с того, что рассказывает нам о том,
как он ходил в порт из Афин, чтобы «отдать дань уважения фракийской богине
Бендиде, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее
праздник, – ведь делается это теперь впервые». Таким образом, религия «носится
в воздухе» в качестве декорации этого шедевра эллинской философии, причем
религия иностранного и экзотического характера.[202] Здесь, несомненно, мы имеем дело с введением,
которое приготовляет нас к продолжению, описанному современным западным ученым
в следующих словах:
«Необычайным… является то, что, несмотря на иностранный
источник нового [то есть христианского] мифа, теология и философия греческих
отцов Церкви оказывалась в существенных вопросах всецело платонической или,
выражаясь более точно, могла быть заимствована у Платона с небольшими
поправками. Подобная смесь может привести нас к предположению, что мифология,
которой Платон пытался заменить старые россказни о богах, были не столько
враждебны вере христианства, сколько были не вполне христианскими… Из намеков, встречающихся
то здесь, то там, можно было бы даже высказать догадку, что сам Платон смутно
осознавал о грядущем Боговоплощении, пророчествами о котором были его
аллегории. Сократ в “Апологии” предупреждал афинян об иных свидетельствах того,
кто появится после него и отомстит за его смерть. В другом месте он признает,
что, несмотря на все рассуждения и возвышенные грезы философии, полная истина
не может быть познана, пока не будет открыта человеку милостью Божией»{42}.
Исторических фактов, свидетельствующих об этом превращении
философии в религию, у нас вполне достаточно, чтобы проследить ход данного
процесса в его последовательно сменявших друг друга фазах.
Безучастное интеллектуальное любопытство, характеризующее
отношение платоновского Сократа к фракийской религии Бендиды, является также
настроением его исторического современника Геродота в проведенных им побочных
изысканиях в области сравнительного религиоведения. Его интерес к подобного
рода вопросам является существенным образом научным. Тем не менее, теологические
проблемы приобретают большее практическое значение для правящего меньшинства
после поражения империи Ахеменидов, нанесенного Александром Македонским, когда
эллинским правителям государств‑наследников пришлось вводить какие‑то обряды
для удовлетворения религиозных потребностей своего смешанного населения. В то
же самое время основатели и пропагандисты стоической и эпикурейской философских
школ обеспечивали «норму» духовного комфорта для тех индивидуальных душ,
которые, на свое несчастье, сбились с пути, оказавшись в духовной пустыне.
Однако если мы для оценки превалирующей тенденции в эллинской философии этой
эпохи возьмем тон и настроение школы Платона, то обнаружим, что его ученики,
спустя два столетия после Александра, продвинулись еще дальше по пути
скептицизма.
Решительный поворот этого движения начался с греческого
философа‑стоика, сирийца по происхождению, Посидония из Апамеи (ок. 135‑51 гг.
до н. э.), который широко открыл ворота Стой для принятия народных религиозных
верований. Менее чем два века спустя руководство в школе стоиков перешло к
Сенеке, брату Галлиона[203] и современнику св. апостола Павла. В
философских произведениях Сенеки есть пассажи, которые настолько поразительно
напоминают пассажи из посланий апостола Павла, что некоторые из некритически
мыслящих христианских теологов позднего времени позволяли себе даже
предполагать, что римский философ переписывался с христианским проповедником.
Подобные гипотезы столь же излишни, сколь и невероятны. Ибо для нас все же нет
ничего удивительного в этой согласованности настроений двух произведений
духовной музыки, созданных в одну и ту же эпоху под вдохновением одного и того
же социального опыта.
Исследуя отношения между вооруженными охранниками границы
распадающейся цивилизации и варварскими военачальниками по другую сторону ее,
мы видели, как в первой главе истории две партии сближаются друг с другом
вплоть до их фактической неразличимости. Во второй главе они встречаются и
смешиваются на безжизненном уровне варварства. В аналогичной истории rapprochement
(сближения) между философами правящего меньшинства и приверженцами религии
пролетариата сближение в возвышенном плане между Сенекой и св. апостолом Павлом
отмечает завершение первой главы. Во второй главе философия, пав жертвой менее
поучительных религиозных влияний, опускается с уровня благочестия до уровня
суеверия.
Таков жалкий конец философий правящего меньшинства, и он
неизменен, даже когда они борются изо всех сил, чтобы проложить себе дорогу к
той более благоприятной пролетарской духовной почве, на которой произросло семя
высших религий. Не приносит этим философиям никакой пользы и то, что они, в
конце концов, все‑таки расцветают. Тогда этот запоздалый и вынужденный расцвет
мстит им вырождением в нездоровую роскошь. В последнем акте распада цивилизации
философии умирают, тогда как высшие религии продолжают жить и закреплять свои
права на будущее. Христианство сохранилось, вытеснив неоплатоническую
философию, которая не нашла эликсира жизни в своем отказе от рациональности.
Фактически, когда философии и религии встречаются, религии должны усиливаться,
а философии ослабевать. Прежде чем мы завершим наше исследование столкновения
между ними, остановимся на вопросе: почему это поражение философий является
предрешенным исходом?
Какие слабости обрекают философию на неудачу, когда она вступает
в соревнование с религией? Роковой и основополагающей слабостью, от которой
происходят все остальные, является недостаток духовной жизненности. Этот
недостаток жизненного порыва вредит философии двумя способами. Он уменьшает ее
привлекательность для масс и отбивает охоту у тех, кто чувствует ее
притягательность, бросаться в миссионерскую деятельность в ее интересах. В
самом деле, философия отдает предпочтение интеллектуальной элите, «достойным,
хотя и немногим», подобно высокомерному поэту, который рассматривает узость
своего кружка в качестве свидетельства превосходства своих стихов. В поколении,
предшествовавшем Сенеке, Гораций не чувствовал неуместности, предпосылая своим
«Римским одам» философско‑патриотический призыв:
Противна чернь мне, чуждая тайн
моих,
Благоговейте молча: служитель муз
–
Досель неслыханные песни
Девам и юношам я слагаю{43}.
Какая огромная разница по сравнению с притчей Иисуса: «Пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой»!{44}
Таким образом, философия никогда не могла сравниться с
религией по своей силе. Она могла лишь подражать слабостям ее худших
приверженцев и пародировать их. Дуновение религии, на мгновение оживившее четко
очерченный мрамор эллинского интеллекта во времена Сенеки и Эпиктета, быстро
выдохлось после времени Марка Аврелия, превратившись в душную религиозность, а
наследники философской традиции оказались меж двух стульев. Они отказались от
обращения к разуму, не найдя пути к сердцу. Перестав быть мудрецами, они стали
не святыми, но сумасбродами. Император Юлиан за образцом философии обратился от
Сократа к Диогену – легендарному Диогену, от которого происходит в большей
мере, нежели от Христа, «христианский» аскетизм св. Симеона Столпника[204] и его собратьев‑аскетов. Действительно, в этом
трагикомическом последнем акте эпигоны Платона и Зенона признавались в
несостоятельности своих собственных великих учителей и образцов, предаваясь
подражанию внутреннему пролетариату, что было поистине искреннейшей лестью по
отношению к тому profanum vulgus[205],
который Гораций исключал из своей аудитории. Последние неоплатоники Ямвлих[206] и Прокл[207] не столько философы, сколько жрецы
воображаемой, несуществующей религии. Юлиан с его ревностью к жречеству и
ритуалу был потенциальным исполнителем их планов, и скорое крушение при
сообщении о его смерти поддерживавшихся государством церковных учреждений
доказывает истинность суждения основателя школы современной психологии:
«Великие новшества никогда не приходят сверху; они приходят исключительно
снизу… из среды многократно осмеянных молчаливых людей земли – тех, кто в
меньшей степени заражен академическими предрассудками, чем обыкновенно бывают
великие знаменитости»{45}.
д) Cuius regio eius religio?[208]
Мы заметили в конце предыдущей главы, что Юлиану как
императору не удалось навязать своим подданным псевдорелигию, которой он был
предан как философ. Это поднимает более общий вопрос: а могло ли в более
благоприятных условиях правящее меньшинство компенсировать свою духовную
слабость, пустив в ход физическую силу и навязав философию или религию своим
подданным посредством политического давления, которое, хотя и было бы
незаконным, тем не менее, могло бы оказаться эффективным? И хотя этот вопрос
находится вне основной линии доказательств данной части «Исследования», мы
предлагаем найти на него ответ, прежде чем пойдем дальше.
Если мы рассмотрим исторические данные на эту тему, то
обнаружим, что подобные попытки вообще терпят неудачу, по крайней мере, со
временем. Это открытие решительно противоречит одной из социологических теорий
«просвещения» периода эллинского «смутного времени». Согласно этой теории,
сознательное насаждение религиозной практики сверху, которое не было чем‑то
невозможным или даже необычным, фактически являлось стандартным началом
религиозных институтов в цивилизованных обществах. Эту теорию приложил к
религиозной жизни Рима Полибий (ок. 206‑131 гг. до н. э.) в следующем
знаменитом отрывке:
«Однако важнейшее преимущество римского государства состоит,
как мне кажется, в воззрениях римлян на богов. То самое, что осуждается у всех
других народов, именно богобоязнь, у римлян составляет основу государства. И в
самом деле, оно у них облекается в столь грозные формы и в такой мере проходит
в частную и государственную жизнь, что невозможно идти дальше в этом отношении.
Многие могут находить такое поведение нелепым, а я думаю, что римляне имели в
виду толпу. Правда, будь возможность образовать государство из мудрецов,
конечно, не было бы нужды в подобном образе действий; но так как всякая толпа
легкомысленна и преисполнена нечестивых вожделений, неразумных стремлений, духа
насилия, то только и остается обуздывать ее таинственными ужасами и грозными
зрелищами. Поэтому, мне кажется, древние намеренно и с расчетом внушали толпе
такого рода понятия о богах, о преисподней, напротив, нынешнее поколение,
отвергая эти понятия, действует слепо и безрассудно»{46}.
Эта теория происхождения религии почти столь же далека от
истины, сколь и теория происхождения государства в результате общественного
договора. Если мы продолжим теперь рассмотрение исторических данных, то
обнаружим, что хотя политическая власть и не является полностью неспособной
производить воздействие на духовную жизнь, ее способность действовать в этой
сфере зависит от особого стечения обстоятельств, причем даже и в этом случае
масштаб ее действия жестко ограничен. Удачи являются исключениями, а провалы –
правилами.
Рассмотрев сначала исключения, мы можем заметить, что
политические властители иногда действительно добиваются успеха в установлении
культа, когда этот культ является выражением не какого‑либо подлинно
религиозного чувства, но некоего политического настроения, скрывающегося под
религиозной маской.
Например, сюда относится псевдорелигиозный обряд, выражающий
жажду политического единства общества, которое испило до дна горькую чашу
«смутного времени». В этих обстоятельствах правитель, который уже завоевал
власть над сердцами своих подданных в качестве их человеческого спасителя,
может добиться успеха в установлении культа, объектами поклонения в котором
будут его собственная власть, личность и династия.
Классическим примером этого tour de force (рывка)
является обожествление римских императоров. Однако культ цезарей оказался
ненадежным культом, прямо противоположным «нынешней помощи в смутное время»,
которой должна быть подлинная религия. Он не пережил первого краха Римской
империи на рубеже II–III столетий. Солдатские императоры[209] последующего периода восстановления начали
изыскивать некие сверхъестественные санкции вне пределов их собственного
дискредитированного императорского гения. Аврелиан[210] и Констанций Хлор[211] привлекли под свои знамена абстрактный и
экуменический культ Непобедимого Солнца (Sol Invictus)[212], а в
следующем поколении Константин Великий (306‑337) перенесет свою преданность на
того Бога внутреннего пролетариата, который оказался гораздо могущественнее,
чем Солнце или цезарь.
Если мы обратимся от эллинского мира к шумерскому, то увидим
аналог культа цезаря в культе своей собственной человеческой личности,
установленном не самим основателем шумерского универсального государства Ур‑Енгуром[213], но его
наследником Дунги (ок. 2280‑2223 гг. до н. э.).[214]Однако это
изобретение тоже, по всей видимости, оказалось ненадежным. Во всяком случае,
амморит Хаммурапи, занимающий в шумерской истории место, аналогичное месту
Константина в истории Римской империи, правил не как воплощенный бог, но как
слуга трансцендентного божества Бел‑Мардука.
Исследование тех следов «культа цезаря», которые можно найти
в других универсальных государствах (андском, египетском и древнекитайском),
подтверждает наше впечатление о внутренней слабости культов, распространяемых
политическими властителями сверху. Даже когда подобные культы по своему
существу носят политический характер, являясь религиозными только по форме, и
даже когда им соответствует подлинно народное чувство, они проявляют небольшие
возможности выдерживать бури.
Есть еще один разряд случаев, когда политический властитель
пытается навязать культ, который является не просто политическим институтом под
религиозной маской, но носит подлинно религиозный характер. В этой области мы
также можем указать примеры, когда эксперимент до некоторой степени был
успешен. Тем не менее, по‑видимому, условием успеха в подобных случаях является
то, что религия, насаждаемая таким образом, уже должна была бы быть «в
действии» (во всяком случае, в душах меньшинства подданных политического
руководителя). Но даже когда это условие выполняется и успех достигнут, цена,
которую приходится платить за него, оказывается непомерно высокой. Ибо религия,
которая благодаря проявлению политической власти успешно насаждается во всех
душах, чьи тела являются подданными правителя, ее насаждающего, вероятно,
приобретет эту часть мира ценой утраты каких‑либо надежд на то, чтобы стать в
будущем или остаться вселенской церковью.
Например, когда Маккавеи в конце II в. до н. э. из
воинствующих поборников иудейской религии, выступавших против эллинизации,
превратились в основателей и правителей одного из государств‑наследников
империи Селевкидов, эти неистовые противники гонений сами, в свою очередь,
стали гонителями и принялись насаждать иудаизм среди нееврейских народов,
завоеванных ими. Эта политика была успешной в распространении власти иудаизма
над Идумеей, «Галилеей язычников» и над узкой полоской трансиорданской Переи.
Но даже и эта победа силы была весьма ограничена. Ибо ей не удалось преодолеть
ни партикуляризм самаритян, ни гражданскую спесь двух рядов эллинизированных городов‑государств,
расположенных по обеим сторонам владений Маккавеев – один ряд вдоль
средиземноморского побережья Палестины, а другой – вдоль ее пустынной границы в
Десятиградии. Фактически, выигрыш, доставшийся при помощи военной силы, был
незначительным, а за его достижение иудейской религии пришлось заплатить всем
своим духовным будущим. Ибо величайшая ирония судьбы заключается в том, что
новая земля, завоеванная для иудаизма Александром Яннаем[215] (102‑76 гг. до н. э.), дала рождение по
прошествии каких‑то ста лет иудейскому пророку из Галилеи, миссией которого
явилось завершение всей предшествующей религиозной практики иудаизма, и что
этот вдохновенный иудейский отпрыск насильственно обращенных галилейских
язычников был отвергнут иудейскими вождями еврейства того времени.
Следовательно, иудаизм не только свел на нет свое прошлое, но и утратил свое
будущее.
Если мы обратимся теперь к религиозной карте современной
Европы, то, естественно, должны будем исследовать, в какой мере нынешние
границы между владениями католицизма и протестантизма были установлены при
помощи оружия или дипломатии местных государств‑наследников средневековой Respublica
Christiana. Несомненно, влияние внешних военных и политических факторов на
исход религиозного конфликта XVI‑XVII столетий не следует слишком
преувеличивать. Ибо если взять два крайних случая, то трудно было бы
представить, чтобы действие любой светской власти могло удержать балтийские
страны в лоне католической Церкви или привести средиземноморские страны в
протестантский лагерь. В то же самое время была промежуточная, спорная зона, в
которой действие военных и политических сил, несомненно, имело большое влияние.
Эта зона охватывает Германию, Нидерланды, Францию и Англию. В частности, именно
в Германии классическая формула cuius regio eius religio (чья страна,
того и вера) была изобретена и применена. Мы можем считать, что, по крайней
мере, в Центральной Европе светские государи успешно использовали свою власть
для насильственного навязывания подданным той из конкурирующих разновидностей
западного христианства, которой отдавал предпочтение их местный властитель. Мы
можем также измерить тот ущерб, который был нанесен впоследствии западному
христианству – как католическому, так и протестантскому – в качестве воздаяния
за то, что оно позволило себе стать зависимым от политической опеки, а
следовательно, подчиниться raison d'état (государственной
необходимости).
Одной из первых потерь, которую пришлось заплатить, была
утрата католической Церковью поля своей миссионерской деятельности в Японии.
Ростки католического христианства, посаженные там иезуитскими миссионерами в
XVI столетии, были вырваны с корнем к середине XVII столетия в результате
умышленного действия правителей недавно основанного японского универсального
государства, поскольку эти государственные деятели пришли к выводу, что
католическая Церковь является инструментом имперских амбиций испанской короны.
Эта потеря многообещающего поля миссионерской деятельности, тем не менее,
должна была оцениваться как пустяк по сравнению с тем духовным обнищанием,
которое принесла политика cuius regio eius religio западному
христианству на его родине. Готовность всех соперничающих группировок западно‑христианского
мира эпохи Религиозных войн искать кратчайший путь к победе, глядя сквозь
пальцы на насаждение своих учений среди приверженцев конкурирующей веры или
даже требуя его при помощи политической силы, было зрелищем, которое подорвало
основания всякой веры в душах, за которые боролись воюющие Церкви. Варварские
методы Людовика XIV по искоренению протестантизма на духовной почве Франции
лишь очистили почву для альтернативного посева скептицизма. Через девять лет
после отмены Нантского эдикта[216] последовало рождение Вольтера. В Англии мы
также видим, что подобное скептическое настроение воцарилось в качестве
обратной реакции на религиозную воинственность пуританской революции. Новое
Просвещение возникло из настроения, родственного тому, которое проявилось в
процитированном в начале данной главы отрывке из Полибия. Эта школа мысли
рассматривала религию саму по себе в качестве предмета насмешек, так что к 1736
г. епископ Батлер[217] мог написать в предисловии к своей книге
«Аналогия религии, естественной и Откровения, с устройством и движением
природы»:
«Доходит до того, что многие люди, уж не знаю каким образом,
принимают как должное то, что христианство – не просто является предметом
исследования, но что теперь во всех деталях открыта его вымышленность.
Соответственно, они относятся к нему так, как если бы эта точка зрения была
общепринятым мнением в нынешнее время среди всех народов, обладающих
проницательностью. Не остается ничего иного, как рассматривать его в качестве
основного предмета для веселья и насмешки, так сказать, с целью репрессалий за
то, что оно так долго препятствовало получать удовольствия мира».
Этот склад ума, который освободился от фанатизма ценой
убийства веры, сохранялся с XVII столетия по XX и до такой степени
распространился во всех частях западного «великого общества», что оно начало,
наконец, понимать, что он ему принес. То есть оно начало осознавать этот склад
ума в качестве высшей угрозы для духовного здоровья и даже для материального
существования западной социальной системы – угрозы гораздо более страшной, чем
любые наши недавно приобретенные и шумно разрекламированные политические и
экономические заболевания. Это духовное зло теперь слишком огромно, чтобы его
можно было игнорировать. Однако легче поставить диагноз болезни, нежели
прописать лекарство, ибо вера – это не стандартный предмет торговли, который
можно приобрести в случае нужды. Будет действительно тяжело вновь заполнить тот
духовный вакуум, который образовался в западных сердцах из‑за прогрессирующего
упадка религиозной веры, продолжающегося в течение вот уже двух с половиной
столетий. Мы все еще продолжаем реагировать на подчинение религии политике,
явившееся преступлением наших предков в XVI‑XVII вв.
Если мы рассмотрим в общих чертах различные сохранившиеся
формы западного христианства в их нынешнем состоянии и сравним их по их
относительной жизненности, то мы обнаружим, что их жизненность меняется обратно
пропорционально той степени, в какой каждая из этих сект подчинилась светскому
контролю. Несомненно, католицизм – это форма западного христианства, которая
проявляет сегодня наиболее сильные признаки жизненности. Католическая Церковь,
несмотря на то что католические государи заходили весьма далеко в отдельных
странах в отдельные эпохи, утверждая свой контроль над жизнью Церкви в пределах
своих владений, тем не менее, никогда не теряла того неоценимого преимущества,
что была объединена в единую общину под руководством единой высшей церковной
власти. Следующими за католической Церковью в порядке их жизненности мы,
наверное, поместим те протестантские «свободные Церкви», которые освободились
из‑под контроля светских властей. И, несомненно, в самый конец списка мы
поместим те протестантские «государственные» Церкви, которые до сих пор
остаются связанными с политической системой того или иного современного
национального государства. Наконец, если мы осмелимся провести различие по
относительной жизненности между разными оттенками религиозной мысли и практики
в пределах такой широко разветвленной и многообразной государственной Церкви,
как Церковь Англии, то не колеблясь отдадим пальму первенства как наиболее
жизнеспособной англо‑католической разновидности англиканства, которая со
времени законодательного акта 1874 г.[218], замышлявшего
урезать «мессу в маскараде», обходилась со светскими законами с
пренебрежительным безразличием.
Мораль этого одиозного сравнения проста. Это различие в
судьбах различных частей западно‑христианской Церкви Нового времени, по‑видимому,
завершает доказательство нашего предположения о том, что религия в конце концов
теряет гораздо больше, чем могла бы надеяться выиграть, обращаясь за
покровительством к гражданской власти или подчиняясь ей. Тем не менее, есть
одно заметное исключение из этого несомненного правила, которое мы должны будем
объяснить, прежде чем признаем правило пригодным. Этим исключением является
ислам. Ибо исламу удалось стать вселенской церковью распадающегося сирийского
общества несмотря на то, что в политическом смысле он был скомпрометирован на
более ранней стадии и явно более решительным образом, чем любая из религий,
рассмотренных нами до сих пор. В самом деле, ислам был политически
скомпрометирован уже во время жизни его основателя действиями не кого иного,
как самого основателя.
Политическая карьера пророка Мухаммеда распадается на две
резко различающиеся и на вид противоположные друг другу главы. В первой он
занят проповедью религиозного откровения методами мирной «евангелизации». Во
второй главе он занят укреплением политической и военной власти и
использованием этой власти тем самым способом, который в других случаях
оказывался гибельным для религии, прибегавшей к нему. В этой мединской главе
Мухаммед использовал вновь обретенную материальную власть, чтобы усилить
подчинение, по крайней мере, внешним обрядам религии, которую он основал в
предшествующей главе своей деятельности, еще до своего знаменательного ухода из
Мекки в Медину. Исходя из этого, хиджра должна была бы отмечать дату гибели
ислама, а не дату его основания, как это считается с тех пор. Как мы объясним
тот неопровержимый факт, что религия, предложенная миру в качестве воинствующей
веры варварского вооруженного отряда, сумела стать вселенской церковью несмотря
на то, что начала с таких тяжелых духовных препятствий, которые, как можно бы
ожидать на основании аналогичных случаев, могли оказаться чрезмерными?
Когда мы поставим проблему таким образом, то обнаружим
несколько частичных объяснений, которые, взятые вместе, возможно, смогут в
сумме дать решение.
Во‑первых, мы можем не принимать в расчет тенденцию,
популярную в христианском мире, переоценивать степень применения физической
силы в распространении ислама. Демонстрация приверженности к новой религии,
которой требовали наследники пророка Мухаммеда, ограничивалась исполнением
небольшого числа не особо обременительных обрядов, но даже и этого не
предпринималось за пределами первоначальных языческих общин аравийской
«ничейной земли», на которой возник ислам. В завоеванных провинциях Римской и
Сасанидской империй предлагалась не альтернатива «ислам или смерть», но
альтернатива «ислам или добавочный подоходный налог» – политика, которую
традиционно восхваляли за ее просвещенность, когда ее спустя столетия проводила
индифферентная в вопросах религии королева Елизавета. Не был этот выбор и
оскорбительным для немусульманских подданных Арабского халифата в правление
Омейядов, ибо Омейяды (за исключением единственного представителя этой
династии, правившего всего три года) были индифферентны к человеку. Фактически,
Омейяды сами были тайными язычниками, безразличными или даже прямо враждебно
настроенными к распространению исламской веры, номинальными вождями которой они
являлись.
В этих исключительных условиях исламу пришлось прокладывать
путь среди неарабских подданных халифата благодаря своим собственным
религиозным достоинствам. Его распространение было медленным, но верным. В
душах бывших христиан и бывших зороастрийцев, принимавших новую религию
несмотря на безразличие своих номинально мусульманских омейядских хозяев, если
не вопреки неудовольствию ими, ислам стал верой, совершенно отличной от той,
которую несли с собой арабские завоеватели в качестве вероисповедного признака
привилегированного политического положения. Новообращенные из неарабского
населения приспособили ислам к своему собственному мировоззрению, переведя
грубые и небрежные суждения пророка в утонченные и непротиворечивые понятия
христианского богословия и эллинской философии. Именно в этих одеяниях ислам
обрел способность стать объединяющей религией сирийского мира, который до сих
пор был воссоединен лишь на поверхностном уровне политики благодаря победе
арабского военного завоевания.
В течение ста лет после достижения Муавией[219] политической власти неарабские подданные‑мусульмане
халифата стали достаточно сильны, чтобы сместить с престола индифферентных
Омейядов и поставить на их место новую династию, чья набожность отражала бы
религиозный характер ее сторонников. В 750 г., когда поддержка неарабских
мусульман позволила Аббасидам победить Омейядов, быть может, численная сила
религиозной группы, перевесившей чашу весов, была столь же малой в соотношении
со всем населением Арабской империи, сколь и число христиан в Римской империи
времен победы Константина над Максенцием. Доктор Н. Г. Бейнс оценивает эту
цифру приблизительно в десять процентов{47}. Массовые обращения
подданных халифата в ислам, вероятно, начались не ранее IX столетия
христианской эры и продолжались вплоть до распада империи Аббасидов в XIII
столетии. Можно с уверенностью сказать, что этот запоздалый урожай на
миссионерском поле ислама был результатом добровольного народного движения, а
не политического давления. Ибо в списке аббасидских халифов, растянувшемся на
пять столетий, немного найдется исламских двойников Феодосия и Юстиниана,
злоупотреблявших политической властью в предполагаемых интересах своей религии.
Эти факты могут быть учтены как удовлетворительные, за тем
исключением, каким prima facie[220] является для нашего правила ислам. Ведь хотя и
нет ничего невозможного в том, что светская власть в какой‑то мере достигает
успеха, насильственно насаждая среди своих подданных уже существующую религию,
цена, которую приходится платить за такую политическую поддержку, в конце
концов значительно перевешивает любую непосредственную выгоду, которую может
принести религия, опекаемая политически.
То же самое наказание, по‑видимому, следует и в том случае,
когда политическое покровительство вовсе не приносит никакой непосредственной
отдачи. Среди наиболее известных случаев, когда религия получала
компрометировавшую ее поддержку светской власти и несла явные убытки, мы можем
назвать окончившиеся неудачей попытки Юстиниана насадить кафолическое
православие среди своих подданных‑монофизитов по ту сторону Тавра, попытки Льва
Сириянина и Константина V насадить иконоборчество среди своих подданных‑иконопочитателей
в Греции и Италии, попытки британской короны насадить протестантизм среди своих
подданных ирландских католиков, а также неудачную попытку монгольского
императора Аурангзеба[221] насадить среди своих индусских подданных
ислам. И если так обстоят дела в том случае, когда насаждается уже существующая
религия, то еще менее вероятно, что политическая власть преуспеет, пытаясь
насадить философию правящего меньшинства. Мы уже упоминали о неудаче императора
Юлиана, которая фактически явилась отправной точкой этого исследования. Столь
же полной была неудача императора Ашоки в насаждении хинаянской разновидности
буддизма среди своих индских подданных, хотя буддийская философия его времени
переживала интеллектуальный и нравственный расцвет и тем самым была сравнима
скорее со стоицизмом Марка Аврелия, а не с неоплатонизмом Юлиана.
Остается рассмотреть те случаи, когда правитель или правящий
класс стремились насадить не религию, которая уже существовала, и не философию
правящего меньшинства, а новомодную «вымышленную религию» своего собственного
изобретения. Принимая во внимание уже отмеченные неудачи, когда целью являлось
насаждение религии или философии, уже обладавших прирожденной жизненностью, мы
могли бы почувствовать себя вправе предположить, не рассматривая доказательств,
что и это последнее дело окажется неудачным, когда бы и где бы оно ни было
предпринято. И это, действительно, оказывается так. Однако «вымышленные
религии» достаточно редки в истории и по этой именно причине (если не по
другой) мы можем их быстро рассмотреть.
Самым крайним фактом такого рода, возможно, является история
исмаилитского шиитского диссидента халифа аль‑Хакима (996‑1020)[222], ибо из каких
бы внешних источников не проистекала так называемая теология друзов, ее
отличительной догмой является обожествление самого аль‑Хакима в качестве
последнего и самого совершенного из десяти последовательных воплощений Бога –
божественного и бессмертного мессии, который придет победителем в мир, из
которого он таинственным образом ушел после своего недолгого первого явления.
Отдельной удачей миссионеров этой новой религиозной веры явилось обращение
апостолом Дарази в 1016 г. одной крошечной общины в сирийском районе Вад‑иль‑Таим
у подножия горы Хермон. Пятнадцать лет спустя от миссии по обращению мира в
новую веру явно отказались, и с тех пор община друзов никогда не принимала
новообращенных и не терпела отступников, но оставалась закрытой наследственной
религиозной корпорацией, члены которой носят не имя воплощенного бога, которому
они поклоняются, но его проповедника, который впервые познакомил их со странной
проповедью аль‑Хакима. Укрытая высоко в горах Хермона и Ливана друзская
церковь, не ставшая вселенской, явилась идеальным примером «окаменелости в
цитадели». Это является лишним доказательством того, что «вымышленная религия»
аль‑Хакима потерпела фиаско.
Если религия аль‑Хакима сохранилась, по крайней мере, как
«окаменелость»,) от равно самонадеянной попытки сирийского извращенца Вария
Авита Бассиана[223] совсем ничего не осталось. Он пытался
установить в качестве высшего бога официального пантеона Римской империи не
свою собственную персону, но местное эмесское божество – бога солнца Элагабала,
наследственным верховным жрецом которого он являлся и чье имя продолжал носить
после того, как судьба возвела его в 218 г. на римский императорский трон. Его
убийство спустя четыре года привело его религиозный эксперимент к внезапному и
решительному завершению.
Неудивительно видеть, что Элагабал и аль‑Хаким потерпели
неудачу в своих попытках заставить политическую власть служить своим
религиозным капризам. Однако мы, возможно, еще яснее поймем трудность
распространения вероучений и обрядов при помощи политических действий сверху,
когда исследуем не менее поразительные неудачи других правителей, которые
пытались воспользоваться политической властью для продвижения того или иного
религиозного дела, в котором они были заинтересованы по более серьезным
мотивам, нежели желание удовлетворить личный каприз. Были такие правители,
которые неудачно пытались распространять «вымышленную религию» из
государственных интересов, причем сами они могли быть неверующими, однако,
несомненно, не были скомпрометированными или же недостойными высшей
государственной власти. И были другие, которые неудачно пытались распространять
«вымышленную религию», в которую сами искренне верили и которая, как они
чувствовали, давала им право и даже вменяла им в обязанность передавать ее
всеми имеющимися средствами своим собратьям, чтобы просветить их неведение и
привести их на путь мира.
Классическим примером сознательного изобретения новой
религии в политических целях является введение фигуры и культа Сераписа[224] Птолемеем Сотером, основателем эллинистического
государства‑наследника империи Ахеменидов в Египте. Целью Птолемея было
преодоление при помощи общей религии пропасти между его египетскими и
эллинскими подданными, и для осуществления своих планов он заручился поддержкой
целой фаланги специалистов. Новая синтетическая религия привлекла к себе
значительное число приверженцев из обеих общин. для которых предназначалась,
однако ей не удалось полностью преодолеть пропасть между ними. Каждая из общин
шла своим путем в культе Сераписа, так же как и во всем остальном. Духовная
пропасть между двумя общинами птолемеевской империи была наконец преодолена при
помощи другой религии, которая спонтанно возникла из лона пролетариата бывшей
птолемеевской провинции Келесирии[225] спустя целое поколение после того, как исчезла
последняя тень Птолемеевой державы.
Более чем за тысячелетие до царствования Птолемея Сотера
другой правитель Египта, фараон Эхнатон, принялся заменять ортодоксальный
египетский пантеон культом неземного, единственного истинного Бога, который
обнаруживает перед людьми свое божество в образе Атона, или солнечного диска.
Насколько можно понять, его попытка была вызвана не теми макиавелли‑ческими
соображениями, какие вдохновляли Птолемея Сотера, и не той полубезумной манией
величия, которую мы можем рассматривать в качестве движущей силы предприятий
аль‑Хакима и Элагабала. По‑видимому, он вдохновлялся той возвышенной
религиозной верой, которая, как и философские убеждения Ашо‑ки, осуществляется
в евангельских произведениях. Религиозный мотив, вдохновлявший Эхнатона, был
бескорыстен и прямодушен. Можно сказать, что он заслуживал успеха, и все‑таки
его поражение было полным. Это поражение следует приписать тому факту, что его
программа явилась попыткой политического властителя распространить «вымышленную
религию» сверху. Он навлек на себя лютую ненависть правящего меньшинства в
своем царстве, не успев достичь и тронуть сердца пролетариата.
Неудачу орфизма можно объяснить подобным же образом, если
действительно, как у нас есть причина полагать, распространение орфизма
получило первый импульс от афинских деспотов дома Писистрата.[226] Столь скромный успех, какого в конце концов
достиг орфизм, вытекал из надлома эллинской цивилизации и вторжения в эллинские
души того чувства промискуитета, которое мирно сосуществовало с экспансией
эллинского мира за счет других обществ.
Трудно сказать, с макиавеллизмом Птолемея Сотера или с
идеализмом Эхнатона можно поставить в один ряд ту почти не различимую смесь
мотивов, которая привела монгольского императора из династии Тимуридов Акбара
(1554‑1605) к попытке установить в его империи «вымышленную религию» – «дин
илахи». Этот незаурядный человек, по‑видимому, одновременно был и великим
политиком‑практиком, и трансцендентальным мистиком. Во всяком случае, его
религия никогда не укоренилась и была сразу же уничтожена после смерти ее
автора. На самом деле, последнее слово об этой пустой грезе самодержцев уже
высказал (и, по‑видимому, Акбар об этом знал) один из советников султана Ала уд‑дина
Хильджи[227] – предка и примера для подражания Акбара – в
частной беседе, когда Ала уд‑дин высказал свое намерение совершить тот самый
безумный поступок, который триста лет спустя совершил Акбар.
«Религия, закон и вероучения, – заявляет советник государя
по этому случаю, – никогда не должны быть предметом дискуссий Вашего
Величества, поскольку это забота пророков, а не царей. Религия и закон восходят
к божественному откровению. Они никогда не устанавливались по планам и
намерениям человека. От дней Адамовых до нашего времени они были миссией
пророков и апостолов, как власть и правление были долгом царей. Пророческий
долг никогда не относился к царям и никогда не будет относиться – пока
существует мир, хотя некоторые пророки выполняли функции царской власти. Я
советую Вашему Величеству никогда больше не говорить об этих делах»{48}.
В истории западного общества Нового времени мы пока еще не
встречаем каких‑либо примеров бесплодных попыток со стороны политических
правителей навязать «вымышленные религии» своим подданным. Однако история
Великой французской революции предлагает ряд иллюстраций. Последовательно
сменявшим друг друга волнам французских революционеров в лихорадочное
десятилетие, завершающее XVIII в., не удалось продвинуть вперед ни одну из тех религиозных
фантазий, которыми они предполагали заменить устаревшую, по общему мнению,
католическую Церковь, – будь то демократизированная христианская иерархия
Гражданского статуса 1791 г.[228],
робеспьеровский культ Être Suprême[229],[230] в 1794 г. или же «теофилантропия» директора
Ла Ревельера‑Лепо[231]. Нам
рассказывали, что по одному случаю этот директор читал длинную бумагу, в
которой разъяснял свою религиозную систему коллегам в правительстве. После того
как большинство из них принесли ему свои поздравления, министр иностранных дел
Талейран[232] заметил: «Со своей стороны я должен сделать одно
замечание. Иисус Христос, чтобы основать Свою религию, был распят на кресте и
воскрес. Вам следует попытаться сделать что‑либо в этом же роде». В этой
изумительной насмешке над глупым теофилантропистом Талейран просто повторил в
более грубой форме совет, данный советником Ала уд‑дину. Чтобы преуспеть в
распространении своей религии, Ла Ревельеру‑Лепо следовало бы выйти из состава
Директории и начать новую карьеру в качестве пролетарского пророка.
Первому консулу Бонапарту оставалось открыть, что Франция прежде
всего является страной католической и что, следовательно, было бы и проще, и
благоразумнее не пытаться насаждать новую религию во Франции, но привлечь
старую религию на сторону ее нового правителя.
Этот последний пример можно оставить не только для завершения
нашего доказательства того, что принцип «cuius regio eius religio» в
целом является ловушкой и заблуждением, но также и для того, чтобы указать путь
к противоположному утверждению, содержащему в себе большую долю истины. Мы
можем выразить это в формуле: «religio regionis religio regis»[233].
Правители, которые усваивали религию, предпочитавшуюся наиболее многочисленной
или, по крайней мере, наиболее энергичной частью своих подданных, как правило,
добивались успеха, независимо от того, побуждало ли их к этому искренняя
религиозность или же политический цинизм, как Генриха IV с его фразой «Париж
стоит обедни»[234]. Список
такого рода конформистов включает в себя римского императора Константина,
принявшего христианство, и древнекитайского императора Хань У‑ди[235], принявшего
конфуцианство. Он включает в себя Хлодвига, Генриха IV и Наполеона. Однако
наиболее замечательную иллюстрацию этого явления можно найти в одном необычном
положении британской конституции, на основании которой государь Соединенного
Королевства является членом епископальной Церкви[236] в Англии и членом пресвитерианской Церкви[237] – на шотландской стороне границы. Церковный
статус короны, который явился результатом церковно‑политического
урегулирования, достигнутого между 1689 и 1707 гг., действительно был залогом
безопасности британской конституции вплоть до настоящего времени. Формальное
равенство в правах между соответствующими церковными учреждениями двух
королевств было выражено (образом, который может быть «понятен народу» по обеим
сторонам границы) в том очевидном факте, что и в Шотландии, и в Англии король
исповедует ту религию, которая является государственной религией данной страны.
Это‑то очевидным образом гарантированное чувство церковного равенства, столь
заметно отсутствовавшее в течение столетия, которое прошло между заключением
союза корон и заключением союза парламентов (1603‑1707), обеспечило
психологические основания для свободного и равноправного политического союза
между двумя королевствами, прежде отчужденными друг от друга давней традицией
вражды и всегда отличавшимися друг от друга значительным неравенством по
численности населения и богатству.
6. Чувство единства
В нашем предварительном обзоре отношений между различными
альтернативными формами поведения, чувствования и жизни, которые принимает
реакция людей на вызов социального распада, мы заметили, что чувство
промискуитета, исследованное нами во множестве своих проявлений, является
психологическим ответом на размывание и смешение четко определенных
индивидуальных принципов, усвоенных цивилизацией в процессе ее роста. Мы
заметили также, что тот же самый опыт может породить и другой ответ –
пробуждение чувства единства, которое не только отлично от чувства
промискуитета, но и является его прямой противоположностью. Болезненное
разрушение хорошо знакомых форм, внушающее более слабым личностям, будто высшая
реальность – это не что иное, как хаос, может открыть для более уравновешенного
и более духовного взора истину, согласно которой мелькающая пленка
феноменального мира – это иллюзия, не могущая заслонить вечного единства,
лежащего в его основе.
Эту духовную истину, подобно другим истинам того же рода,
можно постичь первоначально по аналогии с каким‑либо внешним видимым знаком, и
во внешнем мире предзнаменованием, делающим первый намек на высшее духовное
единство, является объединение общества в универсальное государство. В самом
деле, ни Римская империя, ни любое другое универсальное государство не могли бы
быть основаны или же поддержаны, если бы не столкнулись с приливом желания
политического единства. Этот прилив превращается в самое настоящее наводнение,
как только «смутное время» достигает своей высшей точки. В эллинской истории
это стремление к единству (или, скорее, чувство облегчения, полученное от его
запоздалого удовлетворения) улавливается в латинской поэзии века Августа. А мы,
дети западного общества в его нынешней фазе, знаем по собственному опыту, каким
мучительным может быть это стремление к «мировому порядку» в эпоху, когда
усилия, прилагаемые для объединения человечества, остаются напрасными.
Мечта Александра Великого о «homonoia», или
«согласии», никогда не оставляла эллинского мира, пока сохранялись остатки
эллинизма. Три столетия спустя после смерти Александра мы обнаруживаем, что
Август помещает [изображение] головы Александра на свой перстень с печатью в
качестве официального признания того источника, из которого он черпает
вдохновение для своей тяжелой задачи по установлению Pax Romana. Плутарх
передает одно из изречений Александра: «Бог – это общий отец всех людей, но он
особо приближает к себе лучших из них». Если это «logion»[238] подлинно, то оно говорит нам о понимании
Александром того, что братство людей подразумевает отцовство Бога.
Эта истина содержит и обратное предположение: если
божественный отец рода человеческого исключается из расчета, то нет никакой
возможности выковать какую‑либо альтернативную цепь, которая бы сама по себе
могла сплотить человечество на чисто человеческой основе. Единственное
общество, которое может охватить все человечество, это сверхчеловеческий Civitas
Dei (Град Божий). Что же касается концепции общества, которое охватывает
все человечество и ничего, кроме человечества, то она является академической
химерой. Стоик Эпиктет столь же хорошо понимал эту высшую истину, сколь и
христианский апостол Павел, однако если Эпиктет констатировал этот факт в
качестве философского вывода, то св. апостол Павел проповедовал его как новое
откровение, данное Богом человеку в жизни и смерти Христа.
В древнекитайское «смутное время» стремление к единству
также никогда не ограничивалось одним земным планом.
«Для китайцев этого периода слово Единое (единство,
единственность и т. д.) несло ярко выраженное эмоциональное значение,
отразившееся как в политической теории, так и в даосской метафизике.
Действительно, желание фиксированного эталона веры (или, точнее,
психологическая потребность в нем) было глубже, настоятельнее и необходимее,
чем желание политического единства. В конце концов, человек не может
существовать без ортодоксии, без фиксированного образца фундаментальной веры»{49}.
Если этот всесторонний древнекитайский путь поиска единства
можно принять за норму, а современный западный культ до предела изолированного
человечества списать в качестве чего‑то исключительного или даже
патологического, то тогда нам следует ожидать в будущем фактического
объединения человечества и мысленного объединения Вселенной. Они будут завершены
pari passu[239] благодаря духовному усилию, которое не
перестанет быть единым и неделимым, поскольку будет проявляться одновременно в
различных сферах. В действительности, мы уже замечали, что объединение местных
общин в универсальное государство обычно сопровождается включением местных
божеств в единый пантеон, в котором одно сложное божество – фиванский Амон‑Ра
или вавилонский Мардук‑Бел – возникает в качестве духовного эквивалента земного
царя царей и владыки владык.
Однако мы увидим, что положение человеческих дел, находящее
свое сверхчеловеческое отражение в пантеоне такого рода, представляет собой
ситуацию, следующую непосредственно за возникновением универсального
государства, а не состояние, в котором государство данного типа со временем
обустраивается. Наивысшим состоянием универсального государства является не
иерархия, которая сохраняет его составные части в нетронутом виде и лишь
превращает их прежнее равноправие в качестве суверенных государств в гегемонию
одного из них над остальными. Оно застывает по прошествии времени в единую
империю. Фактически, в достигшем зрелости универсальном государстве есть две
бросающиеся в глаза черты, которые господствуют над всем социальным ландшафтом:
верховная личная монархия и высший безличный закон. И в человеческом мире,
управляемом по этому плану, Вселенная в целом, вероятно, будет изображаться по
соответствующему образцу. Если правитель универсального государства является
одновременно столь могущественным и столь благодетельным, что его подданные без
труда начинают почитать его как воплощенного бога, то тогда a fortiori
(тем более) они будут склонны видеть в нем земное подобие столь же высшего и
всемогущего небесного правителя. Они будут склонны видеть в нем бога,
являющегося не просто богом богов наподобие Амона‑Ра или Мардука‑Бела, но бога,
который правит один как единый истинный Бог. С другой стороны, закон, через
который воля императора претворяется в жизнь, является необоримой вездесущей
силой, которая напоминает идею безличного «закона природы», закона,
управляющего не только материальной Вселенной, но также и непостижимым и
таинственным распределением радости и печали, добра и зла, вознаграждения и
наказания на тех глубинных уровнях человеческой жизни, куда не доходят
предписания кесаря.
Эти два понятия – вездесущий и неотвратимый закон и единое
всемогущее божество – лежат в основе почти всех представлений о Вселенной,
которые когда‑либо складывались в человеческих умах в социальном окружении
универсального государства. Однако обзор этих космологии покажет, что они будут
стремиться приблизиться к одному из двух крайних типов. В одном из них Закон
возвышается над Богом, в другом – Бог возвышается над Законом. Мы обнаружим
также, что акцент на Законе характерен для философий правящего меньшинства,
тогда как религии внутреннего пролетариата склонны подчинять величие Закона
всемогуществу Бога. Тем не менее, отличие состоит лишь в акцентах. Во всех этих
космологиях можно обнаружить, что оба понятия сосуществуют и тесно переплетены,
каковы бы ни были соотношения между ними.
Сделав оговорку по поводу установленного нами различия, мы
можем теперь последовательно рассмотреть те представления о единстве Вселенной,
в которых Закон возвышается над Богом, а затем те, в которых Бог затмевает
провозглашенный Им Закон.
В системах, где «Закон – царь всего»{50}, мы
можем наблюдать, что личность Бога умаляется по мере того, как Закон,
управляющий Вселенной, принимает более отчетливые очертания. В западном мире,
например, Триединый Бог Афанасиева Символа веры[240] постепенно меркнул для всевозрастающего
количества умов по мере того, как естествознание распространяло границы своего
интеллектуального господства на одну сферу существования за другой. Наконец, в
наше время, когда наука предъявляет свои притязания не только на материальный
мир, но и на духовный, мы видим, как Бог‑Математик исчезает в Боге‑Вакууме.
Этот современный западный процесс уничтожения Бога, имеющий целью поставить на
Его место Закон, был предвосхищен в вавилонском мире в VIII в. до н. э., когда
открытие периодичности движения звездного космоса соблазнило халдейских
математиков, увлеченных новой наукой астрологии, отказаться от веры в Мардука‑Бела
в пользу «семи планет». В индском мире также, когда буддийская школа философии
довела до крайних выводов логические следствия психологического закона «кармы»,
божества ведического пантеона стали наиболее явными жертвами этой агрессивной
системы «тоталитарного» духовного детерминизма. Эти варварские боги варварских
завоевателей теперь, достигнув своего неромантического среднего возраста,
должны были дорого заплатить за всю слишком человеческую распутность своей
бурной юности. В буддийской Вселенной, где сознание, желание и цель были
сведены к последовательности атомистических психологических состояний, которые,
по определению, неспособны объединиться в природе непрерывной и постоянной
личности, боги автоматически сводились к духовному состоянию людей и ставились
с ними на один уровень небытия. Действительно, такое различие, какое
существовало между положением богов и людей в буддийской философской системе,
было всецело выгодно последним. Человек мог, по крайней мере, стать буддийским
монахом, если он был в состоянии выдержать испытание аскезой. Однако за отказ
от грубых удовольствий он получал вознаграждение в виде освобождения от Колеса
Существования и входа к забвению нирваны.
В эллинском мире боги Олимпа поживали лучше, чем того
заслуживали, если соизмерить их заслуги с тем наказанием, которое применило
буддийское правосудие по отношению к их ведическим родственникам. Когда
эллинские философы начали рассматривать Вселенную как «великое общество»
сверхземных размеров, отношения между членами которого регулировались Законом и
воодушевлялись Согласием, то Зевс, начавший свою жизнь в качестве вождя
олимпийского военного отряда с сомнительной репутацией, был в моральном
отношении поднят и отправлен на почетную должность председателя Космополиса со
статусом, напоминающим некоего конституционного монарха более поздних времен,
который «царствует, но не управляет», короля, который смиренно подписывает
указы Судьбы и услужливо ставит свое имя под действиями Природы[241].
Наше исследование показало, что Закон, затмевающий Божество,
может принимать различные формы. Это и математический закон, поработивший
вавилонского астролога и современного западного ученого. Это и психологический
закон, пленивший буддийского аскета. Это и социальный закон, завоевавший
преданность эллинского философа. В древнекитайском мире, где понятие Закона не
снискало к себе расположения, мы находим, что, тем не менее, Божество затмевает
понятие Порядка, которое для китайского сознания предстает в виде магического
согласия, или «симпатии», между поведением человека и поведением его окружения.
В то время как воздействие окружения на человека постигается и осуществляется в
древнекитайском искусстве геомантии, обратное воздействие человека на окружение
контролируется и направляется при помощи ритуала и этикета, столь же тщательно
разработанного и важного, сколь и структура Вселенной, которую эти ритуалы
воспроизводят и время от времени изменяют. Мастером церемоний, заставляющим мир
вращаться, является монарх древнекитайского универсального государства, и на
основании сверхчеловеческого масштаба своей деятельности император официально
титуловался «сыном Неба». Однако это Небо, которое в древнекитайской системе
было приемным отцом главного колдуна, столь же бледно и безлично, сколь и
морозное зимнее небо в Северном Китае. Действительно, полное отсутствие какой‑либо
идеи божественной личности в китайском сознании заставило иезуитских
миссионеров столкнуться со сложной проблемой, когда они попытались перевести
слово Deus[242] на китайский язык.
Перейдем теперь к рассмотрению тех представлений о
Вселенной, в которых единство предстает как создание всемогущего Божества, в то
время как Закон рассматривается в качестве проявления воли Божией, а не
понимается как независимая объединяющая сила, регулирующая действия богов и
людей.
Мы уже отмечали, что эту идею единства всех вещей через
Бога, равно как и альтернативную идею единства всех вещей через Закон,
человеческое сознание постигает по аналогии с той организацией, которую
принимает универсальное государство, по мере того, как оно постепенно
выкристаллизовывается в своей окончательной форме. В этом процессе правитель,
первоначально являющийся «царем царей», освобождается от подвластных ему
государей, которые некогда были ему равны, и становится «монархом» в строгом
смысле этого слова. Если мы теперь рассмотрим те процессы, которые одновременно
происходили с богами различных народов и стран, поглощенных универсальным
государством, то мы обнаружим аналогичное изменение. Вместо пантеона, в котором
высший бог осуществляет власть сюзерена над сообществом богов, некогда равных
ему и не потерявших своей божественности с утратой независимости, мы видим
появление одного Бога, единственность которого является Его сущностью.
Эта религиозная революция обычно начинается с изменения
отношений между божествами и верующими. В рамках универсального государства
божества стремятся сбросить с себя те оковы, которые до сих пор связывали их с
той или иной определенной местной общиной. Божество, которое начинало жизнь в
качестве покровителя отдельного племени или города, горы или реки, теперь
приобретало более широкое поле деятельности, учась обращаться, с одной стороны,
к душам индивидов, а с другой стороны – к человечеству в целом. В этом
последнем качестве местное божество, до сих пор являвшееся небесным двойником
местного вождя, приобретает характеристики, заимствованные у правителей
универсальных государств, поглотивших местные общины. Мы можем, например,
отметить влияние Ахеменидской монархии, подавившей Иудею в политическом плане,
на иудейскую концепцию Бога Израиля. Эта новая концепция Яхве была выработана
окончательно к 166‑164 гг. до н. э., что, по‑видимому, является датой написания
апокалиптической части Книги пророка Даниила[243].
«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – как
чистая волна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь.
Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы
тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги»{51}.
Таким образом, многие из некогда являвшихся местными божеств
присваивали себе знаки отличия вновь утвердившегося земного монарха, а затем
состязались друг с другом за единственное и исключительное владение,
предполагавшееся этими знаками, до тех пор, пока один из состязавшихся не
уничтожал своих конкурентов и не утверждал титул единственного истинного Бога.
Однако есть один существенный пункт, в котором аналогия между «битвой богов» и
сходным соревнованием между «князьями мира сего» не действует.
В развитии структуры универсального государства вселенский
монарх, которого мы видим в конце истории восседающим на престоле в своей
единичной суверенности, обычно является прямым наследником падишаха, или
повелителя подвластных государей, под покровительством которых эта история
начинается. Август довольствовался тем, что давал ощутить свою власть в
Кападокии или Палестине, осуществляя лишь общий контроль над местными царями
или тетрархами (соответствующими правителям «индийских государств» Британской
империи в Индии). Когда ему со временем наследовал Адриан, управлявший этими
бывшими царствами как непосредственно ему подчиненными провинциями, в преемстве
господствующей власти не была перерыва. Однако для соответствующего
религиозного изменения непрерывность, далекая от того, чтобы быть правилом,
теоретически является возможным исключением, которое с трудом можно
проиллюстрировать хотя бы одним историческим примером. Автор данного
«Исследования» не может припомнить ни одного случая, когда бы верховный бог
пантеона стал посредником для появления Бога как единственного и всемогущего
господина и создателя всех вещей. Ни фиванский Амон‑Ра, ни вавилонский Мардук‑Бел,
ни олимпийский Зевс никогда не открывали лица единственного истинного Бога под
поверхностью своей протеевской маски. И даже в сирийском универсальном
государстве, где бог, которому поклонялась царская династия, не был ни
божеством синтетического типа, ни продуктом raison d'état
(государственной необходимости), зороастрийский Ахурамазда, бог Ахеменидов, не
стал тем божеством, сквозь черты которого открылось человечеству существование
и природа единственного истинного Бога. Им стал Яхве, бог незначительного числа
иудейских подданных Ахеменидов.
Подобный контраст между окончательными судьбами
соперничающих божеств и кратковременными удачами их последователей показывает,
что религиозная жизнь и опыт поколений, рожденных и воспитанных под
политической эгидой универсального государства, является полем исторического
исследования, дающим поразительные примеры перипетий или «смены ролей» – темы
многочисленных сказок вроде сказки о Золушке. В то же время низкое и безвестное
происхождение являются далеко не единственными характерными чертами божеств,
ставших универсальными.
Когда мы исследуем характер Яхве, как он изображен в Ветхом
Завете, сразу же бросаются в глаза еще две черты. С одной стороны, Яхве по
своему происхождению – местное божество, в буквальном смысле слова glebae
adscriptus[244], если верить, что впервые он появляется среди
детей Израиля в качестве «джинна», обитавшего в вулкане в Северо‑Западной
Аравии и оживлявшего его. В любом случае, это божество пустило корни на почве
отдельного «прихода», в сердцах членов отдельной приходской общины лишь после
того, как было перенесено в холмистую землю Ефрема и Иуды в качестве
покровителя военных отрядов, вторгшихся в палестинские владения египетского
«Нового царства» в XIV в. до н. э. С другой стороны, Яхве – «Бог ревнитель»,
заповедью которого верующим в него являются слова «да не будет у тебя других
богов пред лицем Моим»{52}. Конечно, нет ничего удивительного в том,
что Яхве одновременно проявляет черты провинциализма и исключительности. Ибо
как можно было бы ожидать, Бог, который придерживается своей собственной сферы,
будет изгонять из нее других богов. Удивляет и даже, на первый взгляд,
возмущает то, что Яхве продолжает демонстрировать неослабевающую нетерпимость к
соперникам, с которыми он вступает в конфликт, когда после гибели Израильского
и Иудейского царств и установления сирийского универсального государства этот
бывший бог двух горных княжеств входит в более широкий мир и стремится, подобно
своим соседям, добиться почитания всего человечества. В этой экуменической фазе
сирийской истории упорство Яхве в нетерпимости, унаследованной от его местного
прошлого, было анахронизмом, который, несомненно, диссонировал с настроением,
господствовавшим в то время среди множества местных божеств наподобие Яхве.
Этот неподатливый анахронизм, тем не менее, явился одной из составляющих его
характера, которые помогли ему достичь его поразительной победы.
Было бы поучительно посмотреть на эти черты провинциализма и
исключительности поближе, и в первую очередь – на провинциализм.
Выбор провинциального божества в качестве средства для
явления всемогущего и единственного Бога мог бы показаться, на первый взгляд,
необъяснимым парадоксом. Хотя иудейская, христианская и исламская концепции
Бога, несомненно, в качестве исторического факта происходят от племенного Яхве,
в равной мере несомненно и то, что общее для всех трех религий богословское
содержание идеи Бога, в отличие от ее исторического происхождения, неизмеримо
отличается от первоначальной идеи Яхве и имеет гораздо большее сходство с
множеством других идей, которым, с точки зрения исторической фактичности,
исламско‑христианско‑иудейская концепция Бога обязана гораздо меньше или же
ничем не обязана. С точки зрения универсальности, исламско‑христианско‑иудейская
концепция Бога имела гораздо меньше общего с первоначальными представлениями о
Яхве, чем с концепцией высшего бога пантеона – Амона‑Ра или Мардука‑Бела,
которые правят в некотором смысле всей Вселенной. Опять‑таки, если мы возьмем в
качестве меры духовность, то исламско‑христианско‑иудейская концепция имеет
больше общего с абстракциями философских школ: Зевсом стоиков или Гелиосом
неоплатоников. Тогда почему же в мистической пьесе, сюжетом которой является
открытие Бога человеку, высшая роль досталась не бесплотному Гелиосу или
имперскому Амону‑Ра, но варварскому и провинциальному Яхве, чьи качества для
исполнения этой громадной роли, с нашей современной точки зрения, могли бы
показаться значительно ниже качеств его неудачливых соперников?
Ответ на этот вопрос можно найти, если вспомнить об одном
элементе в иудейско‑христианско‑исламской концепции, который мы еще не
упоминали. Мы подробно останавливались на качествах всемогущества и
единственности. Однако, несмотря на всю их возвышенность, эти атрибуты
Божественной Природы – не более чем выводы человеческого разума. Они не
являются результатом сердечного опыта. Для человечества в целом сущность Бога
заключается в том, что Он – Бог живый, с которым живой человек может вступить в
отношения, сродные духовным отношениям между людьми. Это свойство «быть живым»
составляет сущность Божьей природы для душ, которые стремятся вступить в
общение с Ним. А свойство «быть личностью», составляющее сущность Бога, как Его
исповедуют ныне иудеи, христиане и мусульмане, являлось также и сущностью Яхве,
как он появляется в Ветхом Завете. «Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы
глас Бога живаго, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива?»{53}
Вот предмет гордости избранного народа Яхве. Когда этот живый Бог Израиля
сталкивается, в свою очередь, с различными абстракциями философов, становится
очевидно, что, говоря словами Одиссея, «он один дышит, а остальные лишь тени».
Первоначальный образ Яхве вырос в христианскую концепцию Бога, присоединив к
себе свойства, заимствованные из этих философских абстракций, не соблаговолив
признать свой долг [по отношению к ним] и не постеснявшись скрыть их имена.
Если это постоянное свойство «быть живым» является составной
частью первоначального провинциализма Яхве, то мы можем обнаружить, что
исключительность также представляет собой столь же устойчивую и изначальную
черту характера Яхве и имеет определенную ценность, неотделимую от той
исторической роли, которую Бог Израиля сыграл в открытии Божественной Природы
человечеству.
Эта ценность становится очевидной, как только мы примем во
внимание тот значительный контраст, который существует между окончательной
победой этого «Бога‑ревнителя» и окончательным поражением высших богов
пантеонов двух соседних обществ, разбивших политическую структуру сирийского
мира на мелкие части. Относительно укорененности в почве и наличия жизненных
сил и Амон‑Ра, и Мардук‑Бел могли бы на равных померяться силами с Яхве. При
этом они имели перед ним то преимущество, что в сознании их поклонников были связаны
с колоссальным мировым успехом их родных Фив и Вавилона, тогда как народу Яхве,
униженному и плененному, было предоставлено самостоятельно решать проблему
отстаивания добродетелей своего племенного божества, которое явно покинуло
своих соплеменников в трудную минуту. Если, несмотря на этот впечатляющий
перевес в их пользу, Амон‑Ра и Мардук‑Бел в конце концов проиграли «битву
богов», то трудно не приписать их поражение тому, что они не были знакомы с
ревнивым настроением Яхве. Свобода (и в положительном, и в отрицательном
смысле) отдуха исключительности подразумевается тем дефисом, который соединяет
две части имен этих синтетических божеств. Неудивительно, что Амон‑Ра и Мардук‑Бел
были столь же терпимы к политеизму за пределами своих слабо соединенных личностей,
сколь и к разобщенности внутри их собственных протеевских «я». Оба они были
порождены (или, точнее, соединены) для того, чтобы удовольствоваться своим
первобытным положением сюзеренитета над массой других, не в меньшей степени
божественных, хотя и менее могущественных существ, чем они. Это врожденное
отсутствие амбиций обрекло их обоих на то, что они выбыли из состязания за
монополию божественности, в то время как уничтожающая ревность Яхве,
несомненно, подстегивала его бежать до конца этого состязания, участие в
котором было предложено всем им.
Эта же самая безжалостная нетерпимость к любым конкурентам
явно стала одним из тех качеств, которые дали возможность Богу Израиля после
того, как Он стал Богом христианской Церкви, перегнать всех своих соперников
еще раз в позднейшей «битве богов», проходившей в пределах Римской империи. Его
соперники – сирийский Митра, египетская Исида и хеттская Кибела – были готовы
на любой компромисс друг с другом и с любым другим культом, с которыми они во
множестве сталкивались. Этот беспечный, примиренческий дух оказался роковым для
соперников Бога Тертуллиана[245], когда им
пришлось столкнуться с противником, который мог бы удовольствоваться лишь
«тотальной» победой, поскольку меньшее было бы для Него отказом от самой Своей
сущности.
Наиболее впечатляющим свидетельством ценности ревнивого
настроения, присущего этосу Яхве, возможно, являются некоторые негативные
данные из индского мира. Здесь, как и в других местах, процесс социального
распада сопровождался развитием чувства единства в религиозной сфере. В ответ
на страстное стремление индийцев постичь единство Бога, мириады божеств
индского внутреннего пролетариата постепенно срастаются и растворяются в
могущественных образах Шивы или Вишну. Этой предпоследней стадии на пути к
постижению единства Бога индуизм достиг, по крайней мере, полторы тысячи лет
назад. Однако во все то время, которое прошло с тех пор, индуизм никогда не
сделал окончательного шага, сделанного сирийской религией, когда Яхве,
нетерпимый даже по отношению к единственному равному, избавился от Ахурамазды,
поглотив его целиком. В индуизме концепция всемогущего Бога не была
унифицирована, но поляризовалась вокруг взаимно дополнявших и прямо
противоположных фигур двух одинаково годных кандидатов, которые упорно
воздерживались сводить друг с другом счеты.
В этой странной ситуации мы должны задаться вопросом: почему
индуизм принял в качестве решения проблемы единства Бога компромисс, который
вовсе решением и не является ввиду того, что невозможно представить себе
божество, которое было бы вездесущим и всемогущим – на что претендовали Вишну и
Шива – и в то же самое время не было бы единственным. Ответ заключается в том,
что Вишну и Шива не «ревнуют» друг к другу. Они удовольствовались тем, что
разделили поровну между собой сферы влияния, и можно предположить, что они
выжили (в отличие от Митры, Исиды и Кибелы – их эквивалентов в эллинском мире)
только потому, что на их пути не встретился Яхве. Мы приходим к выводу, что
божество, в исключительность которого верят, отвергая всякие возможные
компромиссы, оказывается тем единственным посредником, благодаря которому
человеческая душа могла до сих пор усвоить глубокую и труднодостижимую истину о
том, что Бог один.
7. Архаизм
Произведя учет альтернативных форм поведения и чувствования,
открытых для людей, рожденных в мире социального распада, мы можем теперь
перейти к альтернативным формам жизни, которым можно следовать в условиях того
же самого вызова. Начнем с альтернативы, которую в предыдущем нашем обзоре мы
назвали «архаизмом» и определили как попытку вернуться к одному из тех
счастливых состояний, о которых в «смутное время» сожалеют тем острее (и,
возможно, идеализируют тем неисторичнее), чем далее позади они оставлены.
О, как хочу назад свернуть
И вновь вступить на древний путь,
Что на равнину приведет,
Где караван мой славный ждет;
Откуда просвещенный дух
Град Пальмовый увидит вдруг!
…
Другие пусть идут вперед,
Меня же в прошлое влечет.
В этих строках поэта XVII столетия Генри Вогена[246] выражена растущая ностальгия человека по
своему детству, иным способом выраженная господами Бултитюдами, которые с
большей или меньшей долей искренности заверяют молодое поколение, что «ваши
школьные годы – счастливейшее время вашей жизни». Эти строки могут равным
образом служить для описания эмоций архаиста, который стремится вернуть обратно
более раннюю фазу в истории своего общества.
Исследуя примеры архаизма, мы разделим поле нашего
исследования точно так же, как мы делили его, когда обсуждали чувство
промискуитета, и выделим, в свою очередь, четыре сферы: поведения, искусства,
языка и религии. Чувство промискуитета, тем не менее, является чувством
спонтанным и неосознанным, тогда как архаизм есть умышленная, сознательная
политика, цель которой – плыть против течения жизни, фактически – tour de
force (рывок). Соответственно, мы обнаружим, что в сфере поведения архаизм
скорее выразится в формальных институтах и сформулированных идеях, нежели в
бессознательных манерах, а в сфере языка – в вопросах стиля и тематики.
Если начинать наш обзор с институтов и идей, то лучше всего
будет начать с примеров частных проявлений институционального архаизма, а затем
последовать за распространением архаического душевного состояния на более
широкое поле, пока мы не придем к идеологическому архаизму, являющемуся
всеобъемлющим, поскольку он представляет собой принципиальный архаизм.
Например, во времена Плутарха, которые были зенитом
эллинского универсального государства, церемония порки спартанских мальчиков у
алтаря Артемиды Ортии – суровое испытание, которое во времена расцвета Спарты
было воспринято из первобытного культа плодородия и включено в ликурговскую άγωγή[247] , – вновь вводится в практику с патологической
изощренностью, составляющей одну из характерных черт архаизма. Подобным же
образом в 248 г., когда Римская империя наслаждалась временной передышкой между
приступами анархии, приведшей к ее разрушению, император Филипп[248] вдохновляется на то, чтобы еще раз
отпраздновать Ludi Saeculares[249],
учрежденные Августом, а спустя два года была возрождена древняя должность
цензоров[250]. В наше время
«корпоративное государство»[251], установленное
итальянскими фашистами, претендует на восстановление политического и
экономического режима средневековых городов‑государств Италии. В той же самой
стране во II в. до н. э. братья Гракхи требовали осуществления прав народного
трибуна в том виде, в котором они были первоначально установлены двумя
столетиями ранее. Примером более успешного конституционного архаизма было то
почтительное обращение, которое оказывал Август, основатель Римской империи,
своему номинальному партнеру и фактическому предшественнику в управлении
римскими владениями – сенату. Оно сравнимо с тем отношением, которое в
Великобритании оказывал Короне победивший парламент. В обоих случаях имела
место реальная смена власти: в случае Рима это был переход власти от олигархии
к монархии, а в Британии – от монархии к олигархии, причем в обоих случаях эта
перемена была замаскирована под архаическими формальностями.
Если мы обратимся к распадающемуся древнекитайскому миру, то
заметим здесь появление конституционного архаизма более крупных масштабов,
распространяющегося с общественной жизни на частную. Вызов древнекитайского
«смутного времени» породил в умах духовный фермент, который дал о себе знать
как в конфуцианском гуманизме V в. до н. э., так и в более поздних и более
радикальных школах «политиков», «софистов» и «легистов»[252]. Однако эта
вспышка духовной активности была кратковременной. За ней последовало
возвращение к прошлому, которое яснее всего можно увидеть в судьбе, постигшей
конфуцианский гуманизм. Из исследования человеческой природы он выродился в
систему ритуализованного этикета. В административной сфере он стал традицией,
согласно которой каждый административный акт требовал санкции исторического
прецедента.
Другим примером принципиального архаизма из иной сферы
является культ в значительной степени придуманного тевтонства, который был
одним из местных продуктов общего архаического движения романтизма в
современном западном мире. После безобидного потворства со стороны некоторых
английских историков XIX в. и внушений со стороны более скучных расовых теорий
некоторых американских этнологов этот культ воображаемых добродетелей
примитивных тевтонов показал свое истинное лицо в проповеди национал‑социалистского
движения в Германском рейхе. Здесь перед нами проявление архаизма, которое
можно было бы назвать патетическим, если бы оно не было столь зловещим. Великая
европейская нация в результате духовной болезни Нового времени оказалась на
грани необратимой национальной катастрофы, и в отчаянной попытке избежать
западни, в которую завлекал ее новейший ход истории, она обратилась назад, к
якобы славному варварству своего воображаемого исторического прошлого.
Другой, более ранней формой этого возврата к варварству на
Западе была руссоистская проповедь «возвращения к природе» и возвеличивание
«благородного дикаря». Западные архаисты XVIII в. неповинны в тех кровавых
планах, которые без стеснения высказываются на страницах «Mein Kampf»[253],
однако их невиновность не снимает с них ответственности в той мере, в какой
Руссо был «причиной» Французской революции и войн, которым она положила начало.
Мода на архаизм в искусстве настолько знакома современному
западному человеку, что он принимает ее как нечто само собой разумеющееся.
Наиболее заметным среди всех искусств является архитектура. Западная
архитектура XIX в. была опустошена «готическим возрождением»[254]. Это
движение, начавшееся как причуда землевладельцев, возводивших ложные «руины» в
своих парках и выстраивавших гигантские дома в стиле, который должен был
производить впечатление средневековых аббатств, вскоре распространилось на
церковное строительство и церковную реставрацию, где оно приобрело мощного
союзника в столь же архаическом Оксфордском движении[255], и, наконец,
нашло ничем несдерживаемое выражение в строительстве отелей, фабрик, больниц и
школ. Однако архитектурный архаизм не является изобретением современного
западного человека. Если житель Лондона поедет в Константинополь и насладится
зрелищем солнечного заката над Стамбулом, то он увидит на фоне неба очертания
множества куполов мечетей, которые при оттоманском режиме были построены с
глубоко архаическим подобострастием по образцу Большой и Малой Святой Софии –
двух византийских церквей, чей дерзкий вызов основным канонам классической
греческой архитектуры некогда заявил в камне о появлении новой православно‑христианской
цивилизации на обломках погибшего эллинского мира. Наконец, если обратиться к
«бабьему лету» эллинского общества, то мы обнаружим культивируемое императором
Адрианом украшение своей загородной виллы тщательно изготовленными копиями
шедевров эллинской скульптуры архаического периода, то есть VII–VI вв. до н. э.
Знатоки времен Адриана были «прерафаэлитами»[256], то есть
людьми чересчур рафинированными, чтобы ценить зрелое мастерство искусства Фидия
и Праксителя.
Когда дух архаизма выражает себя в сфере языка и литературы,
высшим усилием, на которое он способен, оказывается возвращение к жизни
мертвого языка и его функционирование в качестве живого средства общения.
Подобная попытка предпринимается сегодня в нескольких местах современного
вестернизированного мира. Импульс к этому упорному предприятию исходил из
националистической моды на особенность и культурную самодостаточность. Нации,
претендующие на самодостаточность, обнаружив, что лишены естественных языковых
средств, все встали на путь архаизма как на наиболее легкий путь приобретения
того языкового продукта, в котором они нуждаются. В настоящее время существует,
по крайней мере, пять наций, занятых созданием своего особого национального
языка, который давно вышел из употребления за пределами академической сферы.
Это норвежцы, ирландцы, оттоманские турки, греки и евреи‑сионисты. Следует
отметить, что ни одна из этих наций не является обломком первоначального западно‑христианского
мира. Норвежцы и ирландцы – соответственно остатки недоразвившихся
скандинавской и дальнезападной христианских цивилизаций. Оттоманские турки и
греки – совсем недавно вестернизированные члены иранского и православно‑христианского
обществ, а евреи‑сионисты – окаменелый обломок сирийского общества, внедренный
в тело западного христианства еще до его рождения.
Потребность сегодняшних норвежцев в создании национального
языка является историческим следствием политического затмения королевства
Норвегия, продолжавшегося с 1397 г., когда оно вошло в унию с Данией, до 1905
г., когда, порвав унию со Швецией, оно восстановило полную независимость и
снова обрело собственного короля, отказавшегося от своего современного
западного имени Карл, полученного при крещении, и принявшего архаическое
тронное имя Хокон[257], которое
носили четыре норвежских монарха недоразвившегося скандинавского общества между
X и XIII вв. христианской эры. В ходе пятивекового затмения Норвегии старая
норвежская литература уступила место разновидности современной западной
литературы, написанной на датском языке, хотя произношение было изменено в
соответствии с местным норвежским диалектом. Таким образом, когда норвежцы
взялись после перехода их страны от Дании к Швеции в 1814 г. за создание своей
собственной национальной культуры, они обнаружили, что у них нет никакого литературного
посредника, кроме иностранного изобретения, и никакого родного языка, кроме patois[258],
который давно уже перестал быть языком литературы. Столкнувшись с подобным
затруднением в лингвистическом отделе своего национального предприятия, они
попытались создать родной язык, который бы в равной мере служил и крестьянам, и
городским жителям, сохраняя черты местного и «цивилизованного» языка.[259]
Проблема, с которой столкнулись ирландские националисты,
гораздо сложнее. В Ирландии Британская Корона играла ту же политическую роль,
что и Датская Корона в Норвегии, что привело к достаточно сходным результатам и
в области языка. Английский стал языком ирландской литературы. Однако,
возможно, из‑за того, что лингвистический разрыв между английским и ирландским
языками, в отличие от сравнительно незначительной разницы между датским и
норвежским, непреодолим, ирландский язык фактически вышел из употребления.
Ирландские приверженцы лингвистического архаизма занимаются не «цивилизацией» patois,
но воссозданием почти мертвого языка[260]. О
результатах их усилий говорит то, что этот язык непонятен для разрозненных
групп крестьян на западе Эйре, до сих пор говорящих на гэльском, который они
впитали с молоком матери.
Лингвистический архаизм, в который были увлечены оттоманские
турки в правление последнего президента Мустафы Кемаля Ататюрка, носит
совершенно иной характер. Предками современных турков, подобно предкам
современных англичан, были варвары, посягнувшие на покинутые владения
надломленной цивилизации и самовольно поселившиеся в них. Потомки обеих групп
варваров одинаковым образом использовали язык в качестве средства приобретения
цивилизованного образа жизни. Как английский язык обогатил свой скудный тевтонский
словарный запас, нагрузив его богатством, заимствованным из французских,
латинских и греческих слов и выражений, так и османы инкрустировали свой
незамысловатый тюркский язык бесчисленными драгоценными камнями персидской и
арабской речи. Целью архаизирующего лингвистического движения турецких
националистов является освобождение от этих драгоценных камней, а когда оно
осознает, что турецкие заимствования из иностранных источников столь же
обширны, сколь и английские, тогда станет очевидно, что эта задача – не из
легких. Тем не менее, метод, с каким турецкий герой приступил к выполнению
поставленной задачи, столь же радикален, сколь и тот, который прежде
использовался для освобождения родной страны от чуждых этнических элементов. В
том более серьезном кризисе Кемаль изгнал из Турции давно утвердившийся и явно
необходимый греческий и армянский средний класс, рассчитывая, что когда
образуется социальный вакуум, то настоящая необходимость заставит турков
заполнить его, возложив на свои собственные плечи те социальные задачи, которые
до сих пор они лениво возлагали на других. На том же основании гази[261] впоследствии исключил из оттоманского
турецкого словаря персидские и арабские слова и продемонстрировал этой крутой
мерой, сколь поразительный интеллектуальный стимул может быть задан инертным в
умственном отношении народам, когда они обнаруживают, что их уста и слух
безжалостно лишены простейших предметов языковой необходимости. В этих
стесненных обстоятельствах турки недавно обыскивали куманские словари,
орхонские надписи, уйгурские сутры и китайские династические истории, чтобы
найти – или сфабриковать – подлинный турецкий заменитель для того или иного
строго запрещенного персидского или арабского ходячего выражения.
Для английского наблюдателя эти безумные лексикографические
усилия являются зрелищем, повергающим в трепет, ибо они намекают ему на те
несчастья, которые могут ожидать в будущем также и носителей английского языка,
если когда‑нибудь настанет день, когда «чистого английского» потребует от нас
некий деспотический спаситель нашего общества. Действительно, своего рода
легкая подготовка к этому событию была уже проведена, возможно, дальновидным
любителем. Около тридцати лет назад некто, подписавшийся инициалами С. L. D.,
опубликовал «Словарь английского языка» в качестве руководства для тех, кто
желает «сбросить норманнское ярмо», столь сильно тяготеющее на нашем языке.
«То, что говорящие и пишущие называют сегодня английским языком, – пишет он, –
совсем таковым не является, но представляет собою сущий французский». Следуя
«С. L. D.», мы должны детскую коляску (perambulator) называть «детовозом»
(childwain), а омнибус – «людовозом» (folkwain). Быть может, эти слова и были
бы усовершенствованиями. Однако когда он пытается избавиться от иностранцев,
которые с древнейших времен поселились в языке, то он менее удачен. Когда «С.
L. D.» предлагает заменить слово «неодобрение» (disapprove) словами «шипение»
(hiss), «шиканье» (boo) или «гиканье» (hoot), то он не просто бьет мимо цели,
но промахивается очень сильно. Точно так же и слова «умословие» (redecraft),
«задоход» (backjaw) и «выходец» (out‑ganger) – неубедительные заменители для
«логики», «реторты» и «эмигранта»{54}.
Греческий случай явно похож на норвежский и ирландский,
только здесь роль Датской и Британской Корон играет Оттоманская империя. Когда
греки осознали себя как нацию, они, подобно норвежцам, обнаружили, что в
языковом плане не оснащены ничем, кроме patois, и принялись, как
ирландцы сто лет спустя, восстанавливать свой patois для сложных задач,
предстоящих в будущем, вливая в него античные формы языка. Однако в ходе своего
эксперимента грекам пришлось бороться с трудностью, которая была прямо
противоположна той, с которой столкнулись ирландцы. Если материал древнего
гэльского языка был ошеломляюще скуден, то материал классического греческого
был, наоборот, ошеломляюще изобилен. Фактически, западнёй, постоянно
встречавшейся на пути современных греческих языковых архаистов, было искушение
слишком сильно черпать из ресурсов древнего аттического языка и тем самым
вызвать модернистскую реакцию малообразованных людей. Современный греческий
представляет собой поле битвы между «языком пуристов» (ή καθαρεύοσα) и
«народным языком» (ή βημοτική) .
Наш пятый пример – превращение древнееврейского в родной
язык на устах евреев‑сионистов диаспоры, колонизировавших Палестину, – является
самым замечательным. Ведь в то время как норвежский, греческий и даже
ирландский никогда не переставали быть patois (местным говором),
древнееврейский был мертвым языком в Палестине уже в течение двадцати трех
веков, с тех пор как был вытеснен арамейским еще до времен Неемии[262]. В течение
всех этих веков, вплоть до настоящего времени, древнееврейский сохранялся только
в качестве языка богослужения иудейской религии и учености, имеющей отношение к
еврейскому Закону. А затем, в течение жизни одного поколения этот «мертвый
язык» был выведен из синагоги и превращен в средство передачи современной
западной культуры – сначала в прессе так называемой черты оседлости в Восточной
Европе, а теперь и в школах и домах еврейской общины в Палестине, где дети
говоривших на идиш иммигрантов из Европы, англоязычных иммигрантов из Америки,
арабоязычных иммигрантов из Йемена и персоязычных иммигрантов из Бухары все
выросли до того, чтобы говорить как на своем общем на древнем языке, который
«умер» за пять веков до Иисуса Христа.
Если обратиться теперь к эллинскому миру, то мы обнаружим,
что здесь языковой архаизм был не просто дополнением к местному национализму,
но представлял собою нечто более всеобъемлющее.
Если рассмотреть полное собрание книг, написанных на
древнегреческом до VII в. н. э. и сохранившихся до наших дней, можно заметить
две вещи: во‑первых, то, что подавляющее большинство этого собрания написано на
аттическом диалекте, а во‑вторых, если расположить эту аттическую библиотеку в
хронологическом порядке, то она разделится на две отчетливые группы. На первом
месте стоит оригинальная аттическая литература, созданная в Афинах в V‑IV вв.
до н. э. афинянами, которые писали на аттическом диалекте, как на своем родном
языке. На втором месте оказывается архаико‑аттическая литература, созданная на
протяжении шести или семи веков – начиная с последнего столетия до нашей эры и
заканчивая VI в. н. э. – авторами, которые никогда в Афинах не жили и для
которых аттический никогда не был их родным языком. Действительно, география
проживания неоаттических авторов почти совпадает с границами владений
эллинского универсального государства. Среди этих авторов можно встретить
Иосифа Иерусалимского, Элиана из Пренесты, Марка Аврелия Римского, Лукиана
Самосатского и Прокопия Кесарийского. Однако, несмотря на столь разнообразное
происхождение, неоаттицисты‑авторы демонстрируют поразительно единообразие в
словаре, синтаксисе и стиле, ибо они все до одного являются откровенными,
беззастенчивыми и подобострастными подражателями аттического языка «лучшего
периода.
А архаизм обеспечил им сохранность, поскольку накануне
окончательного распада эллинского общества вопрос «Быть или не быть?» для
каждого античного автора решался в соответствии с литературным вкусом того
времени, а критерием для переписчиков был не вопрос «Великая ли это
литература?», а вопрос «Чистый ли это аттический?» В результате мы обладаем
томами посредственных неоаттических произведений, которые мы бы с удовольствием
поменяли хотя бы на небольшую частицу из такого же огромного количества
утраченной неаттической литературы III–II вв. до н. э.
Аттицизм, победивший в архаизирующий век эллинской
литературы, был далеко не единственным литературным явлением этого рода.
Существует также неогомеровская поэзия, культивацией которой занимались
многочисленные любители древности от Аполлония Родосского[263] во II в. до н. э. до Нонна Панопо‑литанского[264] в V в. н. э. Сохранившиеся до наших дней
образцы неархаизирующей греческой литературы эллинистического периода в
основном ограничены двумя родами произведений: буколической поэзией III–II вв.
до н. э., сохраненных ради их изысканного дорийского диалекта, и христианскими
и иудейскими Писаниями.
Архаическое оживление аттического диалекта имеет точное
соответствие в индской истории в оживлении санскрита. Первоначальный санскрит
был родным языком евразийской кочевнической орды ариев, которые явились из
степей и наводнили Северную Индию, равно как Юго‑Западную Азию и Северный
Египет во II тысячелетии до н. э. На индийской почве этот язык сохранился в
Ведах, корпусе религиозной литературы, ставшем одним из культурных оснований
индской цивилизации. Однако к тому времени, когда эта индская цивилизация
миновала фазу надлома и вступила на путь распада, санскрит вышел из
повседневного употребления и стал «классическим» языком, который изучали
вследствие постоянного авторитета литературы, хранимой в нем. В качестве
средства общения в повседневной жизни санскрит к этому времени был вытеснен
множеством местных диалектов. Все они происходили от санскрита, но отличались
друг от друга в такой степени, что их можно было рассматривать как отдельные
языки. Один из этих пракритов[265] – цейлонский пали – был использован для
передачи священных текстов хинаянского буддизма, а некоторые другие император
Ашока (273‑232 гг. до н. э.) использовал в своих указах. Тем не менее, вскоре
после смерти Ашоки (или даже до того) началось искусственное возрождение
санскрита, которое продолжалось до тех пор, пока в VI в. н. э. не была
достигнута окончательная победа неосанскрита над пракритами на Индийском
континенте, предоставив при этом пали сохраняться в качестве литературной
диковины в островной цитадели Цейлона. Таким образом, дошедший до нас корпус
сочинений на санскрите, подобно корпусу сочинений на аттическом греческом,
делится на две отчетливые части: более древнюю, являющуюся оригинальной, и
более новую, являющуюся подражательной и архаизирующей.
В сфере религии, так же как и в сферах языка, искусства и
институтов, современный западный исследователь, возможно, увидит архаизм внутри
своего собственного социального окружения. Например, англо‑католическое
движение в Британии основано на том убеждении, что «Реформация» XVI столетия,
даже в ее модифицированной англиканской версии, зашла слишком далеко. Целью
этого движения является возврат к средневековым идеям и обрядам, которые были
отброшены и упразднены – с точки зрения сторонников этого движения, совершенно
необдуманно – четыре века назад.
В эллинской истории мы находим пример [такого архаизма] в
религиозной политике Августа.
«Возрождение государственной религии Августом является
одновременно и самым замечательным событием в истории римской религии, и почти
уникальным в истории религии вообще… Вера в эффективность древних культов в
среде образованных классов угасла… Смешанное городское население давно привыкло
глумиться над старыми божествами, а… внешняя религиозная практика пришла в
упадок. Нам кажется почти невозможным, чтобы практика, а до некоторой степени и
вера, были способны возродиться по воле одного человека… Ибо невозможно
отрицать, что это возрождение было реальностью; что и pax deorum, и jus
divinum[266] вновь обрели силу и смысл… Старая религия
продолжала существовать, по крайней мере, еще в течение трех веков внешним
образом, а до некоторой степени и в качестве народной веры»{55}.
Если обратиться от эллинского мира к японскому ответвлению
дальневосточного общества, то мы обнаружим в недавней попытке японцев возродить
местную разновидность первобытного язычества, называемую синтоизмом, еще один
опыт религиозного архаизма, который имеет много общего с политикой Августа, а
также с современной немецкой попыткой возрождения тевтонского язычества. Данное
предприятие напоминает скорее немецкий, чем римский, tour deforce
(рывок), поскольку римское язычество, возрожденное Августом, было еще живым,
хотя и находившимся в упадке институтом, тогда как японское, равно как и
немецкое, язычество на протяжении тысячи лет было вытеснено или поглощено
высшей религией – в японском случае махаянской разновидностью буддизма. Первая
фаза данного движения была академической, поскольку возрождение синтоизма
началось с буддийского монаха по имени Кейчу (1640– 1707), интерес которого к
данному предмету, по‑видимому, изначально был чисто филологическим. Однако
другие продолжили его дело, а Хирата Атсутане (1776‑1843) начал атаку
одновременно на махаяну и на конфуцианскую философию как на чуждые
заимствования.
Можно увидеть, что это синтоистское возрождение, подобно
августовскому, возникло почти сразу же после того, как Япония перешла из фазы
«смутного времени» в фазу универсального государства, и что неосинтоистское
движение достигло своей воинствующей стадии ко времени, когда японское
универсальное государство было безвременно разрушено в результате воздействия
агрессивно расширявшейся западной цивилизации. Когда после революции 1867‑1868
гг. Япония стала проводить свою современную политику, удерживая себя в рамках
наполовину вестернизированного «великого общества» при помощи модернизации по
западному националистическому образцу, появилось неосинтоистское движение,
чтобы обеспечить как раз то, что было необходимо для утверждения японской
национальной личности в ее новых международных обстоятельствах. Первым шагом,
предпринятым новым правительством в религиозной сфере, была попытка утвердить
синтоизм в качестве государственной религии. Какое‑то время даже показалось,
будто буддизм будет искоренен в результате гонений. Однако не в первый и не в
последний раз в истории «высшая религия» удивила своих врагов своей упорной
жизненностью. Буддизму и синтоизму пришлось согласиться терпеть друг друга.
Атмосфера неудачи (а там, где не было явной неудачи, –
атмосфера тщетности) окружает практически все исследованные нами примеры
архаизма. Причину этого найти нетрудно. Архаист осужден, в силу самой природы
своего предприятия, на вечные попытки примирения прошлого с настоящим, и
несовместимость их взаимных требований является слабостью архаизма как образа
жизни. Архаист стоит перед дилеммой, которая, вероятно, настигнет его, каким бы
путем он ни последовал. Если он попытается восстановить прошлое, не обращая
внимания на настоящее, тогда поток жизни, всегда движущейся вперед, разломает
его хрупкое строение на части. С другой стороны, если он соглашается подчинить
свою прихоть восстановления прошлого задаче осуществления его в настоящем,
тогда его архаизм оказывается обманом. В любом случае в результате своих усилий
архаист обнаружит, что он невольно играет роль футуриста. Стремясь сохранить
анахронизм, он фактически открывает дверь для безжалостных новаций, которые
только и дожидались снаружи этой самой возможности войти.
8. Футуризм
Как футуризм, так и архаизм являются попытками вырваться из
наскучившего настоящего через перенос из него в иное измерение времени, не
покидая при этом сферу земной жизни. Две эти альтернативные попытки бегства от
настоящего (но не от времени вообще) также похожи друг на друга тем, что
представляют собой tours de force (усилия), которые на поверку
оказываются тщетными. Они отличаются друг от друга лишь тем направлением –
вверх или вниз по течению времени, – в котором они делают свои одинаково
безнадежные попытки выйти из состояния наличного дискомфорта. В то же время
футуризм уходит дальше от человеческой природы, чем архаизм. Ибо в то время как
попытка отказаться от неприятного настоящего, уйдя в знакомое прошлое, является
слишком человеческой, человеческая природа склонна цепляться за неприятное
настоящее, нежели устремляться в неизвестное будущее. Следовательно, в
футуризме психологическое усилие соответствует явно более высокой ступени, чем
в архаической альтернативе. Приступы футуризма часто представляют собой
последующую реакцию оказавшихся в безвыходном положении людей, которые испытали
путь архаизма и были разочарованы в нем. Футуризм тем более приносит
разочарование. Неуспех футуризма, тем не менее, иногда вознаграждается весьма
иным результатом. Иногда футуризм выходит за свои границы и возвышается до преображения.
Катастрофу архаизма можно сравнить с крушением легкового
автомобиля, который развернуло на пути, а затем разбило, отбросив в
противоположном направлении. В то же время более счастливый опыт футуризма
можно сравнить с пассажиром, который, находясь на борту самолета, уверяет себя
в том, что путешествует в сухопутном омнибусе и с растущей тревогой наблюдает,
как размываются очертания земли, над которой он проносится, пока неожиданно –
когда авария уже кажется неизбежной – машина не отрывается от земли и
стремительно не взлетает над скалами и ущельями в свою стихию.
Футуристический, как и архаический, способ разрыва с
настоящим можно исследовать в целом ряде различных областей социальной
деятельности. В области манер первым жестом футуриста обычно является смена
традиционного костюма на иноземный. В современном, повсеместно
вестернизированном, хотя часто лишь внешне, мире мы видим сегодня, как
множество незападных обществ отказывается от своей традиционной своеобразной
одежды и приспосабливается к однообразно‑экзотической западной моде. Это как бы
внешний признак их добровольного или невольного входа в ряды западного
внутреннего пролетариата.
Самым известным, а возможно, и самым ранним примером
насильственной внешней вестернизации является бритье бород и запрет на ношение
кафтанов в Московском государстве по приказу Петра Великого. В третьей четверти
XIX в. эту московскую революцию в костюме переняли в Японии. Подобные
обстоятельства вызвали подобные же тиранические действия во множестве
незападных стран, начиная с Первой мировой войны 1914‑1918 гг. Например,
существует турецкий закон 1925 г., обязывающий все мужское население Турции
носить шляпы с полями, и соответствующие указы Реза‑шаха Пехлеви[267] в Иране и короля Амануллы в Афганистане,
изданные в 1928 г.
Исламский мир в XX столетии христианской эры, тем не менее,
представлял собою далеко не единственное поле сражения, на котором шляпа с
полями была усвоена в качестве боевого шлема воинствующего футуризма. В
сирийском мире 170‑160 гг. до н. э. первосвященник Иошуа, вождь сторонников
эллинизации среди евреев, не удовлетворился лишь тем, что заявил о своей
программе вербально, поменяв свое имя на греческое Иасон[268]. Несомненным
поступком, спровоцировавшим реакцию Маккавеев, явилось то, что младшие
священники стали носить широкополые шляпы, которые были отличительным головным
убором языческого правящего меньшинства в эллинских государствах‑наследниках
Ахеменидской империи. Конечным итогом этого еврейского футуристического опыта
стала не победа, как в случае Петра Великого, но поражение, как в случае
Амануллы‑хана. Лобовая атака Селевкидской державы на иудейскую религию вызвала
ответную реакцию, столь яростную, что Антиох Эпифан и его преемники были
неспособны с ней справиться. Однако сам факт того, что это отдельное
футуристическое предприятие оказалось бесплодным, не делает его менее поучительным
в качестве примера. Этос футуризма, по сути своей, тоталитарен, и эта истина
осознавалась как Ясоном, так и его противниками. Еврей, надевший петас[269],
вскоре начал часто посещать греческую палестру и с презрением смотреть на
соблюдение религиозных правил как на нечто устаревшее и препятствующее
просвещению.
В политической сфере футуризм может выражаться как
географически – в сознательном стирании существующих вех и границ, так и
социально – в насильственном роспуске существующих объединений, партий и сект
или в «ликвидации» целых классов общества. Классическим примером
систематического стирания вех и границе целью разрыва политической непрерывности
является перекраивание карты Аттики удачливым революционером Клисфеном
приблизительно в 507 г. до н. э. Целью Клисфена было превращение непрочной
политической системы, в которой родственные требования до сих пор брали верх
над общинными, в унитарное государство, в котором в будущем над всеми другими
формами преданности преобладал бы гражданский долг. Его радикальная политика
оказалась необычайно успешной, и этому эллинскому прецеденту в западном мире
последовали творцы Французской революции – либо сознательно, вследствие их
культа эллинизма, либо потому, что они независимо натолкнулись на те же
средства для достижения идентичной цели. Стремясь к политической унификации
Франции, как Клисфен стремился к политической унификации Аттики, они уничтожили
старые феодальные границы провинций и сгладили старые внутренние барьеры
обычаев, чтобы превратить Францию в унитарное фискальное пространство,
подразделенное в целях административного удобства на 83 департамента.
Монотонное однообразие и строгая субординация этих департаментов подразумевала
стирание из памяти местных отличий и особых обязанностей. Стирание старых
границ за пределами Франции в результате превращения нефранцузских территорий,
временно включенных в состав Наполеоновской империи, в департаменты по
французской модели, несомненно, подготовило почву для создания унитарных
государств в Италии и Германии. В наши дни Сталин выразил характерную черту
большевиков в географической сфере более радикально, доведя до конца новое
внутреннее деление Советского Союза, как это стало очевидно, когда новая
административная карта этой части света была перенесена на старую
административную карту Российской империи. Преследуя аналогичную цель, Сталин,
однако, действовал с такой тонкостью, что, возможно, стал в этой области
первопроходцем. В то время как его предшественники пытались достичь той же цели
за счет ослабления существующих местных зависимых областей, Сталин проводил
прямо противоположную политику, отвечая стремлениям к автономии и даже
предвосхищая их из тех практичных соображений, что аппетит гораздо легче
заглушить насыщением, чем уничтожить голодной смертью. В этой связи стоит
упомянуть о том, что сам Сталин – грузин и что в 1919 г. депутация грузинских
меньшевиков присутствовала на Парижской мирной конференции, требуя признания в
качестве отдельной нерусской национальности. Они основывали свои требования
частично в силу особенности грузинского языка и привезли с собой переводчика, в
чьи функции входил перевод их диковинного родного языка на французский. Однако
один английский журналист, которому случилось знать русский язык, как‑то
(незаметно от этих грузин) заметил, что они и их переводчик на самом деле
говорят между собой по‑русски. Отсюда вывод: нынешние грузины, какими бы ни
были их политические стремления, непроизвольно и бессознательно будут вести
свои политические разговоры на русском до тех пор, пока русский не будет им
навязываться насильно.
В сфере светской культуры классическим выражением футуризма
является символический акт сожжения книг. В древнекитайском мире император Цинь
Шихуанди, который был первым революционным основателем древнекитайского
универсального государства, приказал конфисковать и сжечь сохранившиеся
произведения философов, творивших в период «смутного времени», из страха, что передача
этих «опасных мыслей» может помешать его замыслу по введению совершенно нового
общественного строя. В сирийском обществе халиф Омар[270],
восстановивший сирийское универсальное государство после тысячелетнего
перерыва, вызванного эллинским вторжением, как сообщают, в ответ на запрос
одного из своих военачальников, только что взявшего Александрию и
испрашивавшего распоряжений по поводу знаменитой библиотеки[271], написал
следующее:
«Если эти сочинения греков согласуются с Божьей Книгой, то
они бесполезны, и их не нужно сохранять. Если же не согласуются, то они вредны,
и их следует уничтожить».
Согласно легенде, содержимое библиотеки, собранной в течение
более девяти столетий, вследствие этого было осуждено стать топливом для
общественных бань.
В наши дни Гитлер сделал все, что мог, для сожжения книг,
хотя изобретение книгопечатания сделало достижение «тотальных» результатов
гораздо более трудным для тиранов, которые прибегают к этой мере в современном
мире. Современник Гитлера Мустафа Кемаль Ататюрк нашел более хитрый способ.
Целью турецкого диктатора было не больше и не меньше как вытравить из сознания
своих сограждан их связи с унаследованным иранским культурным окружением и
втиснуть их в западную культурную матрицу. Вместо сожжения книг он
удовлетворился изменением алфавита. С 1929 г. все книги и газеты должны
печататься, а все имеющие законную силу документы – составляться латинскими
буквами. Принятие и введение этого закона освободило турецкого гази от
необходимости подражать древнекитайскому императору или арабскому халифу.
Классики персидской, арабской и турецкой литературы теперь эффективно сделаны
недосягаемыми для подрастающего поколения. Нет больше необходимости сжигать
книги, когда алфавит, являющийся ключом к ним, вышел из употребления. Они могут
спокойно гнить на своих полках в полной уверенности, что их никто никогда не
потревожит, за исключением незначительной горстки антикваров.
Философия и литература, конечно же, не единственные области
светской культуры, в которых наследие прошлого подвергается футуристической
атаке. Существуют и другие миры для футуристических завоеваний – в сфере
визуальных и звуковых искусств. В действительности, именно работники в сфере
визуального искусства создали само слово «футуризм» для описания своих
революционных шедевров. Однако существует еще одна печально известная форма
футуризма в области визуальных искусств, которая находится на пересечении двух
сфер – светской культуры и религии. Это – иконоборчество. Иконоборец похож на
современного поборника кубизма, отказывающегося в своей живописи от
традиционного стиля в искусстве, но особенность его состоит в том, что он
ограничивает свое враждебное отношение к искусству областью религии, и его
враждебность вызвана не эстетическими, а теологическими мотивами. Сущность
иконоборчества заключается в отрицании возможности визуально изображать
Божество или любую тварь, образ которой может стать предметом идолопоклонства.
Однако существовали различия в степени строгости, с которой этот принцип
применялся. Наиболее известная школа иконоборчества – «тоталитарная»,
представленная иудаизмом и подражателем иудаизма – исламом. Ее позиция выражена
во второй заповеди, данной Моисею:
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли»[272].
С другой стороны, иконоборческое движение, возникшее внутри
христианской Церкви, приноравливалось к тем особенностям, которые христианство,
по‑видимому, усвоило с первых дней своего существования. Хотя вспышки
иконоборчества в православном христианстве в VIII в. и в западном христианстве
в XVI в. могли вдохновляться, по крайней мере отчасти, примерами в первом
случае ислама, а во втором – иудаизма, тем не менее, ни в одном из этих случаев
не было попытки вообще запретить визуальные искусства. Они не переносили свое
наступление в светскую область, и даже в религиозной области восточные
иконоборцы в конце концов согласились на любопытный компромисс. Трехмерное
изображение предметов религиозного поклонения должно было быть запрещено на том
условии, что двухмерные изображения допускались.
9. Самопревосхождение футуризма
Если футуристические методы в области политики иногда могут
достичь успеха, то футуризм как образ жизни приводит тех, кто пытается ему
следовать, к бесплодным поискам цели, которая, по сути своей, недостижима.
Однако хотя эти поиски бесплодны и могут быть трагичными, это не означает, что
они бесцельны, ибо они могут направить стопы разочарованного по мирному пути.
Футуризм в его примитивной обнаженности представляет собой совет, подсказанный
отчаянием, и по существу является pis alter[273] , ибо первым прибежищем души, разочаровавшейся
в настоящем и не утратившей при этом вкуса к земной жизни, будет попытка
перенестись в прошлое. И только после того, как эта архаическая попытка бегства
окажется тщетной или будет отвергнута как, по сути своей, невозможная, душа
соберется с силами, чтобы предпринять еще менее естественную футуристическую
попытку.
Природу этого чистого – и к тому же чисто земного –
футуризма можно проиллюстрировать несколькими классическими примерами.
В эллинском мире, например во II в. до н. э., тысячи
сирийцев и других высоко цивилизованных жителей Востока были лишены свободы,
оторваны от своих домов, разлучены с семьями и на кораблях перевезены в Сицилию
и Италию, чтобы служить в качестве рабов на плантациях и на скотоводческих
фермах в областях, опустошенных войной с Ганнибалом. Для этих лишенных
отечества рабов, весьма остро нуждавшихся в бегстве от настоящего, не было
возможности архаического ухода в прошлое. Они не только физически не могли
вернуться на родину, но все, что могло бы приблизить их родину, безвозвратно
погибло. Они не могли вернуться назад. Они могли лишь идти вперед. И когда
угнетение стало невыносимым, они восстали. Безнадежной целью великих рабских
восстаний было установление чего‑то вроде перевернутой Римской республики, в
которой нынешние рабы были бы господами, а нынешние господа – рабами.
В более ранней главе сирийской истории евреи подобным же
образом отреагировали на уничтожение своего отдельного независимого Иудейского
царства. После того как они были поглощены Нововавилонским царством и империей
Ахеменидов и рассеяны среди язычников, евреи вообще не могли надеяться на
архаический возврат к допленному состоянию, когда Иудея жила жизнью
самостоятельного государства. Надежду, которую они могли питать, невозможно
было представлять себе с точки зрения того положения дел, которое погибло без
возврата. А поскольку они не могли жить без живой надежды вырваться из
настоящего, с которым они не могли смириться, послепленные евреи устремились
вперед, к будущему установлению Царства Давидова в форме, не имевшей прецедента
в политическом прошлом Иудеи. Это царство мыслилось как единственное возможное
в мире великих империй. Если новый Давид должен вновь объединить все еврейство
под своим правлением (а в чем, кроме этого, еще могла бы состоять его миссия?),
то он должен вырвать имперский скипетр из рук нынешних его владельцев и
превратить завтра Иерусалим в то, чем сегодня являются Вавилон или Сузы, то
есть в центр мира. Разве Зоровавель[274] не имеет такой же шанс на мировое господство,
как Дарий, а Иуда Маккавей – как Антиох, или Бар‑Кохба – как Адриан?
Аналогичная мечта некогда пленила и воображение староверов в
России. В глазах этих «раскольников» (Raskolniki) православие в петровской
версии вообще не было православием. В то же время невозможно было вообразить,
чтобы старый церковный порядок победоносно вновь утвердился перед лицом
светского порядка, который был столь же всемогущим, сколь и сатанинским.
Поэтому «раскольники» стали возлагать надежды на нечто беспрецедентное, на
богоявление царя‑мессии, который смог бы восстановить православную веру в ее
нетронутой чистоте.
Характерной чертой во всех этих примерах чистого футуризма
является то, что футуристы ищут исполнения своих надежд в прозаичном, чисто
земном плане. Эта черта особенно бросается в глаза в футуризме евреев, которые
оставили достаточное количество документальных данных о своей истории. После
уничтожения их царства Навуходоносором евреи снова и снова продолжали хранить,
как сокровище, надежду на установление нового еврейского государства всякий
раз, когда игра экуменической политики давала им наималейший повод к этому.
Кратковременный период анархии, через который империя Ахеменидов прошла между
смертью Камбиза и возвышением Дария, был свидетелем попытки Зоровавеля (ок. 522
г. до н. э.) восстановить Давидово Царство. В последующей главе истории более
продолжительный период междуцарствия, прошедший между упадком державы
Селевкидов и прибытием римских легионов в Левант, был ошибочно принят евреями
за победу Маккавеев. Большинство палестинских евреев столь необдуманно
увлеклись этим миражом земного успеха, что были готовы – как за четыреста лет
до того Второисаия – выбросить за борт долгое время хранившуюся священную
традицию, согласно которой основателем нового государства должен быть потомок
Давида.
Если бы евреи были неспособны противопоставить себя дряхлым
Селевкидам, то как бы они могли надеяться меряться силами с могущественным
Римом в период его расцвета? Ответ на этот вопрос для идумейского диктатора
Ирода[275] был ясен, как день. Он никогда не забывал, что
правит Палестиной благодаря Риму, и пока он правил, ему удавалось спасти своих
подданных от неизбежной кары за их же собственное безумие. Однако, вместо того
чтобы быть благодарными Ироду за преподнесенный им столь полезный политический
урок, евреи не смогли простить ему, что он оказался прав. Как только они
освободились из‑под его властной руки, евреи закусили удила и помчались по
своей футуристической тропе навстречу неизбежной катастрофе. Но даже тогда
простой демонстрации римского всемогущества оказалось недостаточно. Ужасный
опыт 66‑70 гг. не удержал евреев от нового несчастья, повторившегося в 115‑117
и снова в 132‑135 гг. Бар‑Кохба в 132‑135 гг. преследовал ту же цель теми же
средствами, что и Зоровавель в 522 г. до н. э. Евреям потребовалось более шести
веков, чтобы понять, что футуризм такого рода безрезультатен.
Если бы к этому свелась вся еврейская история, то она была
бы не такой интересной. Однако это, конечно же, только одна половина истории,
причем наименее важная половина. Вся история заключается в том, что хотя
некоторые еврейские души «ничему не научились и ничего не забыли», подобно
Бурбонам, другие (или даже некоторые из тех же самых еврейских душ в ином
расположении духа и в других духовных областях) благодаря горькому опыту
постепенно привыкали хранить свое сокровище в другом месте. Открывая
несостоятельность футуризма, евреи сделали еще одно потрясающее открытие о
существовании Царства Божия. Век за веком два эти постепенные откровения – одно
негативное, а другое позитивное – раскрывались одновременно. Ожидаемый
основатель нового иудейского земного государства понимался вполне подходяще –
как царь из плоти и крови, который станет основателем потомственной династии.
Однако тем титулом, под которым пророчили приход этого основателя империи и
которым каждый претендент на эту роль, от Зоровавеля до Бар‑Кохбы, себя
называл, был не «мелек» (царь), но «мессия» – «Помазанник Божий». Тем самым,
даже будучи только фоном, Бог евреев с самого начала связывался с надеждой
евреев, и, по мере того как земная надежда неумолимо исчезала, образ Божества
принимал все большие размеры, пока не заполнил собою весь горизонт.
Призывание Бога на помощь, конечно же, само по себе не
является какой‑то необычной процедурой. Быть может, эта практика является столь
же древней, сколь и сама религия, для людей, начинающих какое‑либо трудное
предприятие с просьбы о защите охраняющего их божества. Новое заключалось не в
притязании, выраженном в титуле «мессии», на то, что защитник народа получил
санкцию Бога. Новым (а также наиболее важным) было понимание природы, функции и
власти божества‑покровителя. Ибо хотя Яхве и не перестали мыслить в качестве
местного Бога еврейства в определенном смысле, появился и другой, более широкий
аспект, в котором Он изображался в качестве покровителя Помазанника Божия.
Еврейские футуристы послепленного периода все же были заняты необычным
политическим делом. Они посвятили себя задаче, которая, с человеческой точки
зрения, была невыполнима. Ибо если им не удалось сохранить даже свою
независимость, то как могли они надеяться стать хозяевами мира? Чтобы выполнить
эту задачу, они должны были иметь в качестве покровителя не просто местного
Бога, но такого Бога, который бы соответствовал их футуристическим амбициям.
Когда однажды это было осознано, драма, которая до сих пор
оставалась «общей формой» в истории религий, была перенесена в более высокое
духовное измерение. Человеческий защитник низводится до второстепенной роли, в
то время как Божество начинает господствовать на сцене. Человеческого мессии
недостаточно. Сам Бог должен снизойти до игры роли Спасителя. Защитник Его
народа в земном плане Сам должен быть Сыном Божиим.
Здесь любой современный западный психоаналитик, читающий эти
строки, удивленно поднимет брови. «То, что вы объявляете высоким духовным
открытием, – вставит он, – есть не что иное, как капитуляция перед инфантильным
желанием бежать от реальности, которое является одним из постоянно преследующих
человеческую душу соблазнов. Вы описали, как некоторые несчастные люди, которые
безрассудно ставили перед собой недостижимые цели, пытались нестерпимую ношу,
взваленную на их плечи непосильной задачей, переложить на плечи ряда
вымышленных заменителей. Сначала они призывали просто человеческого защитника,
затем, когда он не смог быть полезным, – человеческого защитника, усиленного
божественной защитой, и, наконец, глупцы в отчаянии подают сигнал “SOS”
воображаемому божественному существу, которое должно выполнить за них работу
само. Для психолога‑практика это неуклонное развитие бегства от жизни является
обычной, наводящей уныние историей».
В ответ на эту критику мы охотно согласимся с тем, что
действительно несерьезно взывать к сверхъестественной силе для того, чтобы она
выполнила ту земную задачу, которую мы сами для себя выбрали и сами оказались
неспособны выполнить. Молитва «Да будет воля моя» оказывается
собственным приговором тщетности. В указанном еврейском случае существовали
школы еврейских футуристов, действительно убежденных в том, что Яхве возьмет на
себя выполнение выбранных его поклонниками задач, и эти еврейские футуристы
действительно (как мы уже видели) плохо кончили. Имело место мелодраматическое
самоубийство зелотов, которые, встретившись с безнадежным перевесом в военных
силах, смело бросились сражаться в надежде на то, что Господь сил в день битвы
Один перевесит все неприятельские силы. Существовали и квиетисты, которые,
исходя из тех же самых ошибочных предпосылок, приходили к прямо
противоположному, однако к не менее безнадежному выводу. Они считали, что им
следует воздержаться от любого участия в земных делах, которые они решили
записать в список дел Бога. Однако были и другие ответы – ответ школы Йоханана
бен Заккая и ответ христианской Церкви. И хотя два эти ответа напоминают
квиетизм своей негативной чертой непротивления, они отличаются как от
квиетизма, так и от зелотства в гораздо более важном позитивном пункте. Они
перестали страстно стремиться к старой земной цели футуризма и хранили, как
сокровище, ту цель, которая была не человеческой, но Божественной, и к которой
тем самым можно было стремиться лишь в духовной сфере, где Бог не является
союзником, но направляет действия.
Этот момент имеет огромную важность, поскольку он разрушает
ту убийственную критику, которую наш психоаналитик мог направить как против
зелотов, так и против квиетистов. Призывание Бога на помощь нельзя осуждать в
качестве инфантильного бегства от реальности, если одновременно человек
отрывает свое либидо от прежней земной цели. И наоборот, если акт
призывания действительно приводит к столь великому и благому духовному
результату, как тот, что совершается в человеческой душе, то это, по‑видимому, prima
facie[276] явилось бы обоснованием веры в то, что
призванная Сила является не просто плодом человеческого воображения. Мы
позволим себе утверждать, что эта духовная переориентация явилась открытием
единого истинного Бога и что человеческие фантазии о будущем мира сего уступили
место божественному откровению о мире ином. Благодаря разочарованию в земной
надежде мы признали откровение о реальности, которая все время находилась за
кулисами узкой человеческой сцены. Завеса в Храме разорвалась надвое.[277]
Остается лишь отметить наиболее важные стадии в совершении
этого безмерного подвига духовной переориентации. Суть его заключается в том,
что земная сцена, которая некогда выглядела сценой для человеческих актеров со
сверхчеловеческими помощниками или без них, теперь рассматривается как поле для
последовательной реализации Царства Божия. Поначалу, однако, как и можно было
ожидать, новая идея в значительной степени была облечена в образы,
унаследованные от старой футуристической концепции. На этом фоне «Второисаия»
изображает черты Царства Божия, превосходящего, хотя и включающего в себя, идею
земного царства, империи Ахеменидов, в которой его спаситель‑герой Кир выбирает
в качестве своей столицы Иерусалим, а не Сузы, а в качестве господствующей расы
– евреев, а не персов, поскольку Яхве открыл ему, что это именно Он, Яхве (а не
Ахурамазда), дал Киру возможность завоевать мир. В этой грезе «Второисаия» в
сильной степени подвергается опасности стать объектом критики нашего
психоаналитика. Данная пророческая концепция выходит за горизонт земной идеи
футуриста лишь в том пункте, что испытывающими сверхъестественное блаженство
здесь изображаются и человек, и природа. Его Царство Божие в действительности
не что иное, как Рай Земной, Эдемский Сад, только обновленный.
Следующая стадия наступает, когда этот Земной Рай начинают
мыслить лишь в качестве переходного состояния, которое продлится, возможно, в
течение тысячи лет[278], однако ему
предопределено закончиться в конце отпущенного периода вместе с концом самого
мира сего. Однако если этот мир должен закончиться, чтобы уступить место миру
иному, находящемуся за его пределами, то тогда именно в этом мире ином и должно
находиться истинное Царство Божие. Царь, который будет править во время
Тысячелетия, еще не Сам Бог, но просто Его представитель, или мессия. Очевидно,
что эта концепция сверхъестественного Тысячелетия в этом мире, ожидающем замены
миром иным, представляет собой несостоятельную попытку найти компромисс между
идеями, которые не только отличаются друг от друга, но, по меньшей мере,
взаимно несовместимы. Первая из этих идей – идея Второисаии – является надеждой
на футуристическое земное царство со сверхъестественными «усовершенствованиями».
Вторая идея – это идея Царства Божия, которое существует совершенно вне
времени, но в ином духовном измерении, и которое как раз благодаря этому иному
измерению способно проникать в нашу земную жизнь и преображать ее. Для того
чтобы совершить трудный духовный подъем от миража футуризма до действительного
видения преображения, эсхатологическая схема Тысячелетия могла оказаться
необходимой мысленной лестницей, однако когда высота была взята, лестницу можно
было отбросить.
«Фарисейский пиетист уже научился при Хасмонеях обращаться
от мира сего к Небесам, к будущему. Теперь, при Ироде, все течение
национального сознания, достигшее в последних поколениях такой мощи, ударилось
о глухую стену и само не нашло иного выхода, кроме тех каналов, которые были
открыты фарисеями. Именно среди этих людей, подчинившихся суровой
необходимости, трансцендентные верования, надежды на мессию, выращенные в
фарисейских школах, распространялись с новой силой. Несколько книг фарисейского
благочестия, дошедших до нас, – “Книга Еноха”, “Псалмы Соломона”, “Успение
Моисея” и другие – в самом деле показывают нам, какие идеи занимали умы их
авторов. Однако они не могут показать нам того, что мы знаем из наших
Евангелий: как идеи этого рода проникали в народ все дальше и дальше; как образ
Грядущего Царя, “Помазанника”, “Сына Давидова”, а также определенные идеи
Воскресения, иного мира были частью обычной мысленной обстановки того
обыкновенного народа, который опирался на слова Господа… Однако… Христос, в
Которого верят христиане, не был воплощением какой‑либо одной из форм,
возникших из пророческой мысли. В Нем встретились и смешались все надежды и
идеалы прошлого»{56}.
10. Отрешенность и преображение
Наше исследование природы футуризма и архаизма привело нас к
выводу о том, что ни тот, ни другой не достигают успеха, поскольку стремятся
убежать от настоящего, не поднимаясь при этом надземным временем. Мы видели,
как осознание краха футуризма может привести (и действительно, в высочайшем из
исторических примеров привело) к пониманию таинства, которое мы назвали
преображением. Признание истины, что архаизм недостаточен, является тем
вызовом, который, как мы видели, может отбросить разочарованного архаиста в
противоположном направлении, прямо до Гадаринского склона[279] футуризма, но он может дать и альтернативный
ответ на вызов, предприняв некий новый духовный уход. Его путь наименьшего
сопротивления может обернуться прыжком, который, к несчастью, стремится
превратиться в полет, попытку избежать проблемы посадки за счет постоянного
отрыва от земли. Это философия отрешенности, которую мы уже наблюдали, без
дальнейших комментариев, на примере еврейских квиетистов.
Для западного исследователя самым известным изложением
подобной философии являются те «Листки из дневника философа‑стоика», которые
завещали нам Эпиктет и Марк Аврелий. Однако если мы проследуем по пути
отрешенности достаточно далеко, то рано или поздно обнаружим, что из эллинского
направления поворачиваем в индийское. Как бы далеко ни зашли ученики Зенона,
лишь ученики Гаутамы имели смелость пройти по всему пути отрешенности до его
логического конца – самоуничтожения. Как интеллектуальное достижение это сильно
впечатляет. Как нравственное достижение это ошеломляет. Однако отсюда вытекает
одно приводящее в смущение нравственное следствие. Совершенная отрешенность
изгоняет жалость, а следовательно и любовь, столь же неумолимо, сколь и все
злые страсти, от которых стремится себя очистить.
«Человек, каждое движение которого лишено любви и цели, чьи
труды сожжены огнем знания, просвещенный, называемый “знающим”. Знающий не
печалится ни о тех, чьи жизни пролетели, ни о тех, чьи жизни пролетят»{57}.
Для сознания индийского мудреца эта бессердечность является
несокрушимой сердцевиной философии. К тому же самому выводу самостоятельно
пришли и эллинские философы. Эпиктет предостерегает своих учеников:
«Если ты целуешь свое дитя… никогда не давай своему
представлению полную волю и не позволяй радости доходить до чего ей угодно…
Какое зло в том, если, целуя дитя, пришептывать: “Завтра ты умрешь”?»{58}
А Сенека не колеблясь заявляет:
«Жалость есть душевная болезнь, вызванная зрелищем
человеческих несчастий, или иначе ее можно определить как заболевание слабых
личностей, которым они заразились от бедствий других людей, когда больной
верит, что эти бедствия незаслуженны. Мудрец не подвержен подобным болезням»{59}.
Доходя до вывода, который, с точки зрения логики, неизбежен
и в то же время, с нравственной точки зрения, неприемлем, философия
отрешенности в конце концов терпит поражение, вызывая в нас протест. Она
оказывается не в состоянии решить проблему, которую намеревалась решить, ибо,
советуясь с одной лишь головой и игнорируя сердце, она произвольно делит на
части то, что Бог соединил вместе. Этой философии отрешенности приходится
отойти на второй план перед таинством преображения.
Как только мы приступим к этому четвертому и последнему
повороту с большой дороги распада, до нашего слуха станут доноситься крики
неодобрения и голоса насмешки. Однако нам не нужно пугаться, ибо они будут
исходить со стороны философов и футуристов – высокомерных сторонников
отрешенности и зелотов политического и экономического материализма. Мы уже
обнаружили, что если кто‑то, может, и прав, то только не они.
«Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное»{60}.
Эта истина, которую мы можем подтвердить эмпирически, известна
нам также и интуитивно. В ее свете и силе мы можем храбро встретить неодобрение
футуристов и философов, смело продвигаясь по стопам проводника, которым не
является ни Бар‑Кохба, ни Гаутама.
«Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем
Христа распятого, для Иудеев соблазн[280], а для
Еллинов безумие»{61}.
Почему Христос Распятый стал соблазном для футуристов,
которым никогда не удалось добиться знака божественной поддержки в своих земных
начинаниях? И почему Он является безумием для философов, которые так никогда и
не смогли найти искомую ими мудрость?
Христос Распятый – безумие для философа, потому что целью
философа является отрешенность. Философ не может понять, как разумное существо,
уже достигшее этой заветной цели, может быть настолько упорно в своем
сознательном отказе от того, что завоевало с таким трудом. Какой смысл в уходе,
если он совершается просто ради того, чтобы возвратиться? И а fortiori
(тем более) философ должен прийти в замешательство от представления о Боге,
который не просто утруждает Себя уходом из этого несовершенного мира, поскольку
Он полностью независим от него в силу Своей Божественности, но, несмотря на
это, сознательно входит в него и подвергает Себя самой тяжелой муке, какую
только способен вынести Бог или Человек, ради существ, неизмеримо более низких
по сравнению с Его Божественной природой. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного».{62} Это последнее слово в безумии, с
точки зрения искателя отрешенности.
«Если наивысшая цель – спокойствие, то мудрец стремится
освободить свое сердце от волнения, изгоняя из него страх и желание, делающие
его зависимым от внешних вещей. Но одна оставленная щель открывает сразу же
сотни каналов, через которые боль мира и волнение могут влиться в сердце через
фибры, созданные Любовью и Жалостью, связывая его сердце с лихорадочно
бьющимися сердцами окружающих людей. Сотни фибров! – одной щели было бы
достаточно, чтобы позволить сильной волне захлестнуть его сердце. Оставь в
борту судна маленькую дырочку, и ты окажешься в море. Я думаю, стоики вполне
справедливо считали, что если позволить Любви и Жалости вторгнуться в сердце,
то они выйдут из‑под контроля, и тогда можно будет тотчас же отказаться от идеи
спокойствия… Идеальный образ христианина никогда не мог быть принят стоиком в
качестве примера типичного мудреца»{63}.
Распятие – великий соблазн на пути футуризма, поскольку
смерть на Кресте подтверждает слова Иисуса о том, что Его Царство – не от мира
сего. Знаком, которого требует футурист, является объявление о царстве, которое
будет лишено всякого смысла, если не достигнет земного успеха. Задача Мессии, с
точки зрения футуриста, это задача, которую Второисаия предназначал Киру, а
впоследствии позднейшие еврейские футуристы – сторонникам Иуды или Февды того
времени: Зоровавелю, Симону Маккавею или Симону Бар‑Кохбе.
«Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: “Я держу тебя
за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб
отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы
уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые
во тьме сокровища и сокрытые богатства, [дабы ты познал, что Я Господь,
называющий тебя по имени, Бог Израилев]”»{64}.
Как это подлинно футуристическое понимание Мессии могло
примириться со словами Узника, отвечавшего Пилату: «Ты говоришь, что Я Царь», а
затем давшего столь фантастическое описание Своей царской миссии, для которой,
как Он заявлял, Бог послал Его в мир?
«Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине»{65}.
Приводящие в смущение слова можно было бы проигнорировать,
но смерть приговоренного нельзя ни отменить, ни объяснить. Испытание Петра
показывает, сколь горестным был этот соблазн.
Царство Божие, Царем которого является Христос, несоразмерно
с любым царством, которое мог бы основать Мессия, предсказываемый в образе
ахеменидского завоевателя, превращенного в еврея и спроецированного в будущее.
Настолько, насколько этот Clvitas Dei[281] входит во временное измерение, будучи вовсе не
мечтой о будущем, но духовной реальностью, он пронизывает собою и настоящее.
Если мы зададимся вопросом, каким образом Божья воля может осуществляться на
земле, как и на небесах, ответ, данный на специальном языке теологии, будет
состоять в том, что вездесущность Бога включает в себя и Его присутствие в этом
мире и в каждой живой душе, равно как и Его трансцендентное существование в
сверхъестественных сферах. В христианской концепции Божества Его
трансцендентный аспект (или «Личность») проявляется в Боге Отце, а Его
имманентный аспект – в Боге Святом Духе. Однако отличительной и особенно важной
чертой христианской веры является то, что Бог – не Двоица, но Троица в Единице,
и что в Его ипостаси в качестве Бога Сына два других аспекта объединены в
Личности, которая благодаря этому таинству доступна человеческому сердцу, также
как Он непостижим для человеческого понимания. В личности Христа – истинного
Бога, но также и истинного Человека – божественное общество и земное имеют
общего члена, Который в этом мире рожден в среде пролетариата и умирает смертью
преступника, тогда как в ином мире Он Царь Царства Божьего, Царь, Который Сам
является Богом.
Но каким образом могут две природы – Божественная и
человеческая – присутствовать одновременно в одной личности? Ответы, отлитые в
форме Символов веры, были разработаны христианскими отцами Церкви в понятиях
специального словаря эллинских философов. Однако этот метафизический подход,
возможно, далеко не единственный из открытых для нас подходов. Мы можем найти
альтернативную отправную точку в постулате, согласно которому Божественная
природа в той мере, в какой она нам доступна, должна иметь нечто общее с нашей
собственной природой. Если мы поищем отдельную духовную способность, которой мы
сознательно обладаем и которую мы также можем с абсолютной уверенностью
приписать Богу – поскольку Бог был бы духовно ниже человека (quod est
absurdum[282]),
если бы у Него этой способности не было, а у нас была, – то общей для человека
и Бога способностью, о которой мы подумаем в первую очередь, будет как раз та,
которую желают умертвить философы, – способность Любви. Камень, столь упрямо
отвергнутый и Зеноном, и Гаутамой, тот самый сделался главою угла храма Нового
Завета.{66}
11. Палингенез
Мы завершили наш обзор четырех экспериментальных образов
жизни, которые представляют собой многочисленные исследовательские попытки найти
реальную альтернативу образу жизни и развития, привычному для растущей
цивилизации. Когда эта удобная дорога была беспощадно закрыта в результате
катастрофы социального надлома, эти четыре образа жизни открылись в качестве
возможных альтернативных объездных путей. Мы обнаружили, что три из них
являются тупиками и что лишь один, который мы назвали преображением и примером
которого может служить христианство, ведет прямо вперед. Возвращаясь к понятию,
использованному ранее в данном «Исследовании», мы можем теперь сказать, что и
преображение, и отрешенность – в противоположность футуризму и архаизму –
представляют собой примеры того «переноса поля действия» из макрокосма в
микрокосм, которое обнаруживается в духовном явлении «этерификации». Если мы
правы, полагая, что перенос и этерификация являются симптомами роста и что в
каждом примере человеческого роста обнаружится как социальный, так и
индивидуальный аспект, и если мы вынуждены гипотетически предположить, что
обществом, о росте которого свидетельствуют преображение и отрешенность, не
может быть любое общество вида, названного нами цивилизациями (учитывая, что
распадающееся общество этого вида является Градом Погибели, из которого всякое
движение старается убежать), то тогда мы можем лишь сделать вывод о том, что
движения отрешенности и преображения свидетельствуют о росте общества или
обществ некоторого другого рода или родов.
Использовать ли единственное или двойственное число для
описания того социального способа, которым протекают два наших движения?
Наилучшим способом приблизиться к решению этой проблемы может стать иной
вопрос, который мы зададим себе: каково различие между отрешенностью и
преображением в понятиях социального роста? Ответ, несомненно, заключается в
том, что если отрешенность – простое движение абсолютного ухода, то
преображение – сложное движение ухода, за которым следует возврат. Это сложное
движение иллюстрируется в жизни Иисуса Его уходом в пустыню перед началом
проповеди в Галилее, а в жизни апостола Павла – трехлетним пребыванием в Аравии
перед важными миссионерскими путешествиями, которые распространили новую
религию из ее провинциального сирийского очага в самый центр эллинского мира.
Если бы Основатель христианской религии и Его апостол‑миссионер увлеклись
философией отрешенности, то они бы остались в своих пустынях на все отпущенные
им на земле годы. Ограниченность философии отрешенности состоит в ее
неспособности понять, что нирвана – не конечная станция в путешествии души, но
просто одна из станций на пути следования. Конечной станцией является Царствие
Божие, и это вездесущее Царствие требует служения от своих граждан на земле,
здесь и теперь.
В понятиях древнекитайской философии, которые мы
использовали в начале данного «Исследования», распад цивилизации исчерпывает
себя в полном цикле переменного ритма Инь‑и‑Ян. В первом такте ритма
разрушительное движение Ян (распад) переходит в состояние Инь (отрешенность),
которое также является покоем истощения. Однако ритм не останавливается на
мертвой точке. Он переходит в творческое движение Ян (преображение). Это
двухтактное движение Инь‑и‑Ян представляет собой ту особую форму общего
движения ухода‑и‑возврата, на которую мы наткнулись в начале нашего
исследования распада и которую впоследствии назвали расколом‑и‑палингенезом.
Буквальное значение греческого слова «палингенез» –
«возвращение к жизни», и это понятие содержит в себе элемент двусмысленности.
Подразумеваем ли мы под новым рождением то, что уже было некогда рождено, –
например, замена безвозвратно поврежденной цивилизации другой цивилизацией того
же вида? Это не может быть тем, что мы имеем в виду, ибо это цель не
преображения, но движения, заключенного внутри потока времени, – не архаизма
или футуризма, но иного движения того же порядка. Палингенез в этом смысле был
бы Колесом Существования, которое буддийская философия принимает как должное и
пытается разорвать путем ухода в нирвану. Однако палингенез не может означать
достижения нирваны, ибо процесс, в ходе которого это отрицательное состояние
достигается, не может мыслиться как «рождение».
Однако если палингенез не означает достижения нирваны, он
может означать только достижение иного, сверхъестественного состояния, к
которому образ рождения может быть приложим в качестве разъяснения, поскольку
это иное состояние является позитивным состоянием жизни – хотя и в более
высоком духовном измерении, чем жизнь в этом мире. Именно о палингенезе говорит
Иисус Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»{67}.
Именно о нем Он заявляет в другом месте как о высшей цели Его собственного
рождения во плоти: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».{68}
В ответ на теогонию, которую Музы некогда сообщили Гесиоду[283], пастуху из
Аскры, в момент, когда растущая эллинская цивилизация только расцветала,
антифоном звучит другая теогония, которую вифлеемским пастухам поют ангелы в
момент, когда распадающееся эллинское общество претерпевало последние мучения
«смутного времени» и уже впадало в коматозное состояние универсального
государства. Рождение, о котором пели тогда ангелы, не было ни возрождением
Эллады, ни новым рождением других обществ того же вида, что и эллинское. Это
было рождение во плоти Царя Царствия Божиего.
XX.
Отношение между распадающимися обществами и индивидами
1. Творческий гений как спаситель
Проблема отношения между цивилизациями и индивидами уже
привлекала наше внимание в первой части данного «Исследования». Тогда мы пришли
к выводу, что институт, который мы называем обществом, состоит в пересечении
соответствующих полей действия множества индивидуальных душ. Источником
действия при этом никогда не выступает само общество, но всегда индивид.
Действие, которое состоит в акте творчества, всегда выполняется тем, кто в
некотором смысле является сверхчеловеческим гением. Гений выражает себя, подобно
всякой живой душе, посредством воздействия на своих собратьев. Во всяком
обществе творческие личности всегда составляют немногочисленное меньшинство.
Воздействие гения на обычные души порой происходит посредством идеального
метода прямого озарения, однако обычно – через посредство своего рода
социальной дрессировки, которая приводит в действие способность мимесиса (или
подражания) в душах нетворческого рядового состава и тем самым наделяет его
способностью «механически» имитировать развитие, которого он не смог достичь по
своей собственной инициативе. К этим выводам мы пришли в ходе предпринятого
нами анализа роста, и, в общем, они, несомненно, должны быть справедливы и
относительно взаимодействия индивидов и обществ на всех стадиях истории
общества. Какие же различия в деталях обнаруживаются в этих взаимодействиях,
когда рассматриваемое нами общество подвергается надлому и входит в процесс
распада?
Творческое меньшинство, из которого на стадии роста
появились творческие индивиды, перестало быть творческим и опустилось до того,
что стало просто «правящим». Однако само отделение пролетариата, являющееся
характерной чертой распада, было достигнуто благодаря руководству творческих
личностей, деятельность которых не имела иной цели, кроме как организовать оппозицию
инкубу нетворческих «сильных мира сего». Таким образом, смена роста распадом не
сопровождалась каким‑либо угасанием творческой искры. Творческие личности
продолжали появляться и брать на себя инициативу благодаря своей творческой
силе, однако они обнаруживали теперь, что принуждены выполнять старую работу,
опираясь на новую locus standi[284].
В растущей цивилизации творец вынужден играть роль завоевателя, дающего на
вызов победоносный ответ. В распадающейся цивилизации он вынужден играть роль
спасителя, пришедшего спасти общество, которому не удалось ответить успешно,
поскольку вызов берет верх над меньшинством, переставшим быть творческим.
Подобные спасители бывают различных типов, в зависимости от
того средства, при помощи которого они пытаются излечить социальную болезнь.
Могут быть претенденты на роль спасителей распадающегося общества, которые не
станут отчаиваться в настоящем и возьмутся за безнадежное предприятие, пытаясь
поражение превратить в новый успех. Эти претенденты на роль спасителей будут
принадлежать к правящему меньшинству, и их характерной чертой будет конечная
неудача в деле спасения. Однако могут быть также и спасители от распадающегося
общества, которые будут искать спасения в том или ином из четырех альтернативных
способов бегства, уже нами исследованных. Спасители, принадлежащие к четырем
этим школам, будут согласны между собой в том, что откажутся от всякой попытки
спасти существующее положение вещей. Спаситель‑архаист попытается восстановить
воображаемое прошлое. Спаситель‑футурист попытается прыгнуть в придуманное
будущее. Спаситель, указывающий путь отрешенности, предстанет в виде философа,
скрывающегося под маской царя. Спаситель, указывающий путь преображения, явится
в образе Бога, воплотившегося в человеке.
2. Спаситель с мечом
Предполагаемый спаситель распадающегося общества неизбежно
будет спасителем с мечом, но этот меч может быть или обнажен, или спрятан в
ножны. Он может наносить удары направо и налево обнаженным оружием или же
сидеть с лезвием, спрятанным в ножнах, в позе победителя, который «положил
врагов своих в подножие ног своих».[285] Он может быть Гераклом или Зевсом, Давидом или
Соломоном. Но хотя Давид или Геракл, которые никогда не знают отдыха от своих
подвигов и умирают в доспехах, быть может, кажутся более романтическими
фигурами, чем Соломон во всей своей славе или Зевс во всем своем величии,
подвиги Геракла и войны Давида были бы бесцельными усилиями, если бы их целью
не были безмятежность Зевса и процветание Соломона. Меч берут в руки, лишь
надеясь использовать его для столь благой цели, что он в конечном счете больше
уже никогда не понадобится. Однако эта надежда – иллюзия. «Все, взявшие меч,
мечом погибнут»{69}, – и этот вердикт Спасителя, провозгласившего
царство не от мира сего, получил печальное подтверждение у одного из наиболее
циничных реалистов среди государственных деятелей XIX столетия, когда, переводя
Евангелие на язык своего времени и места, он заметил, что «штыками можно
сделать всё что угодно; только нельзя на них сидеть».[286] Жестокий человек не может одновременно
искренне раскаиваться в своей жестокости и постоянно извлекать из нее выгоду.
Классическими спасителями с мечом были полководцы и
государи, которые стремились основать (основать заново или же восстановить)
универсальные государства. Хотя переход от «смутного времени» к универсальному
государству приносит с собой такое огромное незамедлительное облегчение, что
удачливым основателям подобных государств часто начинают поклоняться как богам,
и тем не менее, универсальные государства в лучшем случае недолговечны. И если
в результате предпринятого tour de force (рывка) универсальным
государствам все же удается прожить больше отведенного им обычного временного
интервала, то они должны расплачиваться за эту неестественную продолжительность
жизни, вырождаясь в те чудовищные социальные извращения, которые на данном
этапе столь же пагубны, сколь и в «смутное время», предшествовавшее им, или в
между царствие, следующее за их распадом.
Истина, по‑видимому, заключается в том, что меч, однажды
напившись крови, уже больше не может удержаться от того, чтобы не пролить ее
снова, подобно тому как тигр, изведавший человеческого мяса, не может с тех пор
не стать людоедом. Тигр‑людоед, несомненно, обречен на смерть. Если он избежит
пули, то он умрет от чесотки. Однако тигр, если бы даже и мог предвидеть свою
судьбу, вероятно, не смог бы подавить свой гибельный аппетит. Так же обстоят
дела и с обществом, которое однажды стало искать спасения с помощью меча. Его
вожди могут раскаиваться в своей мясницкой работе. Они могут проявлять милость
к своим врагам, подобно Цезарю, или демобилизовать армии, подобно Августу. Они
могут даже с сожалением спрятать свои мечи в полной уверенности, что никогда их
не достанут снова, разве что в несомненно благих и, следовательно, законных
целях сохранения мира от преступников внутри государства или против непокорных
варваров во внешней тьме. Однако хотя их кажущийся светлым Pax Oecumenica
(повсеместный мир) может твердо стоять на грозных основаниях зарытых в землю
клинков в течение одного или двух столетий, время раньше или позже сведет из
усилия на нет.
Может ли величественный, словно Юпитер, правитель
универсального государства успешно сдерживать ту ненасытную страсть к
завоеваниям, которая оказалась гибельной для Кира? А если не может
сопротивляться соблазну debellare superbos[287],
то может ли, по крайней мере, заставить себя действовать по совету Вергилия – parcere
subjectis[288] ,[289]? Когда мы
применяем эту пару критериев к его деяниям, то обнаруживаем, что ему редко
удается долго прожить согласно своим благим намерениям.
Если первым для рассмотрения выбирать конфликт между двумя
альтернативами – политикой экспансии и политикой ненападения – в отношениях
универсального государства с народами, живущими за его границами, то можно
начать с древнекитайского примера. Вряд ли можно было бы найти более
впечатляющее заявление о решимости вложить меч в ножны, чем постройка
императором Ци Шихуанди Великой Китайской стены вдоль границы с Евразийской
степью. Однако его благое намерение воздержаться от того, чтобы тревожить
евразийское осиное гнездо, было расстроено спустя менее столетия после его
смерти «политикой продвижения» его наследника из династии Хань У‑ди. В истории
эллинского универсального государства политика умеренности, проводимая
Августом, была нарушена попыткой Траяна завоевать Парфянское царство. Ценой,
которую пришлось заплатить за временное продвижение от Евфрата к подножию
Загроса и к северному побережью Персидского залива, стало невыносимое напряжение,
которому подверглись ресурсы Римской империи. Для того чтобы избавиться от
ужасающего наследия, оставленного мечом Траяна, потребовались все благоразумие
и ловкость его преемника Адриана. Адриан немедленно возвратил все захваченное
его предшественником имущество. Однако он был способен восстановить л ишь
территориальное, но не политическое status quo ante bellum[290].
В истории Оттоманской империи Мехмед Завоеватель (1459‑1481)
сознательно ограничивал свои амбиции по расширению границ Pax Ottomanica
размерами, совпадавшими с размерами исторических владений православно‑христианского
мира, исключая Россию. Он сопротивлялся всем искушениям вторгнуться в
сопредельные владения западно‑христианского мира и Ирана. Однако его наследник
Селим Грозный (1512‑1520) нарушил планы Мехмеда по сдерживанию своих амбиций в
Азии, а наследник Селима Сулейман (1520‑1566) совершил дальнейшую и еще более
гибельную ошибку, нарушив эти планы и в Европе. В результате с этого времени
Оттоманская держава оказалась меж двух жерновов, ведя постоянные войны на два
фронта против врагов, которых османы неоднократно могли победить на поле битвы,
но никогда не могли вывести из игры. И это упрямство настолько глубоко проникло
в государственную политику Блистательной
Порты, что даже крах, последовавший за смертью Сулеймана, не
произвел какой‑либо долговременной перемены в пользу политики умеренности
Мехмеда. Не успели Кёпрюлю[291] своей искусной государственной политикой
укрепить расточительную мощь Оттоманской империи, как Кара Мустафа[292] растратил ее на новую агрессивную войну против
франков, намереваясь передвинуть оттоманскую границу до Рейна. Хотя он никогда
и не приблизился к своей цели, Кара Мустафа стремился превзойти подвиг
Сулеймана, осадив Вену. Однако и в 1682‑1683 годах, также как в 1529‑м,
дунайский щит западно‑христианского мира оказался слишком твердым орешком для
оттоманской армии. В этом втором случае османы не потерпели поражение под Веной
безнаказанно. Вторая оттоманская осада вызвала западное контрнаступление,
продолжавшееся без значительных остановок с 1683 по 1922 г., пока османы не
лишились всей своей империи и не ограничились снова своими первоначальными
анатолийскими владениями.
Столь безответственно разворошив осиное гнездо западно‑христианского
мира, Кара Мустафа, как и Сулейман до него, совершил классическую ошибку
Ксеркса, когда этот наследник Дария начал агрессивную войну против континентальной
Греции и тем самым спровоцировал эллинское контрнаступление, которое сразу же
отторгло от империи Ахеменидов ее окраину – греческие владения в Азии, а в
конце концов привело к уничтожению самой империи, когда работа, начатая
Фемистоклом Афинским, была закончена Александром Македонским. В истории
индусского мира империя Великих Моголов породила своего Ксеркса в лице
Аурангзеба (1659‑1707), чьи безуспешные попытки утвердить свою власть над
Махараштрой[293] при помощи военной силы вызвали маратхское
контрнаступление, которое в конце концов уничтожило власть наследников
Аурангзеба и в их метрополии на равнинах Индостана.
Можно заметить, что относительно первого из двух наших
критериев способности вложить меч в ножны правители универсальных государств,
действительно, хорошего впечатления не производят. А если мы теперь перейдем от
критерия ненападения на народы, живущие за границами универсального
государства, ко второму критерию терпимости по отношению к народам, живущим
внутри него, то обнаружим, что подобные правители едва ли окажутся лучше и в
этом втором испытании.
Римское имперское правительство, например, вознамерилось с
терпимостью относиться к иудаизму и оставалось верным этому решению вопреки
непрекращающимся серьезным провокациям со стороны евреев. Однако его
терпеливость была несоразмерна гораздо более сложному нравственному подвигу –
его терпимость уже не распространялась на ту иудейскую ересь, которая стала
обращать в свою веру эллинский мир. Элементом, который не могло потерпеть в
христианстве имперское правительство, был отказ христиан принимать претензию
правительства на то, чтобы давать право заставлять своих подданных действовать
против своей совести. Христиане оспаривали право меча, и окончательная победа
духа христианских мучеников над мечом римских правителей подтвердила
высказанные Тертуллианом торжествующе‑дерзкие слова о том, что кровь мучеников
– это семя христианства.
Ахеменидское правительство, подобно римскому, принципиально
взялось управлять в согласии со своими подданными, и подобным же образом ему
удалось лишь недолго просуществовать в соответствии с этой политикой. Ему
удалось завоевать преданность финикийцев и евреев, однако со временем оно
потерпело неудачу, пытаясь снискать доверие египтян и вавилонян. Успехи османов
в попытке расположить к себе райя были не более удачными, несмотря на широкие
возможности культурной и даже гражданской автономии, которая была предоставлена
им в системе millet. Однако серьезный удар по теоретической терпимости
системы нанесло своеволие, с каким применялась эта система на практике. Тот
опасный практический способ, каким райя проявляли свою неверность, как только в
результате ряда оттоманских поражений у них возникала возможность изменить,
побудил наследников Селима Грозного раскаиваться в том, что этого безжалостного
деятеля удержали (если рассказ верен) совместные усилия его великого визиря и
шейх‑уль‑ислама от осуществления планов по истреблению православно‑христианского
большинства его подданных – так же, как он фактически уничтожил имамитское
шиитское меньшинство. Кроме того, в истории империи Великих Моголов в Индии
Аурангзеб отступил от политики терпимости по отношению к индуизму, которую
Акбар завещал своим наследникам как наиважнейшую из arcana imperii[294],
и возмездием за этот отход явилось стремительное падение империи.
Этих примеров будет достаточно, чтобы подкрепить вывод о
том, что попытка «спасителя с мечом» оканчивается неудачей.
3. Спаситель с машиной времени
«Машина времени» – название одного из ранних научно‑фантастических
романов Г. Дж. Уэллса. Концепция времени как четвертого измерения была тогда
уже известна. Герой уэллсовского романа изобретает своего рода машину (а машины
были в то время новшеством), в которой может путешествовать во времени вперед и
назад – по своему желанию. Он использует свое изобретение для того, чтобы
нанести ряд визитов в отдаленные периоды всемирной истории. Из всех, кроме
последнего, он возвращается благополучно, чтобы передать свой рассказ о
путешествии. Уэллсовская сказочная история является иносказанием об
исторических tours de force (рывках) тех спасителей‑архаистов и
футуристов, которые, рассматривая нынешние условия и перспективы своих обществ
как неисправимые, ищут спасения в обращении к идеализированному прошлому или
бросаются в идеализированное будущее. У нас нет необходимости долго
задерживаться на этом зрелище, поскольку мы уже проанализировали и разоблачили
тщетность и разрушительность как архаизма, так и футуризма. Одним словом, эти
«машины времени», задуманные, в отличие от уэллсовских машин не для одиночных
исследователей, но как «омнибусы» (в более точном смысле этого слова, а не в
общераспространенном употреблении) для целых обществ, неизменно терпели
неудачу. Эти неудачи побуждают претендента на роль спасителя бросить свою
«машину времени», взять меч и тем самым осудить себя на разочарование, ожидающее
незамаскированного «спасителя с мечом» – случай, который мы уже рассматривали.
Это трагическое превращение идеалиста в насильника постигает как спасителя‑архаиста,
так и спасителя‑футуриста.
В западном мире в XVIII столетии христианской эры основное
евангелие архаизма было в сжатом виде выражено в предложении, открывающем
трактат Руссо «Об общественном договоре»: «Человек рожден свободным, а между
тем везде он в оковах»{70}. Самым известным учеником Руссо был
Робеспьер, которого все рассматривают как главного инициатора французского
«царства террора» 1793‑1794 гг. Безобидные чудаковатые профессора, которые
проводили весь XIX в. в идеализации примитивной языческой «нордической» расы,
не могут всецело отказываться от ответственности за нацистский террор нашего
времени. Мы уже видели, как мирный представитель архаизирующего движения может
уничтожить свои собственные намерения, приготовив путь для агрессивного и
жестокого наследника, как Тиберий Гракх оказался предвестником своего брата Гая
и таким образом возвестил о столетии революции.
Можно было бы предполагать, что разница между архаизмом и
футуризмом является столь же ясной, сколь и разница между «вчера» и «завтра».
Однако часто бывает трудно решить, в какую категорию следует поместить данное
движение или данного спасителя, поскольку в самой природе архаизма содержится
стремление аннулировать себя, превратившись в футуризм, следуя заблуждению,
будто может быть так, «как было» в истории. Конечно же, ничего подобного быть
не может, поскольку тот простой факт, что вы ушли, а затем вернулись, уже
сделал бы место, на которое вы вернулись, – если бы вы смогли вернуться –
другим местом. Ученики Руссо могли ускорить свою революцию, идеализируя
«состояние природы», восхищаясь «благородным дикарем» и порицая «искусства и
науки», однако сознательные революционеры‑футуристы – например, Кондорсе[295], который
черпал свое вдохновение из учения о «прогрессе», – несомненно, были более
здравомыслящими. Результатом архаического движения всегда будет новая отправная
точка. Во всех подобных движениях архаический элемент является просто оболочкой
по существу футуристической пилюли – неважно, накладывается ли эта оболочка в
простоте душевной «философами‑мечтателями» или же вполне умышленно людьми,
сведущими в пропаганде. Во всяком случае, пилюлю легче проглотить, если она в
оболочке. Для человека незащищенного будущее являет собой все ужасы неизвестности,
в то время как прошлое может представляться давно утраченным уютным домом, из
которого распадающееся общество ушло, заблудившись в пустыне настоящего. Так, в
годы между двумя мировыми войнами британские защитники своеобразного социализма
выступали как архаически мыслящие идеализаторы средневековья и выдвигали свою
программу под названием «гильдейского социализма»[296], намекая на
то, что их требованием является возрождение чего‑то наподобие средневековой
гильдейской системы. Однако мы можем быть уверены, что если бы эта программа
была выполнена, результаты поразили бы любого путешественника, прибывшего на
«машине времени» из западно‑христианского мира XIII столетия.
Очевидно, что спасители‑архаисты и спасители‑футуристы
терпят столь же значительную неудачу в «доставке товаров», сколь и спасители с
мечом. В земных революционных утопиях не в большей степени можно обрести
спасение, чем в универсальных государствах.
4. Философ в маске царя
Еще одно средство спасения, не прибегающее ни к помощи
«машины времени», ни к мечу, было предложено в первом поколении эллинского
«смутного времени» самыми ранними и самыми великими эллинскими адептами
искусства отрешенности.
«Пока в государствах не будут царствовать философы либо так
называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно
философствовать и это не сольется воедино – государственная власть и философия,
и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, –
которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор
государствам не избавиться от зол»{71}.
Предлагая это средство, Платон всячески старается
обезоружить при помощи предупреждения очевидную человеческую критику. Он вводит
свое предложение как парадокс, который, вероятно, провоцирует насмешки со
стороны нефилософов. Однако если платоновское предписание трудно для понимания
непрофессионалов – будь то цари или простые люди, – то для философов оно даже
еще сложнее. Разве не является подлинной целью философии отрешенность от мира?
И разве стремление к индивидуальной отрешенности и социальному спасению не
являются несовместимыми, вплоть до взаимоисключения? Каким образом может
браться за спасение «града погибели» тот, кто на самом деле стремится убежать
из него?
С точки зрения философа, воплощение самопожертвования –
Христос Распятый – есть персонификация безумия. Однако немногие философы имели
смелость открыто признать это убеждение, а еще меньше – действовать согласно
ему. Знатоку искусства отрешенности приходится начинать как человеку,
обремененному обычными человеческими чувствами. Он не может не замечать вокруг
себя страдания, о которых знает его собственное сердце, или же претендовать на
то, что путь спасения, подсказанный его собственным опытом, не окажется в одинаковой
мере ценным и для ближнего, если он только укажет ему его. Но тогда не должен
ли философ затруднить себя, подав руку своему ближнему? Напрасно он будет
искать решения этой моральной дилеммы в индском учении, согласно которому
жалость и любовь – это пороки, или же в учении Плотина, утверждающего, что
«действие есть тень созерцания». Не может он быть довольным, будучи
изобличенным в тех интеллектуальных и нравственных несообразностях, в которых
создателей стоической философии прямо обвинял Плутарх, цитирующий тексты, в
которых Хрисипп[297] осуждает жизнь академического досуга в одном
предложении и рекомендует ее в другом в пределах одного и того же трактата{72}.
Сам Платон постановляет, чтобы знатокам искусства отрешенности не позволялось
всегда наслаждаться и впоследствии тем солнечным светом, к которому они с таким
трудом прокладывали свой путь. С тяжелым чувством он осуждает своих философов
возвратиться обратно в Пещеру, чтобы помочь их несчастным собратьям, которые
все еще сидят, «крепко скованные, пребывая в несчастье и оковах». Глубокое
впечатление производит и тот факт, что этот платоновский приказ покорно
исполняется Эпикуром.
Эллинский философ, чьим идеалом являлось состояние
невозмутимого спокойствия (άταραξία ), был одним‑единственным частным
лицом до Иисуса из Назарета, получившим греческий титул спасителя (σότήρ).
Этот титул обычно был привилегией государей и давался за политические и военные
заслуги. Беспрецедентное отличие, которого удостоился Эпикур, явилось нежданным
следствием добродушной покорности невозмутимого философа непреодолимому зову
сердца. Те пылкие чувства благодарности и восторга, с какими эпикуровское дело
спасения было превознесено в поэзии Лукреция, проясняют, что, по крайней мере,
в данном случае этот титул был не пустой формальностью, но выражением глубокого
и живого чувства, которое должно было передаться латинскому поэту через цепочку
традиции, ведущей от современников Эпикура, знавших его и почитавших еще при жизни.
Парадоксальная история Эпикура показывает тяжесть той ноши,
которую философам приходится взваливать на свои плечи, когда они, пытаясь
выполнять предписания Платона, следуют одной из альтернатив, становясь царями.
Поэтому неудивительно, что другая альтернатива – превращение царей в философы –
оказывается весьма привлекательной для всякого философа с социальным сознанием,
начиная с самого Платона. Не менее трех раз в своей жизни Платон сознательно,
хотя и неохотно, выходил из своего аттического убежища и переплывал море до
Сиракуз в надежде привлечь внимание сицилийского деспота к концепции афинского
философа о долге правителя. Результаты этих усилий составили любопытную, однако
же, мы должны признать, совершенно несущественную главу в эллинской истории. В истории
также было множество монархов, которые проводили свое свободное время,
советуясь с философами. Наиболее известными западному историку примерами
являются так называемые просвещенные деспоты XVIII столетия, забавлявшиеся тем,
что попеременно то баловали, то бранили смешанную компанию французских
философов, начиная с Вольтера. Однако едва ли мы найдем удовлетворительного
спасителя в лице Фридриха II Прусского или российской императрицы Екатерины II.
Существуют также примеры выдающихся правителей, которые
научились подлинной философии от учителей, умерших поколением раньше. Марк
Аврелий заявляет о своем долге по отношению к учителям Рустику и Сексту,
однако, нет никакого сомнения в том, что эти безвестные, нигде более не
упоминающиеся школьные учителя были просто проводниками философии великих
стоиков прошлого, и в частности Панэция[298], который жил
во II в. до н. э., то есть за триста лет до Марка Аврелия. Индский император
Ашока был учеником Будды, умершего за двести лет до его вступления на престол.
Можно было бы настаивать на том, что состояние индского мира при Ашоке и
эллинского при Марке Аврелии подтверждает платоновское заявление о том, что
«общественная жизнь будет наиболее счастливой и гармоничной, когда те, кому
предстоит править, являются последними людьми в обществе тех, кто выбрал их
быть правителями». Однако их достижения погибли вместе с ними. Сам Марк Аврелий
свел на нет все свои философские усилия, выбрав в качестве наследника своего
родного сына и тем самым нарушив установившуюся практику усыновления, которой с
неизменным успехом честно следовали его предшественники в течение почти
столетия. Что касается личной святости Ашоки, то уже в следующем поколении она
не спасла империю Маурьев от разрушения, нанесенного одним ударом узурпатора
Пушьямитры.
Таким образом, философ‑царь оказывается неспособным спасти
своих собратьев от крушения распадающегося общества. Факты говорят сами за
себя. Однако нам придется еще задаться вопросом: а дают ли они сами какое‑то
объяснение? Если мы заглянем немного дальше, то обнаружим, что дают.
В самом деле, объяснение подразумевается в том отрывке из
«Государства», где Платон вводит фигуру правителя, являющегося прирожденным
философом. Выдвинув в качестве предварительного условия то, что где‑то когда‑то,
по крайней мере, хотя бы один философ‑правитель унаследует отцовский трон и
займется переносом своих философских принципов в политическую практику, Платон
стремительно приходит к выводу, что «достаточно появиться одному такому лицу,
имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему
теперь не верят». Выдвинувший этот аргумент затем продолжает объяснять
основания для своего оптимизма. «Ведь если правитель, – продолжает он, – будет
устанавливать законы и обычаи, которые мы разбирали, не исключено, что граждане
охотно станут их выполнять»{73}.
Эти конечные предположения явно представляют собой неотъемлемую
часть платоновской схемы. Однако не менее очевидна их зависимость от
привлечения способности мимесиса. Мы уже замечали, что это обращение к своего
рода социальной муштре является наиболее простым способом привести тех, кто
подвержен ему, к гибели вместо того, чтобы ускорить их приближение к цели.
Поэтому включения любого элемента насилия – психического или физического – в
социальную стратегию философа‑царя было бы достаточно, чтобы объяснить его
неудачу в деле спасения, на осуществление которого он претендует. Если мы
исследуем его стратегию более детально с этой точки зрения, то обнаружим, что
он использует насилия необыкновенно широко. Хотя Платон всячески старается
предоставить правлению философа‑царя то преимущество, что он правит в согласии
со своими подданными, тем не менее, совершенно очевидно, что в неожиданном
личном союзе философа и правителя, являющегося абсолютным монархом, не было бы
никакого смысла, если бы не нужно было держать в готовности (чтобы в случае
необходимости использовать) деспотическую власть физического насилия. Указанный
случай возникает столь же вероятно, сколь очевидно предсказуем.
«Нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру, то
удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе
иссякнет, заставить его поверить силой»{74} *.
В этих вполне здравых и циничных словах Макиавелли
показывает в стратегии философа‑царя одну зловещую черту, которую Платон
осмотрительно оставляет на заднем плане. Если философ‑царь обнаружит, что не
может добиться своего при помощи очарования, то он отбросит свою философию и
возьмется за меч. Даже Марк Аврелий прибегал к этому оружию в борьбе против
христиан. Еще раз мы являемся свидетелями ужасающего зрелища превращения Орфея
в сержанта‑инструктора. Фактически, философ‑царь обречен на поражение,
поскольку он пытается соединить две противоположные природы в одной личности.
Философ уничтожает все свои усилия, вторгаясь в царскую сферу принуждения, в то
время как царь достигает того же самого, вторгаясь в сферу бесстрастного
созерцания философа. Подобно спасителю с «машиной времени», который в своей
чистой форме такой же политический идеалист, философ‑царь вынужден
свидетельствовать о своем поражении, прибегая к оружию, которое разоблачает его
как скрытого «спасителя с мечом».
5. Бог, воплощенный в человеке
Мы рассмотрели три различных варианта явления творческого
гения, рожденного в распадающемся обществе и направляющего все свои силы и
энергию на то, чтобы ответить на вызов социального распада. Мы обнаружили, что
в каждом из случаев предполагаемый путь спасения всегда ведет к катастрофе –
непосредственной или настигающей впоследствии. Какой же вывод мы можем сделать
из этого ряда разочарований? Означают ли они, что всякая попытка спасти
распадающееся общество обречена на провал, если претендент на роль спасителя –
простой человек? Давайте вспомним контекст классического выражения той истины,
которую мы до сих пор подтверждали эмпирически. «Все, взявшие меч, мечом
погибнут», – это слова Спасителя, высказанные в качестве основания для приказа
одному из Его последователей вложить обратно в ножны меч, который этот
ревностный поборник уже извлек и использовал. Иисус из Назарета сначала
заживляет ту рану, которую нанес меч Петра, а затем добровольно отдает Себя на
поругание и муки. Кроме того, мотивом Его отказа взять меч является не какой‑либо
практический расчет на то, что в особых условиях Его сила несравнима с силой
Его противников. Он верит, как впоследствии говорит Своему судье, что если бы
Он действительно взял меч, то мог бы быть уверен в Своей полной победе с
«двенадцатью легионами ангелов». Однако, веря в это, Он отказывается
использовать оружие. Вместо того чтобы победить мечом, Он предпочитает умереть
на Кресте.
Избрав этот путь в решающий час, Иисус порывает с
общепринятой линией действия других спасителей, чье поведение мы уже изучали.
Что вдохновляет Спасителя из Назарета избрать этот новый и страшный путь? Мы
можем ответить на этот вопрос вопросом: а что отличает Его от тех других
спасителей, которые отреклись от своих собственных притязаний, взявшись за меч?
Ответ заключается в том, что те, другие, знали, что они лишь люди, тогда как
Иисус был человеком, верившим, что Он Сын Божий. Не можем ли мы отсюда сделать
вывод вместе с псалмопевцем, что «Господне есть спасение»{75}, и что
возможный спаситель, не будучи в некотором смысле божественным, никогда не
сможет выполнить свою миссию? Теперь оценив и увидев недостаточность тех soi‑disant[299] спасителей, которые были простыми людьми,
обратимся, как к последнему прибежищу, к тем спасителям, которые являются в
качестве богов.
Прохождение торжественным маршем вереницы спасителей‑богов
(с точки зрения оценки их претензий быть тем, кем они себя называют, и делать
то, на что они претендуют), быть может, покажется беспрецедентно самонадеянным
приложением нашего привычного метода эмпирического исследования. Тем не менее,
на практике это не составит трудности. Ибо мы обнаружим, что все, кроме одной
фигуры в нашей веренице, сколько бы они ни претендовали на божественность,
вызывают подозрения в существовании даже в качестве реальных человеческих
личностей. Мы будем двигаться среди теней и абстракций, берклианских мнимостей[300], чье
единственное «esse» (бытие) заключается в «percipi»
(воспринимаемости). Этим «личностям» должен быть вынесен приговор, вынесенный
современными исследователями тому «Ликургу, царю Спарты», которого наши предки
считали такой же несомненной исторической личностью, как и Солона Афинского, –
что он был «не человек, только бог». Тем не менее, приступим. Начнем с нижнего конца
шкалы, с deus ex machina[301],
и попытаемся подняться с этого, возможно, недочеловеческого уровня к
несказанной высоте deus cruci fixus[302].
Если смерть на Кресте является высшим пределом, до которого может дойти
человек, свидетельствующий об истинности своих притязаний на божественность, то
появление на сцене, возможно, наименее трудный способ, каким общепризнанный бог
может действовать в подтверждение своей претензии на роль спасителя.
На аттической сцене в столетие, бывшее свидетелем надлома
эллинской цивилизации, deus ex machina явился настоящей находкой для
растерянных драматургов, которые в уже просвещенный век все еще были вынуждены
по обыкновению черпать свои сюжеты из традиционного корпуса эллинской
мифологии. Если действие пьесы, не достигнув своего естественного конца,
запутывалось в некоем неразрешимом клубке нравственных преступлений или
практически невыполнимых условий, то автор мог вырваться из пут, в которые был
вовлечен из‑за условностей своего искусства, прибегнув к условности совершенно
иного рода. Он мог ввести «бога из машины», спускающегося сверху или
въезжающего на сцену, чтобы осуществить развязку. Этот ремесленный трюк
аттических драматургов производил впечатление скандала на знатоков, ибо решение
человеческих проблем, предложенное этими олимпийскими интервентами, не могло ни
убедить человеческий разум, ни привлечь человеческое сердце. Еврипид в этом
отношении совершал особенно грубые преступления. Поэтому один современный
западный ученый высказал мнение, что Еврипид всегда со скрытой иронией привлекал
deus ex machina. Согласно Верралу, Еврипид‑«рационалист» (как он его
называет) заставил данную традиционную условность служить своим собственным
целям, используя ее как ширму для иронических и богохульных реплик, которые он
едва ли смог бы высказать безнаказанно, если бы попытался сделать это в
открытую. Эта ширма идеальна по своей структуре, поскольку она непроницаема для
враждебных стрел малообразованных противников поэта и в то же время прозрачна
для понимающего взгляда его собратьев‑скептиков.
«Мы не ошибемся, если скажем, что на еврипидовской сцене
все, что бы ни сказало божество, следует рассматривать в общем как
дискредитированное ipso facto[303].
Это во всех случаях неприемлемо с авторской точки зрения, и почти всегда
является ложью. “Показывая богов, он убеждает людей в том, что их не
существует”»[304].
Менее далекими от блеска и нищеты человеческой судьбы и
более достойными восхищения являются полубоги, рожденные смертными женщинами от
сверхчеловеческих отцов, – Геракл, Асклепий, Орфей (упомянем лишь греческие
примеры). Эти полубожественные существа в человеческой плоти стремятся при
помощи своих усилий различными способами облегчить человеческий жребий. В
наказаниях, которые на них налагают ревнивые боги, они разделяют страдания
смертных, которым служат. Полубог – ив этом состоит его слава – в такой же мере
подвержен смерти, в какой и человек, и за фигурой умирающего полубога
вырисовывается гораздо большая фигура самого Бога, который умирает для
различных миров под различными именами – для минойского мира под именем Загрея,
для шумерского – под именем Таммуза, для хеттского – под именем Аттиса, для
скандинавского – под именем Бальдра, для сирийского – под именем Адониса, для
шиитского – под именем Хусейна[305], для
христианского мира – под именем Христа.
Кто же этот бог столь различных воплощений, но только одной
Страсти? Хотя он появляется на нашей земной сцене под дюжиной различных масок,
его подлинное лицо неизменно открывается в последнем акте трагедии – в его
страдании и смерти. Если мы возьмем «рудоискательную лозу» антропологов, то
сможем проследить эту всегда неизменную драму вплоть до ее исторических
истоков. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли»{76}.
Наиболее древнее появление Умирающего Бога – это его роль в качестве «ένιαυτός
δάιμων» («годового божества»), духа растительности, рожденного для человека
весной, чтобы умереть ради человека осенью. Человек извлекает пользу из смерти
бога природы. Он бы погиб, если бы бог природы не умирал ради него постоянно.
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»{77}. Однако внешние
достижения, какими бы впечатляющими и дорогостоящими они ни были, не могут
открыть тайну, лежащую в основе трагедии. Если мы хотим разгадать тайну, то
должны искать ее разгадку за пределами выгоды облагодетельствованного человека
и убытка божественного протагониста. Смерть Бога и выгода человека – далеко не
вся история. Мы не можем знать смысла пьесы, не зная обстоятельств жизни
протагониста, его чувств и мотивов. Погибает ли Умирающий Бог вынужденно или по
своей воле? Великодушно или с горьким чувством? Из любви или от отчаяния? Пока
мы не узнаем ответы на эти вопросы о духе Бога‑спасителя, мы вряд ли сможем
оценить, будет ли это спасение просто выгодным для человека за счет равносильного
убытка Бога или же оно окажется духовной общностью, в которой человек возвратит
долг («подобно свету, отбрасываемому пляшущим пламенем»{78})
Божественной любви и сострадания, которые проявил по отношению к человеку Бог в
акте чистого самопожертвования.
С каким настроением Умирающий Бог идет к смерти? Если,
задавшись этим вопросом, мы обратимся еще раз к нашей веренице трагических
масок, то увидим, что совершенное жертвоприношение отделено от несовершенного.
Даже в прекрасном плаче Каллиопы о смерти Орфея присутствует неприятная нота
горечи, которая режет и раздражает слух христианина.
Что же мы стонем о детях погибших,
коль боги бессильны
От Аида спасти ими рожденных
детей?{79}
Какая мораль вложена в историю Умирающего Бога! Получается,
что богиня, которая была матерью Орфея, никогда бы его не потеряла, если бы
смогла вовремя помочь ему! Подобно облаку, закрывающему солнце, допущение
эллинского поэта омрачает смерть Орфея. Однако ответ на это стихотворение
Антипатра[306] дан в другом величайшем шедевре:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»{80}.
Когда Евангелие таким образом отвечает на элегию, оно
изрекает непреложную истину. «Один остается, когда другие изменяются и уходят»{81}.
И это поистине окончательный результат нашего обзора спасителей. Когда мы
только отправились на поиски, то находились среди громадной толпы, однако по
мере нашего продвижения вперед число идущих все уменьшалось и уменьшалось.
Сначала отпали спасители с мечом, затем архаисты и футуристы, далее философы,
пока в строю не остались одни боги. В окончательном испытании смертью немногие
даже из этих претендовавших на роль спасителей богов отважились подвергнуться
проверке своего титула, бросившись в воды леденящей реки. И теперь, когда мы
стоим и пристально вглядываемся в отдаленный берег, одинокая фигура возникает
из потока и сразу же заполняет весь горизонт. Это Спаситель; «и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством»{82}.
XXI.
Ритм распада
В последней главе мы искали (и нашли) аналогию (которая
включала в себя и неизбежный контраст) между ролью творческих личностей в
растущем и распадающемся обществах. Теперь мы должны продолжить подобную же
линию исследования в другой части нашей темы и поискать аналогию (которая, по‑видимому,
также будет включать в себя контраст) между тем, что можно назвать ритмом
роста, и тем, что можно назвать ритмом распада. Основная формула в каждом
случае одна, и с ней мы уже очень хорошо знакомы, поскольку она сопутствовала
нам во всем нашем «Исследовании». Это формула «вызова‑и‑ответа». В растущей
цивилизации на вызов дается успешный ответ, который продолжает порождать
другой, отличный от первого вызов, на который дается другой успешный ответ.
Этому процессу роста нет предела до тех пор, пока не возникает такой вызов, на
который данной цивилизации ответить не удается. Это трагическое событие
означает прекращение роста и наступление того, что можно назвать надломом.
Здесь начинается соотносительный ритм. Вызов не получил ответа, но, тем не
менее, не перестал существовать. Делается вторая судорожная попытка ответить на
него, и если она удается, то рост, без сомнения, будет продолжен. Однако
допустим, что после частичного и временного успеха этот ответ также оказывается
неудачным. Тогда последует дальнейшее повторение и, возможно, после некоторого
перерыва, дальнейшая попытка ответа, который со временем достигнет временного и
частичного успеха, встретившись с тем же самым неумолимым вызовом. За этим
последует дальнейшая неудача, которая может оказаться (а может не оказаться)
окончательной и повлечь за собой распад общества. На военном языке этот ритм
можно выразить как беспорядочное бегство и оживление борьбы после поражения
(разгром – оживление – разгром – оживление – разгром…).
Если мы вернемся к специальным терминам, введенным ранее в
данном «Исследовании» и постоянно используемым, то сразу же станет ясно, что
«смутное время», следующее за надломом, это разгром, основание универсального
государства – оживление, а междуцарствие, следующее за распадом универсального
государства, – окончательный разгром. Однако мы уже замечали в истории одного
универсального государства, а именно эллинского, возвращение к состоянию
анархии, последовавшему после смерти Марка Аврелия в 180 г., и оживление при
Диоклетиане. Может оказаться так, что в истории какого‑либо отдельного универсального
государства было более одного спада и оживления. Действительно, число подобных
спадов и оживлений может зависеть от мощности той линзы, которую мы применяем к
объекту исследования. Например, в 69 г., в «году четырех императоров», был
короткий, но поразительный спад, однако здесь мы имеем дело лишь с
особенностями, бросающимися в глаза. Мог быть также период частичного оживления
среди «смутного времени». Если мы примем во внимание один‑единственный случай
оживления в «смутное время» и один‑единственный случай спада во время
существования универсального государства, то получим формулу: разгром –
оживление – разгром – оживление – разгром – оживление – разгром, которую можно
описать как ритм в три с половиной «такта». Не существует, конечно же, какого‑то
особого достоинства в количестве три с половиной. Частным случаем распада может
быть ритм в два с половиной, четыре с половиной или пять с половиной тактов,
который в существенных своих чертах будет подчиняться общему ритму процесса
распада. Однако фактически ритм в три с половиной такта, по‑видимому, является
моделью, которой соответствуют истории множества распадающихся обществ, и мы
быстро рассмотрим несколько из них в кратком обзоре при помощи примеров.
Надлом эллинского общества может быть датирован с
необычайной точностью 431 г. до н. э., а основание универсального государства
Августом – 31 г. до н. э., то есть четыреста лет спустя. Можем ли мы различить
движение «разгрома‑оживления» в пределах этих четырех столетий? Несомненно, да.
Одним из признаков является идея «homonoia», или «согласия»,
проповедуемая Тимолеоном в Сиракузах и в более широком масштабе – Александром
Великим во второй половине IV в. до н. э. Другим признаком является концепция
«Космополиса», или мирового сообщества, популяризированная философами Зеноном,
Эпикуром и их учениками. Третий признак – масса экспериментов с государственным
устройством: империя Селевкидов, Ахейская и Этолийская лиги и Римская
республика, каждая из которых являлась попыткой выйти за пределы традиционного
суверенитета города‑государства. Могут быть приведены и другие признаки, однако
этих трех будет вполне достаточно, чтобы подтвердить нашу догадку об оживлении
и приблизительно определить его нахождение во времени. Это было оживление,
которое потерпело неудачу в основном из‑за того, что, хотя новые, расширенные
политические единицы и действительно успешно вышли за ограниченные пределы
индивидуального города‑государства, они оказались так же нетерпимы друг к другу
и столь же несовместимы в своих взаимоотношениях, как и сами города‑государства
Греции, когда они открыли период эллинского надлома с началом Афино‑Пелопоннесской
войны. Этот второй спад или (что то же самое) неудачу первого оживления мы
можем датировать началом войны с Ганнибалом в 218 г. до н. э. Мы уже определили
место продолжавшегося столетие спада, за которым последовало оживление в ходе
истории Римской империи. Это как раз и дает нам наши три с половиной такта.
Если мы обратимся теперь к распаду древнекитайского
общества, то отождествим момент надлома с гибельным столкновением двух держав –
Цзинь и Чу в 634 г. до н. э., а момент основания универсального государства
древнекитайского Pax Oecumenica – с низложением в 221 г. до н. э.
династии Ци династией Цинь. Если это две крайние даты древнекитайского
«смутного времени», существуют ли какие‑либо признаки движения «оживления‑и‑спада»
в промежуточный период? Ответ может быть утвердительным, поскольку в
древнекитайском «смутном времени» наблюдается заметное оживление приблизительно
во времена Конфуция (ок. 551‑479 гг. до н. э.), начавшееся с конференции по
разоружению 546 г. до н. э., в конечно счете оказавшейся безуспешной. Далее,
если мы взглянем на историю древнекитайского универсального государства, то
обнаружим известный спад и оживление в период междуцарствия начала I в.
христианской эры – между временем правления династий Старшей и Младшей Хань.
Снова мы обнаруживаем наш ритм в три с половиной такта, причем в
древнекитайской истории даты соответствующих событий приходятся примерно на два
с половиной столетия раньше, чем в эллинской.
В шумерской истории мы зарегистрируем те же самые показания.
В ходе шумерского «смутного времени» такт «оживления‑и‑спада» отчетливо ощутим,
тогда как период жизни шумерского универсального государства перемежается противоположным
тактом «спада‑и‑оживления», который необыкновенно подчеркнут. Если мы датируем
начало «смутного времени» деятельностью милитариста Лугальзагеси из Урука (ок.
2677‑2653 гг. до н. э.), а за его конец примем основание шумерского
универсального государства Ур‑Енгуром из Ура (ок. 2298‑2281 гг. до н. э.), то,
по крайней мере, один признак промежуточного оживления можно обнаружить в
замечательном достижении визуального искусства, которое было создано ко времени
Нарамсина (ок. 2572‑2517 гг. до н. э.).[307] Период существования Pax Sumerica
простирается с вступления на престол Ур‑Енгура до смерти Хаммурапи (ок. 1905 г.
до н. э.). Однако этот мир оказывается на поверку тонкой оболочкой, скрывающей
под собой вздымающуюся волну анархии. Через столетие после вступления на
престол Ур‑Енгура его «царство четырех стран света» распалось на части, и в
таком виде оставалось в течение более двухсот лет, пока Хаммурапи не
восстановил это универсальное государство накануне его окончательного распада.
Знакомая нам модель появляется и в истории распада основного
ствола православного христианства. Мы уже отождествили время надлома этой
цивилизации с началом великой Византийско‑болгарской войны 977‑1019 гг.
Окончательное же возобновление Pax Oecumenica можно датировать началом
оттоманского завоевания Македонии в 1371‑1372 гг. В пределах двух этих дат
православно‑христианского «смутного времени» можно различить период оживления,
начатый восточно‑римским императором Алексеем Комнином (1081‑1118)[308] и продолжавшийся столетие. Последующий Pax
Ottomanica в конце концов развалился в результате удара, нанесенного
поражением в Русско‑турецкой войне 1768‑1774 годов[309]. Однако хотя
это крушение отмечало решительный надлом оттоманского режима, оттоманские
анналы содержат в себе ясные указания на еще более ранний спад, за которым
последовало оживление. Спад можно различить в стремительном упадке института
рабов‑домочадцев падишаха после смерти Сулеймана Великолепного в 1566 г. Об
оживлении же возвещает последующий эксперимент по привлечению православно‑христианского
райя к сотрудничеству с мусульманскими подданными (которые теперь
завладели браздами правления), не настаивая на том, чтобы райя
становились отступниками от своей веры, получая доступ к управлению
государством. Это революционное новшество, которое явилось делом визирей
Кёпрюлю, дало Оттоманской империи время для передышки, о котором османы позднее
с тоской вспоминали как о «периоде тюльпанов».
В истории распада индусского общества финальный полутакт еще
не наступил, поскольку вторичное установление индусского универсального
государства, предпринятое Британской империей, полностью еще не закончено. С
другой стороны, три предшествующих такта «спада‑и‑оживления» уже прозвучали.
Третий спад представлен столетием анархии между крушением империи Великих
Моголов и установлением ее британской преемницы. Оживление второго такта столь
же ясно представлено в основании империи Великих Моголов в царствование Акбара
(1566‑1602). Предшествующий спад не столь ясен, но если мы всмотримся в историю
индусского «смутного времени», начавшегося во второй половине XII столетия
христианской эры с братоубийственной войны между индусскими местными
государствами, то мы заметим между бедствиями, которые были вызваны индусскими
правителями и мусульманскими завоевателями в XII‑XIII вв., и бедствиями,
которые были вызваны роями позднейших мусульманских завоевателей, включая предков
самого Акбара, в XV‑XVI вв., некоторые признаки временного облегчения в XIV
столетии, отмеченные правлениями Ала уд‑дина и Фироз‑шаха.[310]
Мы могли бы подвергнуть распады других наших цивилизаций
подобному же анализу во всех тех случаях, когда у нас имеется достаточно
данных, чтобы такое исследование было бы вознаграждено. В некоторых случаях мы
обнаружили бы, что полного количества тактов не хватает просто из‑за того, что
данная цивилизация была живьем поглощена одой из ее соседок еще до того, как
умерла сама естественной смертью. Тем не менее, мы привели уже достаточно
доказательств существования распада, чтобы приложить эту ритмическую модель к
истории западной цивилизации. Быть может, это прольет хоть какой‑то свет на
вопрос, который мы задавали уже несколько раз и на который еще ни разу не
давали ответа. Это вопрос о том, подверглась ли западная цивилизация надлому, а
если да, то какой стадии она достигла в процессе своего распада.
Ясно одно: учреждения универсального государства мы еще не
испытывали, несмотря на две безнадежные попытки навязать его нам, предпринятые
немцами в первой половине нашего столетия, и одинаково безнадежную попытку,
предпринятую наполеоновской Францией столетием раньше. Равно очевиден и другой
факт: в нас существует глубокое и искреннее стремление к основанию не
универсального государства, но некоторой формы мирового порядка, возможно,
похожего на ту «homonoia», или «согласие», которую тщетно проповедовали
отдельные государственные деятели и философы в период эллинского «смутного
времени». Эта форма должна была обладать всеми положительными сторонами
универсального государства и быть лишена всех его отрицательных сторон. Беда
универсального государства заключается в том, что оно – результат успешного
нокаутирующего удара, нанесенного одним‑единственным оставшимся в живых членом
группы борющихся между собою военных‑держав. Оно – продукт того «спасения
мечом», которое, как мы видели, вовсе спасением не является. То, к чему
стремимся мы, – это добровольное согласие свободных народов жить вместе в
союзе, без принуждения согласовывать свои действия друг с другом и делать
далеко идущие уступки, без чего данный идеал не может быть осуществлен на
практике. Нет никакой необходимости распространяться далее на эту тему, которая
является общим местом не одной тысячи современных исследований. Тот
поразительный авторитет, которым американский президент Вильсон пользовался в
Европе (хотя и не в собственной стране) в течение немногих кратких месяцев,
предшествовавших прекращению военных действий в ноябре 1918 г. и последовавших
за ним, был мерилом устремлений нашего мира. К президенту Вильсону обращались
по большей части в прозе. Наиболее известными дошедшими до нас благодарственными
подношениями Августу были стихи Вергилия и Горация. Однако выражался ли он в
прозе или в стихах, дух, воодушевлявший эти излияния веры, надежды и
благодарности, был, несомненно, тот же самый. Тем не менее, результат был
совершенно иной. Августу удалось создать для своего мира универсальное
государство. Вильсону не удалось создать нечто лучшее.
Этот низкий человек продолжает
добавлять одно к одному
И вскоре достигает сотни.
Этот возвышенный человек, стремясь
к миллиону,
Теряет единство{83}.
Эти соображения и сравнения наводят на мысль, что мы уже
достаточно далеко продвинулись в своем «смутном времени». Если мы зададимся
вопросом, что было самой заметной и характерной «смутой» последнего времени, то
ответ будет очевиден. Это националистическая междоусобная война, усиленная, как
указывалось ранее в данном «Исследовании», объединенной «атакой» энергий,
порожденных недавно высвободившимися силами «демократии» и «индустриализма». Мы
можем датировать начало этой катастрофы вспышкой французских революционных войн
в конце XVIII столетия. Однако когда мы рассматривали эту тему ранее, то
столкнулись с тем фактом, что в современной главе западной истории данная
вспышка ожесточенных военных действий была не первой, а второй вспышкой такого
рода. Более ранняя вспышка представлена так называемыми Религиозными войнами,
опустошавшими западно‑христианский мир с середины XVI до середины XVII
столетия. Мы находим, что между двумя этими вспышками ожесточенных военных
действий имеет место столетие, в которое война была сравнительно легкой
болезнью, «забавой королей», не обостренной ни фанатизмом религиозных
сектантов, ни фанатизмом демократическо‑национальных настроений. Таким образом,
в западной истории мы также находим то, что признали в качестве типичной модели
«смутного времени»: надлом, оживление и вторичный спад.
Мы можем разгадать, почему оживление XVIII столетия в ходе
западного «смутного времени» было неудавшимся и мимолетным. Это произошло в
силу того, что терпимость, достигнутая «Просвещением», была терпимостью,
основанной не на христианских добродетелях веры, надежды и милосердия, но на
мефистофелевских болезнях разочарования, рассудочности и цинизма. Она была не
трудным достижением религиозного пыла, но легким побочным продуктом его спада.
Можем ли мы предсказать результат второй и еще более
ожесточенной вспышки военных действий, в которую западный мир оказался
ввязанным в результате духовной несостоятельности Просвещения XVIII столетия?
Если мы попытаемся взглянуть в наше будущее, то мы можем начать с напоминания о
том, что хотя все другие цивилизации, история которых известна нам, или уже
умерли, или умирают, цивилизация – это не нечто вроде живого организма,
осужденного безжалостной судьбой на смерть после пересечения предопределенной
жизненной кривой. Даже если фактически оказывалось, что все другие цивилизации,
возникавшие до сих пор, следовали этому пути, нет никакого известного нам
закона исторического детерминизма, который бы нас заставил прыгнуть с
раскаленной сковороды нашего «смутного времени» в медленный и неизменный огонь
универсального государства, где со временем мы бы превратились в прах и пепел.
В то же время подобные прецеденты в истории других цивилизаций и в жизни
природы непременно покажутся угрожающими в зловещем свете нашей нынешней ситуации.
Сама эта глава была написана накануне начала мировой войны 1939‑1945 гг. для
читателей, которые уже пережили мировую войну 1914‑1918 гг. Однако она была
переделана для публикации по окончании второй из этих двух мировых войн в
течение одной жизни по причине изобретения и применения бомбы, в которой
недавно открытое высвобождение атомной энергии было направлено человеком на
уничтожение человеческих жизней и трудов в беспрецедентном масштабе. Эта
стремительная последовательность катастрофических событий на крутом подъеме
неизбежно вызывает мрачные сомнения относительно нашего будущего, и эти
сомнения угрожают подорвать нашу веру и надежду в критический одиннадцатый час,
который требует крайнего напряжения сохранившихся духовных способностей. Здесь
мы стоим перед вызовом, которого нельзя избежать, и наша судьба зависит от
нашего ответа.
«Я спал и видел во сне человека, одетого в лохмотья и
стоящего в некоем месте. Он отвернулся от своего дома, в его руках была книга,
а на спине тяжелая ноша. Я посмотрел и увидел, что он открывает книгу и читает
в ней; и прочитав, он заплакал и задрожал. Не в состоянии более сдерживаться,
он разразился горестным плачем: “Что я буду делать?”»
«Христианин» Беньяна[311] страдает столь сильно совсем не без причины.
«Я подлинно знаю, [говорит он], что этот наш город будет
спален огнем с Небес – ив этой ужасной гибели и я, и моя жена, и мои милые
малютки найдем жалкую смерть, если не будет найден какой‑либо путь спасения
(которого я не вижу), благодаря которому мы могли бы освободиться».
Какой ответ на этот вызов собирается дать христианин?
Собирается ли он искать тот путь, по которому он мог бы бежать, и, однако, все
еще стоит, поскольку не знает, каким путем идти? Или он начнет убегать –
убегать с криком «Жизнь! Жизнь! Вечная жизнь!», – устремив глаза к солнечному свету,
а стопы направив к отдаленным воротам? Если бы ответ на этот вопрос не зависел
бы ни от кого иного, кроме как от самого христианина, то наши познания об
однородности человеческой природы могли бы привести нас к предсказанию о том,
что неизбежной судьбой христианина станет смерть в «граде погибели». Однако в
классической версии мифа говорится о том, что человеческий протагонист не был
брошен совершенно один в решительный для него час. Согласно Джону Беньяну,
христианин был спасен благодаря своей встрече с Евангелистом. А так как нельзя
предположить, чтобы природа Бога была менее постоянной, чем человеческая, то мы
можем и должны молиться, чтобы Бог не отказал нам в той отсрочке, которую Он
некогда предоставил нашему обществу, если мы будем просить о ней снова со
смиренным духом и сокрушенным сердцем.
XXII.
Стандартизация в процессе распада
Мы подошли к завершению нашего исследования, посвященного
процессу распадов цивилизаций, но прежде чем оставить эту тему, надо
рассмотреть еще один вопрос. Мы должны задаться вопросом: а можем ли мы,
оглянувшись на проделанный нами путь, различить какую‑либо преобладающую
тенденцию, которая здесь действует? И действительно, мы фактически безошибочно
обнаруживаем тенденцию к стандартизации и единообразию – тенденцию, которая
коррелятивна и противоположна тенденции к дифференциации и разнообразию,
которая, по нашим наблюдениям, является признаком стадии роста цивилизаций. Мы
недавно отметили, на поверхностном уровне, тенденцию к единообразию трех с
половиной тактов в ритме распада. Еще более значительным признаком единообразия
является неизменный раскол распадающегося общества на три резко обособленных
класса, а также однообразные произведения творческой деятельности каждого из
них. Мы видели правящее меньшинство, неизменно вырабатывающее философии и
порождающее универсальные государства; внутренний пролетариат, неизменно
открывающий «высшие религии», которые стремятся воплотиться во вселенских
церквях; и внешний пролетариат, неизменно собирающий военные отряды, которые находят
выход в «героические века». Однообразие, с каким производятся на свет эти
различные институты, действительно заходит так далеко, что мы можем представить
этот аспект процесса распада в виде таблицы, которая помещена в конце данной
главы. Еще более замечательным является однообразие форм поведения,
чувствования и жизни, которое было обнаружено исследованием «раскола в душе».
Эта противоположность между разнообразием периода роста и
однообразием периода распада является вполне закономерной, как мы можем
убедиться, рассмотрев простые аналогии вроде притчи о ткани Пенелопы. Когда
верная жена отлучившегося Одиссея обещала своим назойливым поклонникам, что
отдаст свою руку одному из них, как только закончит ткать саван для старого
Лаэрта, она ткала его на ткацком станке все дневное время, а затем по ночам
распускала всю сделанную за день работу. Когда ткачиха устанавливает основу и
начинает ткать из нее каждое утро ткань, она имеет в распоряжении безграничный
выбор моделей и могла бы, если бы захотела, ткать различную модель хоть каждый
день. Однако ее ночная работа была скучной и однообразной, ибо когда она
начинала распутывать ткань, модель была безразлична. Как бы ни был сложен набор
движений, используемых днем, ночная задача не могла состоять ни в чем ином, как
в простом движении по вытаскиванию нитей.
Из‑за этой неизбежной монотонности ее ночной работы
Пенелопу, несомненно, можно только пожалеть. Если бы тупость этой работы вела в
никуда, то рутина была бы невыносимой. Ее вдохновляла песнь ее души: «С ним я
вновь соединюсь». Она жила и работала в надежде, и в этой надежде она не
разочаровалась. Герой вернулся, чтобы обрести ее еще своей, и «Одиссея»
заканчивается их воссоединением.
Если оказывается, что даже Пенелопа не распускает свои нити
напрасно, то что же можно сказать о еще более могущественном ткаче,
произведение которого мы исследуем и песня которого находит человеческое
выражение в стихах Гете?
Я в буре деяний, в житейских
волнах,
В огне, в воде,
Всегда, везде,
В извечной смене
Смертей и рождений.
Я – океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку божеству{84}.
Произведение Духа Земли, ткущего и распускающего нити на
ткацком станке времени, есть временная история человека, как она проявляется в
возникновении, росте, надломах и распадах человеческих обществ. Во всей этой
неразберихе жизни и буре деятельности мы можем услышать звучание основного
ритма, вариации которого мы научились отличать как вызов‑и‑ответ, уход‑и‑возврат,
спад‑и‑оживление, усыновление‑и‑аффилиация, раскол‑и‑палингенез. Этот основной
ритм – перемежающийся ритм Инь и Ян. Вслушиваясь в него, мы узнали, что хотя в
ответ на строфу может последовать антистрофа, на победу – поражение, на
создание – уничтожение, на рождение – смерть, движение, которое отбивает этот
ритм, не является ни колебанием неокончательного сражения, ни циклом
однообразного механического труда. Постоянное вращение колеса не является
пустым повторением, если при каждом повороте оно перемещает вперед телегу,
приближая ее к цели. Если палингенез означает рождение чего‑то нового, а не
просто возрождение чего‑то, что жило и умерло прежде, то тогда Колесо
Существования – не просто адская машина для нанесения непрекращающихся мучений
осужденному Иксиону. С этой точки зрения, музыка, которую отбивает ритм Инь и
Ян, есть песнь творчества. Мы не будем введены в заблуждение ложными фантазиями,
поскольку раз у нас есть уши, то мы сможем уловить ноту творчества,
перемежающуюся с нотой разрушения. Далеко не признавая песнь существования
дьявольской подделкой, двойственность ноты является гарантией достоверности.
Если мы слышим хорошо, то ощутим, что когда две ноты сталкиваются, то они
производят не диссонанс, но гармоничное звучание. Творение не было бы
созидательным, если бы не поглощало собой все вещи, включая свою собственную
противоположность.
Но что же та живая одежда, которую ткет Дух Земли? Возносится
ли она на небеса также быстро, как и ткется, или же мы можем здесь, на земле,
хотя бы мельком увидеть, по крайней мере, обрывки ее бесплотной ткани? Что мы
можем думать о тех тканях, которые лежат у подножия ткацкого станка, когда ткач
занят распутыванием? В процессе распада цивилизации мы можем обнаружить, что,
хотя пышное зрелище может быть иллюзорным, оно не исчезает, не оставив после
себя разорения. Когда цивилизации входят в процесс распада, они обычно
оставляют после себя отложения в виде универсальных государств, вселенских
церквей и варварских военных отрядов. Что мы можем сделать из этих предметов?
Являются ли они просто отходами производства или же эти обрезки окажутся, если
мы их соберем, новыми шедеврами ткацкого искусства, которое ткач выткал
незаметно своими ловкими руками при помощи орудия еще более бесплотного, чем
тот шумный станок, который занимает все его внимание видимым образом?
Если, задавшись этим новым вопросом, мы мысленно обратимся
назад, к результатам наших предыдущих исследований, то найдем причину полагать,
что эти объекты исследования – нечто большее, чем побочные продукты процесса
социального распада. Мы столкнулись с ними впервые как с признаками усыновления‑и‑аффилиации,
а это – отношение между одной цивилизацией и другой. Очевидно, что три этих
института нельзя полностью объяснить на основе истории любой отдельно взятой
цивилизации. Их существование предполагает отношение между одной цивилизацией и
другой, и по этой причине они требуют исследования в качестве самостоятельных
объектов. Однако как далеко заходит их самостоятельность? Рассматривая вопрос
об универсальных государствах, мы уже обнаружили, что мир, который они
приносят, в такой же мере эфемерен, в какой внушителен. С другой стороны,
рассматривая вопрос о варварских военных отрядах, мы обнаружили, что эти
личинки в трупе умершей цивилизации не могут надеяться прожить дольше, чем
потребуется разлагающемуся телу для разложения на чистые элементы. Однако, хотя
военные отряды, быть может, и осуждены на преждевременную смерть Ахилла,
кратковременная жизнь варваров, по крайней мере, оставляет после себя эхо в
эпической поэзии, напоминающей о героическом веке. А какова судьба вселенской
церкви, в которой каждая высшая религия стремится воплотиться?
Мы увидим, что в данный момент мы не в состоянии ответить на
этот новый вопрос экспромтом. Ясно и то, что мы не можем позволить себе
проигнорировать его, ибо вопрос этот содержит в себе ключ к пониманию
произведения ткача. Наше «Исследование» еще не закончено. Однако мы подошли к
краю последнего из наших полей исследования.
* * *
Примечание редактора. Первые четыре из представленных ниже таблиц
воспроизведены так, как они помещены в оригинальном произведении г‑на Тойнби.
Они представляют собой конспект громадных трудов, произведенных по исследованию
процесса социального распада. Пятая таблица перепечатана из журнала «Теология
сегодня» (том I от 3 ноября), с любезного разрешения редактора д‑ра Джона Э.
Макея и д‑ра Эдварда Д. Майерса, которым эта таблица была составлена для иллюстрации
его статьи в этом номере «Некоторые ведущие идеи “Исследования истории”
Тойнби». Таблица д‑ра Майерса представляет собой взгляд с высоты птичьего
полета на все поле первых шести томов господина Тойнби.
Читатель данного сокращенного издания найдет в этих таблицах
множество имен и фактов, с которыми он здесь не встречался. Причиной этого,
конечно же, является то, что редактор этой сокращенной версии, естественно и
неизбежно, был вынужден отбрасывать большое количество исторических
иллюстраций, содержащихся в оригинальном произведении, и сокращать множество
деталей в других иллюстрациях, которые могли быть сохранены лишь ценой
подобного сокращения. Поэтому таблицы служат здесь не только своей собственной
цели, резюмируя некоторые результаты авторского исследования, но также и
побочной цели, напоминая читателю этого сокращенного варианта о том, как много
он теряет, избирая более легкий путь и следуя укороченным курсом.
VI.
Универсальные
государства
XXIII.
Цели или средства?
Отправным пунктом этой книги был поиск полей исторического
исследования, которые были бы умопостигаемыми сами по себе, в пределах
собственных пространственных и временных границ, безотносительно к внешним
историческим событиям. Поиск этих самодостаточных единиц привел нас к обществам
того вида, который мы назвали цивилизациями. До сих пор мы продолжали работать,
исходя из предположения, что сравнительное изучение возникновения, роста,
надломов и распадов двадцати одной цивилизации, которые нам удалось установить,
будет включать в себя все самое значительное в истории человечества с того
времени, когда первые цивилизации возникли из примитивных обществ. Однако время
от времени мы натыкались на знаки того, что эта наша первая отмычка не сможет отпереть
все двери, через которые мы должны пройти, чтобы достичь цели нашего мысленного
путешествия.
Почти с самого начала, идентифицируя известные нам из
существовавших цивилизаций, мы обнаружили, что отношения между некоторыми из
них можно назвать «сыновне‑отеческими». Мы обнаружили также, что данные об этом
отношении являются определенными характерными социальными продуктами правящего
меньшинства, внутреннего пролетариата и внешнего пролетариата, на которые
«отеческое» общество разделяется в ходе своего распада. Оказалось, что правящее
меньшинство создает философские системы, которые время от времени вдохновляют
на создание универсальных государств. Внутренний пролетариат создает высшие
религии, которые стремятся воплотиться во вселенских церквях. Внешний же
пролетариат порождают героические века, которые являются трагедией варварских
военных отрядов. В совокупности эти опыты и институты явным образом составляют
связь между «отеческой» и «аффилированной» цивилизацией.
Кроме того, эта связь во времени между двумя современными
цивилизациями не является единственным родом отношений между цивилизациями,
которое выявляет сравнительное исследование универсальных государств,
вселенских церквей и героических веков. Эти части, на которые после надлома
распадаются цивилизации, могут свободно входить в социальные и культурные
объединения с чуждыми элементами, происходящими из других современных
цивилизаций. Некоторые универсальные государства явились созданиями чуждых
строителей империй. Некоторые высшие религии вдохновлялись чуждым вдохновением,
а некоторые варварские военные отряды впитали в себя примесь чуждой культуры.
Универсальные государства, вселенские церкви и героические
века, таким образом, связаны как с современными, так и с несовременными
цивилизациями. Это поднимает вопрос о том, оправдано ли наше отношение к ним
как к просто побочным продуктам процесса распада какой‑то одной цивилизации. Не
должны ли мы теперь попытаться исследовать их на основании их собственных
достоинств? До тех пор, пока мы не рассмотрели претензию институтов каждого из
трех родов на то, чтобы быть умопостигаемым полем исследования самому по себе,
и пока мы также не рассмотрели альтернативную возможность, что они могут быть
частями какого‑то большего целого, вбирающего в себя не только эти части, но и
цивилизации, мы не могли быть уверены, что поднялись в своем видении всей
человеческой истории над примитивным уровнем. Таким образом, предметом
дальнейшего изыскания стала задача, которую мы поставили перед собой в конце
части V данного «Исследования». Теперь мы попытаемся выполнить эту задачу в
частях VI, VII и VIII.
Сейчас мы займемся универсальными государствами и можем
начать с вопроса: являются ли они целями или средствами к достижению чего‑то,
находящегося за их пределами? Наилучшим подходом к этому вопросу было бы
припомнить о некоторых наиболее заметных чертах универсальных государств,
которые мы уже обнаружили. Во‑первых, универсальные государства возникают не
до, а после надломов цивилизаций, социальным системам которых они приносят
политическое единство. Это не лето, но «бабье лето», скрывающее осень и
предвещающее зиму. Во‑вторых, универсальные государства являются продуктами
правящих меньшинств, то есть тех меньшинств, которые некогда обладали
творческой силой, но затем утратили ее. Эта негативная черта является
отличительным признаком их авторства, а также необходимым условием их
установления и сохранения. Однако это еще не вся картина. Кроме того, что
универсальные государства сопровождают социальный надлом и являются продуктами правящих
меньшинств, они обнаруживают третью яркую черту. Универсальные государства –
выражение оживления, и притом оживления чрезвычайно заметного, в процессе
распада, который проходит в последовательных пульсациях спада‑и‑оживления, за
которым следует новый спад. Именно эта последняя черта поражает воображение и
вызывает благодарность поколения, ставшего свидетелем того, как успешное
установление универсального государства положило конец «смутному времени»,
которое ранее росло от следующих друг за другом неудачных попыток до их полного
прекращения.
Взятые вместе, две эти черты представляют собой картину
универсальных государств, которая на первый взгляд выглядит двусмысленно. Они
являются признаками социального распада, однако в то же самое время
представляют собой попытку приостановить этот распад и воспрепятствовать ему.
Упорство, с каким однажды основанные универсальные государства цепляются за
жизнь, является их наиболее выдающейся чертой. Однако не следует его принимать
за подлинную жизненность. Это, скорее, упрямое долгожительство старика,
отказывающегося умирать. Фактически, универсальные государства демонстрируют
устойчивое стремление вести себя так, как если бы они были целями сами по себе,
когда в действительности представляют собой лишь фазу в процессе социального
распада, и как если бы они имели какое‑то значение помимо того, которое они
могут иметь, будучи средствами к достижению некоей цели, находящейся вне их.
XXIV.
Мираж бессмертия
Если мы взглянем на эти универсальные государства не как
чуждые наблюдатели, но глазами их собственных граждан, то обнаружим, что
граждане не только желают, чтобы это земное сообщество было вечным, но и
действительно верят, что бессмертие этих человеческих институтов гарантировано.
И это иногда вопреки всем современным событиям, которые для наблюдателя,
находящегося на иной точке зрения во времени или пространстве, бесспорно,
говорят о том, что данное отдельное универсальное государство находится в этот
самый момент в состоянии предсмертной агонии. Почему же, мог бы справедливо
спросить такой наблюдатель, несмотря на очевидные факты, граждане
универсального государства склонны рассматривать его не как убежище на ночь в
пустыне, но как землю обетованную, цель человеческих стремлений? Однако ему
могли бы ответить, что это чувство ограничивается лишь гражданами универсальных
государств, установленных туземными строителями империй. Например, ни один
индиец не желал и не предсказывал бессмертие Британской империи.
В истории Римской империи, которая была универсальным
государством эллинской цивилизации, мы находим, как поколение, ставшее
свидетелем установления Pax Augusta, утверждало, явно искренне веря в
это, что Империя и Город, который ее основал, наделены общим бессмертием.
Тибулл (около 54‑18 гг. до н. э.)[312] воспевает «стены вечного города», а Вергилий
(70‑19 гг. до н. э.) вкладывает в уста своего Юпитера, говорящего о будущем
римском потомстве Энеева рода, следующие слова: «Я дам им владычество без
конца». Тит Ливии пишет с такой же уверенностью о «Городе, основанном навеки».
Гораций, каким бы скептиком он ни был, претендуя на бессмертие своих «Од», в
качестве меры их вечности приводит повторяющийся годовой круг религиозных
ритуалов в римском городе‑государстве[313]. «Оды» до сих
пор живут на устах людей. Как долго продлится их «бессмертие», сказать нельзя,
ибо количество тех, кто мог цитировать их, в последнее время печальным образом
сократилось по причине перемен в манере образования. Однако, по крайней мере,
они в четыре или пять раз пережили римский языческий ритуал. Спустя более
четырех столетий после эпохи Горация и Вергилия, после того, как разграбление
Рима Аларихом уже известило о его конце, мы находим, что галльский поэт Рутилий
Намациан[314] все еще дерзко утверждает бессмертие Рима, а
блаженный Иероним[315], находившийся
в ученом уединении в Иерусалиме, прерывает свои теологические труды, чтобы
выразить печаль и изумление на языке, почти идентичном языку Рутилия. Языческий
чиновник и христианский отец Церкви объединились в своей эмоциональной реакции
на событие, которое, как мы теперь видим, было неизбежно уже на протяжении
нескольких поколений.
Потрясение, которое вызвало падение Рима в 410 г. у граждан
недолговечного универсального государства, ошибочно принятого за вечное
обиталище, сравнимо с потрясением, испытанным подданными Арабского халифата,
когда Багдад пал под ударами монголов в 1258 г. В римском мире потрясение дало
о себе знать от Палестины до Галлии, в арабском мире – от Ферганы до Андалузии.
Сила психологического воздействия в арабском случае оказалась даже еще более
значительной, чем в римском, поскольку ко времени, когда Хулагу нанес
Аббасидскому халифату coup de grace (смертельный удар), его владычество над
большей частью огромных владений, номинально подвластных ему, было
недействительно в течение уже трех или четырех столетий. Этот ореол иллюзорного
бессмертия, который существовал вокруг умирающих универсальных государств,
часто убеждал наиболее благоразумных варварских вождей, даже когда они делили
владения этих государств между собой, признавать одинаково иллюзорную
зависимость от них. Вожди остготов‑ариан из династии Амалунгов[316] и вожди дайламитов‑шиитов из династии Буидов[317] для управления завоеванными ими территориями
добивались официального титула наместников соответственно императора
константинопольского и халифа багдадского. И хотя этот тактичный подход к
дряхлому универсальному государству не помог ни в том, ни в другом случае
предотвратить гибель, на которую обрекли себя эти военные отряды, старавшиеся
придерживаться своих особых ересей, тот же самый политический маневр увенчался
блестящим успехом, когда был предпринят их собратьями‑варварами. Последние
обладали большей проницательностью или же большей удачливостью, сумев сохранить
в то же время непогрешимость в исповедании своей религиозной веры. Например,
Хлодвиг Франкский[318], самый
удачливый из всех основателей варварских государств‑наследников Римской
империи, завершил свое обращение в православие, получив от императора Анастасия[319] из отдаленного Константинополя титул
проконсула вместе с консульскими знаками отличия. Его успех подтверждается тем
фактом, что в последующие века не менее восемнадцати королей Людовиков,
правивших в завоеванной им стране, носили его имя в видоизмененном варианте.
Оттоманская империя, которая явилась, как мы видели ранее в
нашем «Исследовании», универсальным государством византийской цивилизации,
проявляет те же самые характерные черты иллюзорного бессмертия ко времени,
когда она уже стала «больным человеком Европы»[320]. Амбициозные
военачальники, создававшие для себя в результате упорного труда государства‑наследники,
– Али‑пашаЯнинский[321] в Албании, Мухаммед Али в Египте и Пасван‑Оглу
Виддинский[322] на северо‑западе Румелии – старательно
исполняли во имя падишаха все, что было в ущерб их собственным частным
интересам. Когда западные державы последовали по их стопам, то они переняли те
же самые фантазии. Например, Великобритания управляла Кипром с 1878, а Египтом
с 1882 года от имени султана константинопольского, пока не оказалась в
состоянии войны с Турцией в 1914 г.
Монгольское универсальное государство индусской цивилизации
обнаруживает те же самые черты. В течение полувека со смерти императора
Аурангзеба в 1707 г. империя, которая некогда владычествовала над большей
частью полуострова Индостан, была сточена до «туловища» в 250 миль длиной и 100
миль шириной. По прошествии еще полувека она сократилась до размеров окружности
стен «Красного форта» в Дели. Однако и 150 лет спустя после 1707 г. потомок
Акбара и Аурангзеба все еще сидел на их троне. Он мог бы оставаться на нем еще
дольше, если бы мятежники в 1857 г. не заставили этого бедного марионетку
помимо его желания благословить их восстание против заморской империи,
заменившей после периода анархии давно угасшую империю Великих Моголов, которую
он все еще продолжал символизировать.
Еще более поразительным свидетельством живучести веры в
бессмертие универсальных государств является практика вызывания их призраков
после того, как они умерли. Багдадский халифат Аббасидов был таким образом
воскрешен в виде Каирского халифата, а Римская империя – в виде Священной
Римской империи Запада и Восточной Римской империи православно‑христианского
мира. Империя династий Цинь и Хань была воскрешена в виде империи династий Суй[323] и Тан дальневосточной цивилизации. Фамилия
основателя Римской империи ожила в титулах кайзера и царя, а титул халифа,
который первоначально означал наследника пророка Мухаммеда, после посещения
Каира перешел в Стамбул, где сохранялся вплоть до своего уничтожения руками
вестернизированных революционеров в XX столетии.
Это только избранное из всего богатства исторических
примеров, иллюстрирующих тот факт, что вера в бессмертие универсальных
государств сохраняется на протяжении столетий после того, как она была
опровергнута явно неопровержимыми фактами. В чем причина столь странного
явления?
Одной из очевидных причин является сила того впечатления,
которое производят основатели и великие правители универсальных государств. Оно
передается впечатлительному потомству с такой силой, что превращает
внушительную истину в ошеломляющую легенду. Другой причиной является
впечатляющее воздействие самого этого института, не говоря уже о гении его
величайших правителей. Универсальное государство пленяет сердца и умы,
поскольку воплощает в себе оживление после долговременного спада «смутного
времени». Именно этот аспект Римской империи в конечном счете вызвал восхищение
у первоначально враждебно настроенных греческих писателей, творивших в век
Антонинов, который Гиббон впоследствии объявит периодом, когда род человеческий
достиг своей высшей точки блаженства.
«Нет спасения в том, чтобы обладать властью, отделенной от
могущества. Оказаться под владычеством одного из высших – “наилучшее из двух”.
Однако это “наилучшее из двух” оказывается самым наилучшим в нашем нынешнем
опыте жизни в Римской империи. Этот счастливый опыт вызвал у всего мира самую
сильную преданность по отношению к Риму. Мир не больше думает отделиться от
Рима, чем судовая команда думает прервать связь с кормчим. Вы должны
представить себе летучих мышей в пещере, тесно прижавшихся друг к другу и к
скалам. Это подходящий образ для зависимости всего мира от Рима. Сегодня в
каждом сердце предметом главного беспокойства является страх отделения от роя.
Мысль о том, что можно быть покинутым Римом, настолько ужасна, что исключает
всякую мысль о безответственной измене ему.
Так положен конец тем диспутам о независимости и о престиже,
которые были причиной начала всех войн в прошлом. И хотя некоторые народы,
подобно бесшумно текущим водам, восхитительно спокойны – радуясь своему
освобождению от тяжелого труда и забот и осознав, наконец, что все их прежние
битвы были бесцельны, – существуют и другие народы, которые даже не знают или
не помнят, сидели ли они когда‑нибудь на троне власти. Фактически, мы являемся
свидетелями новой версии памфилийского мифа (или сочиненного самим Платоном?).
В момент, когда государства мира уже лежали на погребальном костре, став
жертвами собственной братоубийственной борьбы и суматохи, всем им тотчас же
было даровано [римское] владычество и они немедленно вновь вернулись к жизни.
Как они достигли такого состояния, они были неспособны сказать. Они ничего не
знали об этом и могли только изумляться своему нынешнему благоденствию. Они
были словно пробужденные спящие, которые пришли в себя и теперь освободились от
своих сонных видений, преследовавших их лишь мгновение назад. Они больше не могли
поверить, что когда‑либо существовали такие вещи, как войны… Весь обитаемый мир
ныне праздновал постоянный праздник… Так что единственные, кого можно пожалеть
за то, что им недостает таких хороших вещей, это народы, которые остались за
пределами Империи – если такие народы еще остались…»{85}.
Этот необычный скептицизм в вопросе о том, заслуживает ли в
действительности какой‑либо народ за пределами Римской империи упоминания,
достаточно характерен и оправдывает то, что мы называем подобные институты универсальными
государствами. Они универсальны не в географическом смысле, но в
психологическом. Например, Гораций в одной из своих од говорит нам о том, что
он безучастен к тому, «что страшит Тиридата»[324]. Царь Парфии,
несомненно, существовал, но он просто не имел никакого значения. В подобном же
тоне маньчжурские императоры дальневосточного универсального государства, ведя
свои дипломатические отношения, предполагают, что все правительства, включая
правительства западного мира, в некий неопределенный период времени в прошлом
получили разрешение существовать от китайских властей.
Однако действительность этих универсальных государств была
чем‑то совершенно отличным от той блестящей поверхности, которая представлялась
Элию Аристиду[325] и другим их панегиристам в различные эпохи в
различных странах.
Безвестное божество нубийской границы египетского
универсального государства превратилось благодаря гению эллинской мифологии в
смертного царя эфиопов, который имел несчастье стать возлюбленным Эос,
бессмертной богини утренней зари. Богиня умолила своих собратьев‑олимпийцев
даровать ее смертному возлюбленному бессмертие, которым обладали она и равные
ей. И хотя они относились ревниво к своим божественным привилегиям, она так
настойчиво упрашивала их, что они наконец поддались ее женской назойливости.
Однако даже этот неохотно данный дар был испорчен роковым изъяном, ибо
нетерпеливая богиня забыла о том, что бессмертие олимпийцев сочеталось с вечной
молодостью, и другие бессмертные злорадно позаботились о том, чтобы дать ей не
более чем она просила. Последствия были и ироничны, и трагичны. После медового
месяца, который пронесся, с точки зрения олимпийцев, в мгновение ока, Эос и ее
теперь уже бессмертный, однако неумолимо стареющий супруг оказались обреченными
навеки горевать о злополучном положении Тифона. Старость, которой безжалостная
рука смерти никогда не могла положить конца, была несчастьем, которое никогда
бы не смог испытать смертный человек, а вечная печаль была тем постоянным
чувством, которое не оставляло места никакому другому чувству или мысли. Для
любой человеческой души или человеческого института бессмертие в мире сем
оказалось бы мученичеством, даже если бы оно и не сопровождалось физической
дряхлостью или умственным старением. «В этом смысле, – писал император‑философ
Марк Аврелий (161‑180 гг. н. э.), – правильно было бы сказать, что любой
сорокалетний человек, наделенный умеренным рассудком, уже видел – в свете
единства природы – целиком и прошлое, и будущее». Если эта оценка способности
человека к опыту поражает читателя как чрезмерно низкая, то он может найти
причину этого в эпохе, в которую жил Марк Аврелий. «Бабье лето» – эпоха скуки.
Ценой «Римского мира» явилась потеря эллинской свободы. И хотя эта свобода
всегда была привилегий меньшинства, а привилегированное меньшинство могло
оказаться безответственным и деспотичным, в ретроспективе становилось очевидно,
что неистовая свирепость цицероновской кульминации эллинского «смутного времени»
оказалась самой настоящей сокровищницей захватывающих и вдохновляющих тем для
римских ораторов. Их эпигоны в самодовольный и упорядоченный траяновский век
могли условно осуждать это время как ужасы не nostri saecili[326],
но они должны были ему тайно завидовать, терпя постоянные неудачи в своих
напряженных усилиях заменить искусственным изобретением стимул, крайне
необходимый для жизни.
На заре надлома эллинского общества Платон, беспокойно
искавший защиты от его дальнейшего падения, пытаясь закрепить его в неподвижном
состоянии, идеализировал относительную стабильность египетской культуры. Тысячу
лет спустя, когда эта египетская культура все еще существовала, хотя эллинская
цивилизация уже переживала предсмертную агонию, последние неоплатоники довели
отношение своего учителя до почти яростной ступени некритичного восхищения.
Благодаря упорности египетского универсального государства в
его вновь и вновь возникающем стремлении вернуться к жизни после того, как его
тело должным образом уже положили на целительный погребальный костер,
египетская цивилизация явилась свидетельницей того, как ее современницы –
минойская, шумерская и индусская культуры – исчезли и уступили место своим
преемницам младшего поколения. Некоторые из них, в свою очередь, тоже исчезли,
в то время как египетское общество все еще продолжало жить. Египетские историки
могли наблюдать рождение и смерть первой сирийской, хеттской и вавилонской
ветви шумерской цивилизаций, а также начало и упадок сирийской и эллинской ветвей
минойской цивилизации. Однако этот баснословно затянувшийся эпилог к
естественному сроку жизни надломленного египетского общества был не чем иным,
как чередованием долгих периодов скуки с лихорадочными вспышками демонической
энергии, на которые дремлющее общество побуждали воздействия чуждых социальных
систем.
Тот же самый ритм близкой к трансу сонливости, сочетающейся
со вспышками фанатичной ксенофобии, можно различить в эпилоге к истории
дальневосточной цивилизации в Китае. Примесь дальневосточной христианской
культуры у монголов, навязавших Китаю чуждое универсальное государство, вызвала
ту реакцию, что монголы были изгнаны, а их владычество заменено универсальным
государством Мин туземного происхождения. Даже маньчжурские варвары, которые
заполнили политический вакуум, образовавшийся в результате крушения династии
Мин, и в которых примесь дальневосточной христианской культуры была менее
значительна, чем их восприимчивость к усвоению китайского образа жизни, вызвали
народную оппозицию. Эта оппозиция, по крайней мере в Южном Китае, подспудно
никогда не переставала существовать и вновь вылилась на поверхность в
Тайпинском восстании 1852‑1864 гг. Проникновение современной западной
цивилизации в ее ранней, католическо‑христианской форме в XVI‑XVII вв. спровоцировало
объявление католицизма вне закона в первой четверти XVIII в.[327] Гибельное открытие морских ворот Китая для
торговли с Западом между 1839 и 1861 гг. спровоцировало резкий ответ в виде
антизападного «Боксерского» восстания 1900 г. Маньчжурская династия была
свергнута с престола в 1911 г. в наказание за свое двойное преступление: она
оставалась неискоренимо чуждой сама по себе и в то же время показала себя
неспособной защитить от гораздо более грозной чуждой силы западного
проникновения.
К счастью, жизнь добрее мифа, и приговор, которым мифология
обрекала Тифона на бессмертие, смягчен для исторических универсальных
государств до срока неопределенного долгожительства. Рассудительный
сорокалетний человек Марка Аврелия должен в конце концов умереть, хотя он может
утратить всякий интерес к жизни к пятидесяти или шестидесяти годам.
Универсальное государство, которое вновь и вновь лезет на рожон смерти,
выветрится с течением веков, подобно тому соляному столпу, который, согласно
мифу, был окаменевшим веществом некогда живой женщины[328].
XXV. Sic
vos поп vobis
«Sic vos non vobis mellificatis, apes». «Так вы, пчелы,
добываете мед, но не для себя»[329]. Избитая
цитата через простую аналогию выражает парадоксальное положение универсальных
государств в истории. Эти производящие сильное впечатление государства являются
последними созданиями творческих меньшинств распадающейся социальной системы
умирающих цивилизаций. Их сознательная цель состоит в том, чтобы сохранить
себя, сберегая растрату энергий того общества, с судьбами которого они теперь связаны.
Это намерение, однако же, никогда не выполняется. Тем не менее эти побочные
продукты процесса социального распада играют роль в новых творческих актах. Они
служат другим, когда им не удается спастись самим. Если универсальное
государство находит свой смысл в качестве средства для оказания услуг, то кто
выступает в роли облагодетельствованных им? Ими должен быть тот или иной из
трех возможных кандидатов – внутренний или внешний пролетариат самого
умирающего общества или же некая чуждая цивилизация, которая этому обществу
современна. Служа внутреннему пролетариату, универсальное государство будет
способствовать одной из высших религий, которые появляются из лона внутреннего
пролетариата. Говоря словами Боссюэ[330], «все великие
империи, которые мы видели на земле, различными средствами действовали на благо
религии и во славу Божию, как заявлял Сам Бог через Своих пророков».
1. Кондуктивность универсальных государств
Наша следующая задача – сделать эмпирический обзор тех
услуг, которые невольно оказывают универсальные государства, и той пользы,
которую извлекают из этих услуг внутренний пролетариат, внешний пролетариат и
чуждые цивилизации. Однако сначала мы должны найти ответ на один
предварительный вопрос: как может оказывать какие‑либо услуги институт, который
пассивен, консервативен, архаичен и фактически негативен во всех отношениях?
Или, переводя на язык выразительной древнекитайской нотации ритма Вселенной,
как может не подающее никаких надежд состояние Инь дать начало новой вспышке
активности Ян? Конечно же, нетрудно представить, что раз уж некогда искра
творческой энергии вспыхнула под кровом универсального государства, то есть
шанс, что она постепенно разрастется в пламя, которого никогда могло бы и не
быть, если бы оно оказалось открытым порывистому ветру «смутного времени».
Однако эта услуга, хотя и является ценной, все же негативна. Какая черта в
общественной ситуации, возникающей при универсальном государстве, является
позитивным источником той новой способности к творчеству, которая представляет
собой высшее благо, даруемое универсальным государством тем, кого оно
облагодетельствовало (хотя оно явно не может использовать эту способность в
своих целях)? Возможно, одно из объяснений этому находится в тенденции архаизма
к самоуничтожению посредством вовлечения в строительство, когда он пытается
«заставить вещи работать».
Например, включение сохранившейся части общественного строя
в политическую структуру универсального государства не помогает ни восстановить
исчезнувшее, ни предотвратить дальнейшее разрушение оставшегося. Угроза этого
непомерного и постоянно расширяющегося социального вакуума заставляет
правительство действовать вопреки своим собственным наклонностям и
конструировать временные институты для заполнения пустоты. Классическим
примером необходимости дальнейшего заполнения этой все расширяющейся бреши
является административная история Римской империи на протяжении двух столетий,
последовавших за ее установлением. Секрет римского управления заключался в
принципе непрямого правления. Эллинское универсальное государство было задумано
его римскими основателями как ассоциация самоуправляемых городов‑государств с
окраиной автономных княжеств в тех районах, где эллинская культура еще не
встретилась с политикой. Бремя администрации было возложено на эти местные
власти. Эта политика никогда умышленно не изменялась. Однако если мы еще раз
осмотрим Империю в конце двух столетий «Римского мира», то обнаружим, что административная
система фактически трансформировалась. Княжества‑клиенты превратились в
провинции, а провинции стали, в свою очередь, органами прямой и
централизованной администрации. Человеческие ресурсы для осуществления местного
управления постепенно иссякали, а центральное правительство, столкнувшись с
этим растущим недостатком местных административных талантов, было вынуждено не
только заменять князей‑клиентов имперскими губернаторами, но и отдавать
администрацию городов‑государств в руки назначенных «управляющих». К концу этой
истории вся администрация Империи перешла в руки иерархически организованной
бюрократии.
Центральные власти не больше стремились навязать эти
перемены, чем местные власти примириться с ними. И те, и другие стали жертвами force
majeure[331] . Тем не менее последствия были революционны,
поскольку эти новые институты были высоко «кондуктивны». В предыдущем
исследовании (см. т. II, часть 4) мы выяснили, что двумя ведущими чертами эпохи
социального распада являются промискуитет и чувство единства. И хотя эти две
психологические тенденции с субъективной точки зрения могут быть прямо
противоположными друг другу, они соединяются, чтобы привести к сходному
объективному результату. Этот господствующий дух эпохи вносит вклад в новые
временные институты, быстро возводимые универсальными институтами с
«кондуктивностью», сравнимой с той, что извлекают океан и степь не из
человеческой психологической атмосферы, но из собственной физической природы.
«Как поверхность земли носит на себе все человечество, так
Рим принимает все народы земли в свое лоно, словно реки, принимаемые морем».
Так писал Элий Аристид, которого мы уже цитировали. То же самое сравнение
привел автор данного «Исследования» в отрывке, написанном до знакомства с
произведением Аристида.
«Автор лучше всего может выразить свое личное мнение об
Империи в иносказании. Она подобна морю, вокруг берегов которого была натянута
сеть из его городов‑государств. Средиземное море на первый взгляд кажется
жалкой заменой рек, которые образовали его своими водами. Те были живой водой,
независимо от того, мутными они были или чистыми. Море же кажется соленым,
неподвижным и мертвым. Однако как только мы начинаем изучать море, мы
обнаруживаем и там движение и жизнь. Есть подводные течения, постоянно
циркулирующие из одной части моря в другую. Вода же с поверхности, которая, как
может показаться, исчезает в процессе испарения, на самом деле не исчезает, но
опадает в других местах и в другое время года, утратившая свою горечь и вновь очищенная,
в виде живительного дождя. И как только эти воды с поверхности моря испаряются,
превращаясь в облака, их место занимают нижние слои, постоянно вытекающие из
глубин. Само море находится в постоянном творческом движении, но влияние этой
огромной массы вод простирается далеко за границы его берегов. Можно
обнаружить, что оно смягчает крайности температуры, ускоряет рост растений и
благоприятствует жизни животных и людей в удаленных континентальных районах,
среди народов, которые никогда не слышали даже его названия»{86}.
Социальные движения, которые прокладывают свой путь через
кондуктивного посредника в виде универсального государства, являются фактически
и горизонтальными, и вертикальными. Примерами горизонтального движения является
циркуляция лекарственных трав в Римской империи, согласно свидетельству Плиния
Старшего[332] в его «Естественной истории», и
распространение бумаги с восточной до западной оконечности Арабского халифата.
Бумага, появившаяся в Китае и достигшая Самарканда в 751 г., уже к 793 г.
достигла Багдада, к 900 г. – Каира, к 1100 г. – Феза (Фаса), располагавшегося
почти в пределах видимости Атлантики, а к 1150 г. – Хативы на Иберийском
полуострове.
Вертикальные движения иногда более неуловимы, но часто они
оказываются гораздо важнее в своих социальных следствиях. Иллюстрацией этого
является история сёгуната Токугава, который был универсальным государством дальневосточного
общества в Японии. Режим Токугава взялся за изоляцию Японии от всего остального
мира и в течение почти двух столетий успешно осуществлял этот политический tourde
force (усилие). Однако он оказался бессилен остановить ход социальных
перемен внутри самой изолированной Японской империи, несмотря на попытки
придать феодальной системе, унаследованной от предшествующего «смутного
времени», постоянные, жестко закрепленные формы.
«Проникновение денежной экономики в Японию… явилось причиной
медленной, но неизбежной революции, достигшей своей кульминации в распаде
феодальной формы правления и в возобновлении отношений с иностранными
государствами после более чем двухвекового уединения. Двери открыли вовсе не
ультиматумы, поставленные извне, но взрывы изнутри… Одним из первых результатов
[действия этих новых экономических сил] явилось увеличение богатства у
городского населения, которое было достигнуто за счет разорения самураев, а также
крестьян… Даймё и их слуги тратили свои деньги на предметы роскоши,
производимые ремесленниками и продаваемые торговцами, так что примерно к 1700
г. почти все их золото и серебро перешло в руки городского населения. Тогда они
начали покупать товары в кредит. Вскоре они сильно задолжали торговому классу и
были вынуждены закладывать или даже в принудительном порядке продавать свои
заложенные рисовые поля… Злоупотребления и бедствия происходили все чаще и
стремительнее. Коммерсанты стали посредниками при продаже риса, а затем начали
спекулировать им… Выгоду из этого положения извлекал только один класс, а не
все классы. Именно коммерсанты, в частности торговцы подержанными вещами и
ростовщики, презираемый тёнин[333], или
городские жители, теоретически могли быть убиты безнаказанно любым самураем за
простое непочтительное слово. Их общественное положение все еще оставалось
низким, однако в их руках были деньги, и они имели большое влияние. К 1700 г.
они уже были самым сильным и самым предприимчивым элементом в государстве, а
военная каста медленно утрачивала свое влияние»{87}.
Если мы рассмотрим 1590 г. – год, в который Хидэёси сломил
последнее сопротивление своей диктатуре, в качестве даты основания японского
универсального государства, то поймем, что потребовалось гораздо меньше
столетия подъема нижних слоев воды с глубины на поверхность, чтобы произвести
бескровную социальную революцию в обществе, которое преемники Хидэёси хотели
заморозить до состояния почти платоновской неподвижности. Результат впечатляет
еще больше, поскольку в культурном отношении универсальное государство сёгунат
Токуга‑ва было в необычайно высокой степени однородно.
Иллюстрации «кондуктивности» универсальных государств можно
взять из любого другого примера, о котором у нас имеется достаточное количество
исторических знаний.
2. Психология мира
Универсальное государство насаждается его основателями и
принимается подданными в качестве панацеи от болезней «смутного времени». С
психологической точки зрения, это институт для установления и поддержания
согласия. И это верное средство для правильно диагностированного заболевания.
Заболевание состоит в том, что дом разделен внутри себя, и этот раскол проходит
в двух направлениях. Существует горизонтальный раскол между борющимися классами
общества и вертикальный раскол между воюющими государствами. В процессе
превращения в универсальное государство державы, которая является единственной
уцелевшей в результате войн между местными государствами в предшествующую
эпоху, первостепенная задача строителей империи заключается в установлении
согласия с другими членами правящих меньшинств в местных государствах, которые
были ими завоеваны. Тем не менее ненасилие – это такое душевное состояние и
такой принцип поведения, который не может быть ограничен какой‑то одной частью
общественной жизни. Поэтому согласие, которого правящее меньшинство стремится
достичь в своих внутренних отношениях, должно быть распространено и на
отношения правящего меньшинства с внутренним и внешним пролетариата‑ми, а также
и на отношения с чуждыми цивилизациями, с которыми распадающаяся цивилизация
вступает в контакт.
Это всеобщее согласие приносит пользу облагодетельствованным
на самых различных уровнях. Хотя оно дает возможность правящему меньшинству до
некоторой степени восстановить свои силы, оно вызывает еще больший
соответственный прилив силы у пролетариата. Ибо жизнь уже покинула правящее
меньшинство, и «все специи» согласия могут лишь «отсрочить разложение» –
используя непочтительное замечание Байрона о теле короля Георга III[334]. В то же
время эти самые специи служат удобрением для пролетариата. Соответственно, во
время перемирия, установленного универсальным государством, пролетариат должен
усиливаться, а правящее меньшинство – ослабевать. Терпимость, практиковавшаяся
основателями универсального государства с целью прекращения раздоров между
ними, дает внутреннему пролетариату шанс основать вселенскую церковь. В то же
время атрофия воинственного духа у подданных универсального государства дает
шанс внешнему пролетариату из варваров или соседней чуждой цивилизации
вторгнуться и захватить власть над внутренним пролетариатом, который в
политическом плане вынужден быть пассивным, каким бы активным он ни был в плане
религиозном.
Относительная неспособность правящего меньшинства извлечь
выгоду из условий, созданных самим этим меньшинством, иллюстрируется почти
неизменной неудачей в распространении его собственной философии или «выдуманной
религии» сверху. С другой стороны, удивительно наблюдать, насколько эффективно
использует внутренний пролетариат мирную атмосферу универсального государства
для распространения высшей религии снизу и в конечном счете для основания
вселенской церкви.
«Среднее царство» в Египте, например, первоначально
являвшееся египетским универсальным государством, было использовано для этой
цели церковью Осириса. Нововавилонское царство, которое было вавилонским
универсальным государством, и его последовательно сменявшие друг друга
государства‑наследники, Ахеменидская (Персидская) империя и монархия
Селевкидов, подобным же образом были использованы иудаизмом и его сестринской
религией – зороастризмом. Возможностями, предоставленными «Римским миром»,
воспользовалось множество конкурирующих пролетарских религий – культы Кибелы,
Исиды, митраизм и христианство. Соответствующими возможностями,
предоставленными Pax Hanica[335] в древнекитайском мире, пытались
воспользоваться соперничавшие индская пролетарская религия махаяны и местная
древнекитайская пролетарская религия даосизма. Арабский халифат обеспечил такую
же возможность для ислама, а империя Гуптов в индском мире – для индуизма.
Монгольская империя, которой на время удалось распространить эффективный Pax
Nomadica[336] от западного побережья Тихого океана до
восточного побережья Балтики и от южных границ Сибирской тундры до северных
окраин Аравийской пустыни, потрясала воображение миссионеров тем, какому
множеству соперничающих религий была предоставлена возможность существовать.
Учитывая, сколь кратким был этот момент, удивительно наблюдать, как успешно его
использовали в своих интересах несторианская и западно‑христианская
католическая церкви и ислам, равно как и ламаистская тантрическая секта
махаянского буддизма.
Представители высших религий, которые так часто извлекали
выгоду из благоприятного социального и психологического климата универсального
государства, в некоторых случаях осознавали преимущества и приписывали
получаемые ими дары единому истинному Богу, во имя Которого они проповедовали.
В глазах авторов книг Второисаии, Ездры и Неемии империя Ахеменидов являлась
избранным инструментом Яхве для распространения иудаизма, а папа Лев Великий
(440‑461)[337] таким же образом рассматривал Римскую империю
в качестве промыслительно установленной Богом для облегчения проповеди
христианства. В своей 82‑й проповеди он писал: «Чтобы последствия этого
несказанного проявления милости (то есть Боговоплощения) могли распространиться
по всему миру, Божественное провидение прежде создало Римскую империю».
Эта идея стала общим местом в христианской мысли и
появляется вновь, например в мильтоновской «Оде утру Рождества Христова»:
Не войны иль битвы звук
Слышал мир повсюду:
Праздные копье и щит были высоко
повешены;
Колесница с серпами стояла,
Незапятнанная вражеской кровью;
Труба не звала вооруженную толпу;
А цари сидели неподвижно с очами,
полными благоговения,
Как будто они действительно
узнали, что рядом их Господь.
Вполне могло показаться, что столь чудесная возможность
ниспослана небом. Однако в отношении между успешной в своей миссионерской
деятельности Церковью и универсальным государством, внутри которого она
действует, атмосфера терпимости, дающая ей благоприятное начало, не всегда
удерживается до конца истории. Иногда эта атмосфера превращается в свою
противоположность. Несомненно, были случаи, когда такого страшного результата
не было. Церковь Осириса никогда не подвергалась преследованиям и в конечном
счете соединилась с религией египетского правящего меньшинства. Подобным же
образом, по‑видимому, и в древнекитайском обществе сохранялся мир между
махаянской и даосской церквями, с одной стороны, и империей Хань – с другой,
пока древнекитайское универсальное государство не вошло в стадию распада в
конце II в. христианской эры.
Подходя к иудаизму и зороастризму, мы не можем сказать, ни
каковы бы были их окончательные отношения с Нововавилонским царством, ни каковы
бы были их отношения с империей Ахеменидов, поскольку каждое из этих
универсальных государств прекратило существование на ранней стадии своей
истории. Мы знаем только, что когда режим Ахеменидов внезапно сменился режимом
Селевкидов, а со временем, западнее Евфрата – римским режимом, то воздействие
чуждой эллинской культуры, политическими орудиями которой были и держава
Селевкидов, и Римская держава, привело к тому, что иудаизм и зороастризм
отклонились от своей первоначальной миссии по проповеди спасения для всего
человечества. Они превратились в орудия культурной войны в ходе ответа
сирийского общества на агрессию общества эллинского. Если бы империя
Ахеменидов, подобно своей постэллинской аватаре – Арабскому халифату, проделала
полный круг в своем развитии, то мы бы могли предположить, что под
покровительством терпимого ахеменидского имперского правительства или
зороастризм, или иудаизм предвосхитил бы будущие успехи ислама. Последний,
воспользовавшись безразличием Омейядов и добросовестным соблюдением Аббасидами
политики терпимости, предписываемой по отношению к немусульманам, которые
являются «людьми Книги»[338], делал
постепенные успехи. При этом он не компрометировал себя никакой бесполезной
помощью со стороны гражданской власти до тех пор, пока падение режима Аббасидов
не вызвало массовый обвал добровольных обращений в ислам людей, ищущих во
внутреннем дворе мечети убежища от бури наступающего политического
междуцарствия.
То же самое можно сказать и относительно империи Гуптов,
которая явилась вторичным восстановлением первоначального индского
универсального государства Маурьев. Здесь вытеснение философии буддизма
постбуддийской высшей религией индуизма не только не встретило никакого
сопротивления со стороны правящей династии, но этому также не препятствовали
никакие официальные преследования, чуждые терпимому и синкретичному
религиозному этосу индской цивилизации.
В противоположность этим случаям, в которых высшая религия,
воспользовавшись миром, установленным универсальным государством, допускалась
правительством от начала и до конца, существуют и другие случаи, когда мирное
развитие высших религий было прервано официальными преследованиями, что или
подавляло их в зародыше, или изменяло их естественные свойства, побуждая
заниматься политикой или браться за оружие. Западное католическое христианство,
например, было почти полностью истреблено в Японии в XVII в., а в Китае – в
XVIII. Ислам в Китае при монголах имел успех только в двух провинциях, и
мусульмане всегда составляли здесь лишь чуждое меньшинство, которое
ненадежность их положения побуждала к периодическим вспышкам воинственности.
Неблагоприятные последствия испытания силой христианства,
которые явились прелюдией к его будущей победе над римским имперским режимом,
были сравнительно малы. В течение трех столетий, предшествовавших обращению
Константина, Церковь никогда не была вне опасности пойти против римской
политики. Ибо кроме подозрения к частным союзам всякого рода, появлявшимся в
Римском государстве в век Империи, существовала более древняя и более глубоко
укорененная римская традиция особенной враждебности по отношению к частным
обществам, практикующим и распространяющим иноземные религии. И хотя римское
правительство смягчило эту жесткую политику в двух исключительных случаях – в
официальном принятии культа Кибелы во время кризиса, вызванного войной с Ганнибалом,
и в своей устойчивой терпимости к иудаизму как к религии, даже когда иудейские
зелоты побудили Рим уничтожить иудейское государство, – подавление вакханалий
во II в. до н. э. явилось предзнаменованием преследований, которым христиане
подвергнутся в III в. н. э. Однако христианская Церковь отвергла соблазн
отвечать на официальные преследования, превратившись в военно‑политический
союз, и была вознаграждена, став вселенской церковью и наследницей будущего.
Несмотря на это, христианская Церковь не вышла из этого
испытания невредимой. Вместо того чтобы принять близко к сердцу урок победы
христианской доброты над римской силой, она добровольно предоставила своим
приведенным в замешательство гонителям оправдание и обеспечила их посмертный
моральный реванш, взяв на себя грех, который завершил их поражение. Она сама
стремительно превратилась в гонителя и долгое время оставалась им.
Если внутренний пролетариат в качестве создателя высших
религий является основным облагодетельствованным успехами правящего меньшинства
по созданию и поддерживанию универсальных государств в плане духовном, то в
плане политическом плоды пожинают другие руки. Психология мира под
покровительством универсального государства делает его правителей неспособными
к выполнению задачи по поддержанию своего политического наследства.
Соответственно, теми, кому выгоден этот процесс психологического разоружения,
являются не правители и не их подданные – не правящее меньшинство и не
внутренний пролетариат. Ими являются захватчики, вторгающиеся из‑за границ
империи, которыми могут быть или члены внешнего пролетариата распадающегося
общества, или представители одной из чуждых цивилизаций.
Ранее в данном «Исследовании» мы уже замечали, что событием,
которое отмечает смерть цивилизации (в отличие от ее предшествующего надлома и
распада), обычно является оккупация владений универсального государства
исчезнувшего общества или варварскими военными вождями, явившимися из‑за
военной границы, или завоевателями, пришедшими из другого общества с отличной
культурой, или же в некоторых случаях – и теми и другими, следующими друг за
другом по пятам. Выгоды, которые удачливые варвары или иноземные агрессоры
извлекают в своих собственных грабительских целях из психологического климата,
созданного универсальным государством, очевидны и на первый взгляд производят
сильное впечатление. Однако мы уже отмечали, что варварские захватчики
оставленных владений распавшегося универсального государства – это герои без
будущего. Потомство, несомненно, признало бы их авантюристами с дурной
репутацией, если бы не позднейший романтический ореол, наброшенный на их
отвратительные выходки благодаря их дару писать себе эпитафии на языке
эпической поэзии. «Илиада» может даже Ахилла превратить в «героя». Что касается
достижений воинствующих миссионеров чуждой цивилизации, то они столь же
обманчивы и так же разочаровывают в сравнении с историческими достижениями
церквей.
В двух примерах, которые мы можем привести из всей истории,
мы видим, что цивилизация, универсальное государство которой преждевременно
уничтожили иноземные завоеватели, была способна упасть на землю, находиться в
бездействии в течение столетий, выжидая время, и, наконец, найти возможность
изгнать вторгшуюся цивилизацию и возобновить фазу универсального государства
своей истории в той точке, в которой она была прервана. Индская цивилизация
предприняла этот tour de force (подвиг) после того, как в течение
приблизительно шести столетий, а сирийская – после того, как в течение
тысячелетия была затоплена эллинским нашествием. Памятниками их подвигов стали
империя Гуптов и Арабский халифат, в которых были возобновлены универсальные
государства, первоначально нашедшие свое воплощение соответственно в империи
Маурьев и в империи Ахеменидов. С другой стороны, вавилонское и египетское
общества в конечном итоге были поглощены сирийским, хотя вавилонскому удалось
сохранять свою культурную идентичность в течение приблизительно шести столетий
после уничтожения Нововавилонского царства Навуходоносора царем Киром, тогда
как египетское общество сохранялось в течение не менее двух тысяч лет после
прекращения его естественного срока жизни в результате гибели «Среднего
царства».
Таким образом, основываясь на исторических данных, можно
сказать, что существуют два альтернативных исхода попытки одной цивилизации
поглотить и усвоить другую при помощи силы. Однако исторические данные говорят
о том, что даже в том случае, когда попытка оказывается успешной, может
наступить период в столетия или тысячелетия перед тем, как результат будет
обеспечен окончательно. Это могло бы склонить историков XX в. к тому, чтобы
быть сдержаннее относительно прогнозов об исходе современных попыток западной
цивилизации поглотить своих современниц, учитывая, как мало времени прошло с
того момента, когда была предпринята даже самая древняя из этих попыток, и
какая малая часть разворачивающейся истории пока еще нам открыта.
Например, в случае испанского завоевания центрально‑американского
мира можно было бы предположить, что когда чуждый заменитель в виде испанского
вице‑королевства Новая Испания был вытеснен республикой Мексика, которая искала
и нашла доступ в сообщество западных государств, ассимиляция центрально‑американского
общества в социальном организме западного общества стала безвозвратно
свершившимся фактом. Однако за Мексиканской революцией 1821 г.[339] последовала революция 1910 г.[340], в ходе
которой потопленное, но находившееся в спячке туземное общество неожиданно
встрепенулось, подняло голову и пробилось из‑под слоя культуры, положенного
руками кастильцев на могилу, в которую конкистадоры столкнули, казалось бы, уже
мертвое тело. Это предзнаменование из Центральной Америки ставит вопрос о том,
а не могут ли очевидные культурные завоевания западного христианства в андском
мире и в других местах рано или поздно оказаться лишь поверхностными и
временными.
Дальневосточная цивилизация в Китае, Корее и Японии, ставшая
жертвой влияния Запада на протяжении последнего столетия, была явно более
мощной, чем когда‑то центрально‑американская. И если туземная культура Мексики
вновь заявила о себе после четырехвекового затмения, то было бы опрометчиво
предполагать, что дальневосточная культура обречена на то, чтобы быть
поглощенной Западом или Россией. Что касается индусского мира, то появление
двух государств‑наследников[341] Британской империи в 1947 г. можно было бы
интерпретировать как мирно совершившееся подобие Мексиканской революции 1821 г.
К моменту написания книги можно было бы предсказать, что во втором случае, так
же как и в первом, акт политической эмансипации, внешним образом подтверждающий
процесс вестернизации, вводя освободившиеся государства в сообщество западных
наций, может оказаться первым шагом на пути к культурной эмансипации общества,
которое временно было поглощено западным завоеванием.
Арабские страны, которые недавно получили доступ в западное
сообщество наций в качестве независимых государств, оказались способны достичь
своих стремлений благодаря своим успехам в избавлении от оттоманской политической
власти и иранского налета в культуре, который покрывал их в течение четырех
столетий. Существует ли причина сомневаться в том, что скрытая сохранившаяся
мощь арабской культуры рано или поздно заявит о себе, противопоставив себя
влиянию гораздо более чуждой культуры Запада?
Общий результат, к которому мы пришли в данном обзоре
последствий культурных обращений, подтверждает наш вывод о том, что
единственным, кто действительно извлекает выгоду из услуг, предоставляемых
универсальным государством, является внутренний пролетариат. Выгоды,
извлекаемые внешним пролетариатом, всегда иллюзорны, а извлекаемые чуждой
цивилизацией – оказываются непостоянными.
3. Эффективность имперских институтов
Рассмотрев действие двух общих характерных особенностей
универсальных государств – их кондуктивности и мира, – мы можем продолжить
обзор услуг, предоставляемых универсальными государствами на примере конкретных
институтов. Эти институты создаются и поддерживаются универсальными
государствами вполне сознательно, но свою историческую миссию они обретают
иногда в таких ролях, о которых их создатели никогда не думали. Пользуясь
понятием «институты» в самом общем смысле слова, мы можем попытаться охватить
следующие: коммуникации, гарнизоны и колонии, провинции, столицы,
государственные языки и системы письма, право, календари, меры и весы, деньги,
регулярную армию, государственные службы, гражданство. Теперь рассмотрим каждый
из них.
* * *
Коммуникации
Коммуникации открывают список, поскольку они являются
главным институтом, от которого зависит само существование универсального
государства. Они представляют собой не только орудия военного господства
универсального государства над своими владениями, но также и орудия
политического контроля. Эти созданные руками человека, жизненно важные
имперские коммуникации включают в себя гораздо больше, чем просто построенные
дороги, ибо «естественные» пути, предоставляемые реками, морями и степями, не
могут быть использованы в качестве средств сообщения до тех пор, пока они не
будут эффективно охраняться. Требуются также и средства перевозки. В
большинстве универсальных государств, до сих пор известных истории, эти
средства принимали форму имперской почтовой службы, а «почтальоны» (если мы
можем применить этот привычный термин по отношению к чиновникам подобной службы
– центральной и местной) зачастую были также и полицейскими. Общественная
почтовая служба, по‑видимому, была частью государственного аппарата в империи
Шумера и Аккада в III тысячелетии до н. э. Спустя две тысячи лет в той же части
света, в империи Ахеменидов, мы находим, что эти же институты достигли еще
более высокого уровня организации и эффективности. Ахеменидская политика
использования системы имперских коммуникаций в целях поддержания центрального
правительственного контроля над провинциями снова появляется в управлении
Римской империи и Арабского халифата.
На самом деле неудивительно, что подобные институты можно
найти в универсальных государствах «от Китая до Перу». Цинь Шихуанди,
революционный основатель древнекитайского универсального государства, был
строителем дорог, расходившихся из его столицы во все стороны, и держал на
службе тщательно организованный штат инспекторов. Также и инки укрепляли свои завоевания
при помощи дорог. Письмо могло проделать путь от Куско до Кито, расстояние
между которыми по прямой линии более тысячи миль, а по дороге, возможно, в
полтора раза больше, за короткое время – в течение десяти дней.
Очевидно, дороги, создаваемые и поддерживаемые
правительствами универсальных государств, могли быть использованы и в других
всевозможных целях, для которых совсем не предназначались. Военные отряды
вторгшегося внешнего пролетариата гораздо менее стремительно расширяли бы
область разоряемых ими земель в поздней Римской империи, если бы Империя
невольно сама не предоставила им такого блестящего средства для преодоления
этого расстояния. Однако на этой дороге можно разглядеть и гораздо более
интересные личности, чем Аларих. Когда Август насаждал «Римский мир» в Писидии[342], он
непреднамеренно устилал путь святому апостолу Павлу в его первом миссионерском
путешествии, чтобы он высадился в Памфилии и в безопасности совершил
путешествие в Антиохию Писидийскую, Иконию, Листру и Дервию. Помпеи же очистил
от пиратов море, чтобы апостол Павел смог совершить свое последнее
кратковременное плавание из Кесарии Палестинской в итальянские Путеолы, будучи
избавлен оттого, чтобы храбро встречать искусственно созданные опасности в
добавление к опасностям бури и кораблекрушения.
«Римский мир» оказался столь же благоприятным социальным
окружением и для преемников апостола Павла. Во второй половине II в.
существования Римской империи святой Ириней Лионский[343] отдает скрытую дань уважения удобным
коммуникациям Империи, когда превозносит единство вселенской церкви во всем
эллинском мире. «Получив это Евангелие и эту веру, – пишет он, – Церковь,
несмотря на свое рассеяние по всему миру, сохранила эти сокровища столь же
тщательно, как если бы ее члены жили под одной кровлей». Два столетия спустя
раздраженный языческий историк Аммиан Марцеллин жалуется на то, что «толпы
прелатов пользуются общественными почтовыми лошадьми для того, чтобы мчаться
взад и вперед по делам этих “соборов”, как они их называют».
Наш обзор[344] выявил такое множество случаев, в которых
система коммуникаций выгодно использовалась теми, кому она не предназначалась,
что мы можем рассматривать эту тенденцию в качестве иллюстрации исторического
«закона». В 1952 г. этот вывод привел к постановке важного вопроса относительно
будущего вестернизированного мира, в котором живут автор этого «Исследования» и
его современники.
К 1952 г. западный человек уже на протяжении приблизительно
четырех с половиной столетий всю свою инициативу и умение посвящал проблеме
соединения всей обитаемой и достижимой поверхности планеты системой
коммуникаций, управляемой при помощи техники, которая постоянно ускоряет свой
шаг. Деревянные каравеллы и галеоны, оснащенные для плавания против ветра,
которые помогли морякам‑первопроходцам современной Западной Европы стать
хозяевами всех океанов, были заменены железными кораблями гигантского размера с
механическим двигателем. Грязные проселочные дороги, по которым путешествовали
в запряженных шестеркой экипажах, уступили место мощенным щебнем и покрытым
бетоном дорогам, по которым ездят на автомобилях. Железные дороги соревнуются с
обычными дорогами, а самолеты – со всеми сухопутными и водными перевозочными
средствами. Одновременно, как по волшебству, появились и начали действовать
такие средства коммуникации, для которых не требуется физической
транспортировки человеческих тел, – в виде телеграфа, телефона и беспроволочной
передачи – визуальной, равно как и звуковой – при помощи радио. Никогда прежде
каждая из форм человеческого общения не достигала столь высокой степени
кондуктивности на таком широком пространстве.
Эти усовершенствования предвещали окончательную – на
политическом уровне – унификацию того общества, в котором появились эти
технические предзнаменования. Тем не менее, ко времени написания данного
«Исследования» политические перспективы западного мира были все еще
неопределенны. Ибо хотя наблюдатель и мог быть уверенным в том, что
политическое единство в какой‑то форме рано или поздно наступит, ни время, ни
способ, каким это произойдет, предсказать было нельзя. В мире, который в
политическом плане все еще был разделен на шестьдесят‑семьдесят независимых
местных государств, но который уже изобрел атомную бомбу, было очевидно, что
политическое единство можно навязать обычным способом «нокаутирующего удара».
Но также существовала вероятность, что если мир будет навязан в данном случае,
как он навязывался и во многих других, деспотическим указом единственной
сохранившейся великой державы, то цена насильственной унификации на основе
нравственного, психологического, социального и политического (не говоря уже о
материальном) опустошения была бы сравнительно выше, чем в других случаях
подобного рода. В то же время было возможно, что эта политическая унификация
могла бы быть достигнута альтернативным способом добровольной кооперации.
Однако, какое бы решение ни было найдено для этой проблемы, можно было бы с
уверенностью предсказать, что новая всемирная сеть коммуникаций обретет свою
историческую миссию в обычной иронической роли, будучи с выгодой использованной
теми, для кого первоначально не предназначалась.
Кто же в данном случае извлечет наибольшую выгоду? Вряд ли
это будут варвары внешнего пролетариата. Хотя мы уже обнаружили (и можем еще
обнаружить) неоварварских аттил – предателей искаженной цивилизации в нашей
среде – в образе Гитлера и ему подобных, нашей мировой системе не следует
слишком опасаться жалких остатков подлинных варваров, обитающих по ту сторону
границы[345]. С другой
стороны, существующие высшие религии, владения которых смыкаются друг с другом
и с сокращающимися владениями языческого первобытного человека, уже начали
использовать благоприятные возможности. Святой апостол Павел, который некогда
отважился отправиться с берегов Оронта на берега Тибра, нетерпеливо устремился
дальше на моря более широкие, чем Средиземное. На борту португальской каравеллы
обогнув мыс Доброй Надежды, он достиг в своем втором путешествии Индии[346], а далее,
через Малаккский пролив, в своем третьем путешествии достиг Китая[347]. Пересев на
испанский галеон, неутомимый апостол пересек Атлантику от Кадиса до Веракруса и
Тихий океан – от Акапулько до Филиппин. Но западное христианство было не
единственной живой религией, которая воспользовалась западными коммуникациями.
Восточное православное христианство в обозе казачьих первопроходцев,
вооруженных западным огнестрельным оружием, проделало долгий путь от реки Камы
до Охотского моря. Хотя святой апостол Павел и проповедовал Евангелие в Африке
XIX в. под видом шотландского медика‑миссионера Давида Ливингстона[348], исцеляя
больных и открывая озера и водопады, здесь распространялся также и ислам. И нет
ничего непостижимого в том, что махаяна могла однажды вспомнить свое чудесное
путешествие по непрерывному ряду царских дорог от Магадхи до Лояна и,
наполнившись силами от своих оживленных воспоминаний, могла использовать такие
западные новшества, как аэроплан и радио для собственной деятельности по
проповеди спасения, как некогда использовала китайское изобретение
книгопечатания.
Результаты, вызванные этой стимуляцией миссионерской
деятельности в мировом масштабе, явились не просто результатами церковной
геополитики. Вторжение государственных высших религий в новые миссионерские
сферы поднимало вопрос о том, можно ли отделить вечную сущность религии от ее
преходящих акциденций. Столкновения религий друг с другом поставили вопрос о
том, могут ли они вообще существовать бок о бок или же одна из них вытеснит
остальные.
Идеал религиозного эклектизма привлекал некоторых правителей
универсальных государств – например, Александра Севера[349] и Акбара, которым удавалось соединять
утонченный ум с добрым сердцем. Их эксперименты оказались совершенно
безрезультатными. Другие идеалы вдохновляли иезуитских миссионеров‑первопроходцев
– Франсиско Хавьера[350] и Маттео Риччи[351], ставших
первыми апостолами какой‑либо религии, которые воспользовались возможностями,
открывшимися в результате технического завоевания Западом больших морей в Новое
время. Эти отважные духовные исследователи стремились завоевать для
христианства индусский и дальневосточные миры точно так же, как святой апостол
Павел и его последователи завоевали в свое время эллинский мир. Однако, будучи
наделенными интуицией, которая соответствовала их героической вере, они не
могли не понимать, что их предприятие не будет успешным без выполнения одного
обременительного условия, и они не уклонились от принятия его последствий. Они
понимали, что миссионер должен нести свою миссию на том интеллектуальном,
эстетическом и эмоциональном языке, который привлечет к нему его будущих
новообращенных. Чем более революционна миссия по своей сущности, тем более
важно облечь ее в знакомые и близкие по духу формы. Однако для этого
требовалось бы, чтобы миссия была освобождена от неуместного облачения, в
котором сами миссионеры унаследовали ее от своей культурной традиции. Это, в
свою очередь, потребовало бы от миссионеров, чтобы они взяли на себя
ответственность в установлении того, что существенно, а не что случайно в
традиционных религиозных представлениях.
Затруднение подобной политики состояло в том, что миссионер,
убирая камень преткновения с пути нехристианских обществ, которые он собирался
обращать в свою веру, клал другой камень под ноги своих единоверцев. И на этой
скале первые иезуитские миссии Нового времени в Индии и Китае потерпели
кораблекрушение. Они стали жертвами зависти со стороны конкурирующих
миссионеров и консерватизма Ватикана. Однако это не было еще концом истории.
Если местные пеленки, в которые было завернуто христианство,
когда оно пришло в мир в Палестине, не были бы умело сняты Павлом из Тарса, то
христианские художники римских катакомб и христианские философы богословской
школы в Александрии никогда бы не имели возможности представлять сущность
христианства на языке греческого изобразительного искусства и мысли и тем самым
проложить путь к обращению эллинского мира. И если в XX в. христианской эры
христианство Оригена и Августина не сможет избавиться от внешних атрибутов, приобретенных
на тех сирийских, эллинских и западных почтовых станциях, на которых оно
некогда останавливалось в своем историческом путешествии, оно не будет способно
воспользоваться возможностью всемирного распространения, открытой для каждой
живой высшей религии во время написания этой книги. Высшая религия, которая
позволяет себе стать «окрашенной в пряже», нося на себе отпечаток временного
культурного окружения, обрекает себя на то, чтобы быть неподвижной и
привязанной к земле.
Однако если христианство все‑таки выберет иной путь, то оно
сможет повторить в современной Oikoumene (ойкумене) то, чего оно некогда
достигло в Римской империи. В процессе духовного обмена, который обеспечили
римские средства коммуникации, христианство извлекло из других высших религий и
философских систем, с которыми столкнулось, и унаследовало самое лучшее, что
было в них. В мире, который в материальном плане связан воедино при помощи
множества изобретений современной западной техники, индуизм и махаяна могли бы
внести в христианское понимание и практику не менее плодотворный вклад, чем
некогда внесли культ Исиды и неоплатонизм. И если и в западном мире суждено
возникнуть и пасть империи Цезаря, как его империя всегда терпит крах и
приходит в упадок по прошествии нескольких столетий, то историк, вглядываясь в
будущее из 1952 г., может вообразить, что тогда христианство останется в
качестве единственного наследника всех философских систем от Эхнатона до Гегеля
и всех высших религий вплоть до всегда скрытого культа Матери и ее Сына, которые
начали свое путешествие по Царскому Пути под именами Иштар и Таммуза.
* * *
Гарнизоны и колонии
Насаждение верных сторонников имперского режима, которыми
могут быть солдаты на действительной службе, ополченцы, уволенные в запас
ветераны или штатские, является неотъемлемой частью любой имперской системы
коммуникаций. Наличие, отвага и бдительность этих человеческих сторожевых псов
обеспечивают необходимую безопасность, без которой дороги, мосты и прочее были
бы непригодны для имперских властей. Пограничные столбы являются частью той же
самой системы, ибо линии границы также всегда являются вспомогательными путями.
Однако кроме насаждения гарнизонов в целях поддержания порядка и защиты,
универсальное государство может создавать колонии в более конструктивных целях
восстановления того ущерба, который наносит опустошительная борьба за власть в
предшествующий период «смутного времени».
Именно это имел в виду Цезарь, когда насаждал независимые
колонии римских граждан на месте разоренных Капуи, Карфагена и Коринфа. В ходе
предшествующей борьбы за выживание между местными государствами эллинского мира
римское правительство того времени сознательно наказало Капую за ее вероломное
присоединение к Ганнибалу, а Карфаген – за его преступление, заключавшееся в почти
полной победе над самим Римом, тогда как Коринф за то же самое отношение был
выделен вполне произвольно среди членов Ахейского союза. При республиканском
режиме до Цезаря консервативная партия упорно сопротивлялась восстановлению
трех этих известных городов не столько из страха, сколько из чистой
мстительности. Затянувшиеся споры об обращении с ними стали со временем
символом более широкого вопроса. Заключался ли raison d'etre (смысл)
римского правления в эгоистичном интересе установившего его отдельного
государства или же Империя существовала для общего блага всего эллинского мира,
политическим воплощением которого она стала? Победа Цезаря над сенатом была
победой более либеральной, гуманной и творческой точки зрения.
Разительное отличие в нравственном характере между режимом,
введенным Цезарем, и режимом, им замененным, было специфической чертой не
только эллинской истории. Подобная же перемена отношения к употреблению власти
и злоупотреблению ей сопровождала переход от «смутного времени» к универсальному
государству и в истории других цивилизаций. Однако хотя и можно ясно различить
этот исторический «закон», вместе с тем из него существует множество
исключений. С одной стороны, мы находим, что «смутное время» порождает не
только оторванный от почвы и озлобленный пролетариат, но также и основывает
колонии в широком масштабе, примером чему является множество греческих городов‑государств,
основанных по всей территории бывших владений империи Ахеменидов Александром
Великим. И наоборот, перемена, которая произошла в душе части правящего
меньшинства и которая должна быть психологическим двойником учреждения
универсального государства, редко бывает настолько твердо закрепленной, чтобы
правящее меньшинство время от времени не впадало в жестокую практику предшествующего
«смутного времени». Нововавилонское царство, которое в целом символизировало
нравственный бунт внутренних районов страны вавилонского мира против жестокости
представителей его ассирийской границы, впало в крайность, искоренив Иудею,
точно так же, как Ассирия искоренила Израиль. В этом отношении Вавилону было бы
странно претендовать на нравственное превосходство над Ниневией по причине
того, что иудейским пленникам Вавилона позволили оставаться в живых до тех пор,
пока ахеменидский наследник Вавилона не отправил их снова на родину, тогда как
жертвы Ниневии, «десять потерянных колен», были уничтожены, исчезнув навсегда и
оставшись лишь в воображении «британских израильтян».
Тем не менее, несмотря на все исключения, в целом остается
верным, что относительно творческая и гуманная политика колонизации составляет
один из признаков универсального государства.
Мы провели различие между гарнизонами, созданными в военно‑политических
целях, и колониями, основанными в социально‑культурных целях. Однако, в общем,
это различие только в цели, а не в следствиях. Устройство основателями империй
постоянных военных гарнизонов вдоль границ и во внутренних районах
универсального государства вряд ли не повлечет за собой основание гражданских
поселений. Хотя римским легионерам в период их военной службы и не позволялось
заключать законные браки, тем не менее на практике им разрешали вступать в
постоянные брачные отношения с любовницами и заводить семьи. После выхода в
отставку они могли превратить свою любовную связь в законный брак, а дети их
могли быть признаны законнорожденными. Арабским воинам‑мухаджирам фактически
позволялось привозить своих жен и детей в военные лагеря, где они жили. Так
римские и арабские гарнизоны становились ядрами гражданских поселений. То же
самое можно сказать об имперских гарнизонных постах во всех империях во все
времена.
Однако кроме тех, что возникали в качестве неумышленных
побочных продуктов военных учреждений, основывались также и гражданские колонии
как цели в себе. Например, северо‑восточные районы Анатолии, которые Ахемениды
подарили в качестве уделов своим персидским вассалам, были заселены османами и
албанцами, перешедшими в ислам. В торговых центрах, расположенных в самом
сердце своих владений, османы поселили гражданские общины изгнанных из Испании
и Португалии евреев‑сефардов. Можно было бы привести длинный список колоний,
основанных римскими императорами в качестве центров цивилизации (латинизации
или эллинизации, в зависимости от обстоятельств) в более отдаленных районах
своей Империи. Одним из многих примеров является Адрианополь, название которого
до сих пор напоминает о попытке великого императора II в. «деварваризировать»
традиционно остававшихся варварами фракийцев. Ту же политику проводили
испанские строители империй в Центральной и Южной Америке. Эти испанские
колониальные города‑государства служили ячейками административной и юридической
организации навязанного извне режима и, подобно своим эллинским прототипам, в
экономическом плане были паразитами.
«В англо‑американских колониях города создавались для того,
чтобы удовлетворять потребности жителей страны. В испанских колониях население
страны создавалось для того, чтобы удовлетворять потребности городов. Первичная
цель английского колониста заключалась в том, чтобы жить на земле и получать
средства к существованию из ее обработки. Первичной целью испанца было жить в
городе и получать средства к существованию от индейцев и негров, работавших на
плантациях и в рудниках… Благодаря наличию туземного труда, который можно было
эксплуатировать на полях и в рудниках, сельское население оставалось почти
всецело индейским»{88}.
Типом внутренней колонизации, который, вероятно, становится
наиболее заметным в последней фазе истории универсального государства, является
поселение варварских земледельцев на землях, которые опустели или в результате
набегов, совершаемых самими варварами, или в результате некоей социальной
болезни, свойственной распадающейся империи. Классический пример в картине
Римской империи после Диоклетиана представлен в «Notitia Dignitatum»[352], где
содержатся записи о множестве германских и сарматских самоуправляемых поселений
на римской земле в Галлии, Италии и в Дунайских провинциях. Специальный термин
«лаеты»[353], под которым
эти варварские поселенцы известны, происходит от западногерманского слова,
означающего постоянно живущих полузависимых иностранцев. Мы можем сделать
вывод, что они были потомками побежденных варварских противников, которые
получили вознаграждение или наказание за свои агрессивные действия в прошлом,
будучи вынуждены или убеждены стать мирными земледельцами «земли обетованной»,
которую они прежде опустошали, участвуя в набегах. Они были осмотрительно
поселены во внутренних районах страны, а не вблизи границы.
Обзор гарнизонов и колоний, основанных правителями
универсальных государств, и анализ произвольного перемещения населения, которое
влечет за собой данный процесс, подтверждают, что эти институты, каковы бы ни
были их заслуги в других обстоятельствах, должны были усиливать процесс
всесмешения и пролетаризации, характерный, как мы уже видели, и для «смутного
времени», и для универсальных государств. Постоянные военные гарнизоны,
созданные на границах, становятся «тиглями», в которых правящее меньшинство
смешивается как с внешним, так и с внутренним пролетариатом. Охранники границ и
противостоящие им варварские военные отряды имеют тенденцию со временем
ассимилироваться друг с другом – сначала в военной технике, а затем также и в
культуре. Однако задолго до того, как правящее меньшинство варваризировалось в
результате контактов на границе с внешним пролетариатом, оно
вульгаризировалось, побратавшись с пролетариатом внутренним. Строители империй
редко сохраняют достаточное количество личного состава или же достаточную
склонность к военной деятельности, чтобы удерживать и защищать свою империю без
посторонней помощи. На более поздней стадии они продолжают пополнять свои ряды
также и из варваров, живущих по ту сторону границы.
Кому же на пользу происходит, главным образом, этот процесс
всесмешения и пролетаризации? Очевидно, что наиболее выгоден он внешнему
пролетариату, поскольку обучение, которое варвары приобретают благодаря
аванпостам цивилизации (сначала в качестве противников, а позднее – в качестве
наемников), делает их способными, когда империя разрушается, преодолеть упавшую
преграду и создать государства‑наследники для самих себя. Однако мы уже
останавливались на мимолетном характере этих достижений «героического века».
Наибольшую выгоду из организованного перераспределения и смешения населения в
Римской и Арабской империях получило в одном случае христианство, а в другом –
ислам.
Военные поселения и пограничные гарнизоны халифата Омейядов,
несомненно, служили бесценными points d'appui (опорными пунктами) в том
чрезвычайно интенсивном развертывании скрытых духовных сил, которые преобразили
сам ислам и таким образом изменили его миссию в ходе шести столетий. В VII в.
христианской эры ислам появился в Аравии как особое сектантское вероучение одного
из варварских военных отрядов, которые создавали для себя государства‑наследники
в провинциях Римской империи. К XIII в. он стал вселенской церковью, обеспечив
убежище для овец, оставшихся без своих привычных пастырей во время падения
халифата Аббасидов в процессе распада сирийской цивилизации.
В чем был секрет способности ислама пережить смерть своего
основателя, гибель первобытных арабских строителей империи, упадок иранцев,
которые вытеснили арабов, ниспровержение халифата Аббасидов и падение варварских
государств‑наследников, ненадолго обосновавшихся на развалинах халифата?
Объяснение можно найти в духовном опыте обращенных в ислам среди неарабских
подданных халифата в эпоху Омейядов. Ислам, который они приняли первоначально в
основном по причинам социального эгоизма, пустил корни в их сердцах и был
принят ими серьезнее, чем самим арабами. Религия, которой удалось завоевать
такую преданность ввиду присущих ей достоинств, не была обречена стоять на
месте или приходить в упадок с теми политическими режимами, которые
последовательно стремились использовать ее в нерелигиозных целях. Эта духовная
победа покажется еще замечательнее, если учесть, что для других высших религий
подобное использование в политических целях оказалось фатальным и что ислам тем
самым находился в опасности не только со стороны последователей своего
основателя, но и со стороны самого Мухаммеда, когда он переселился из Мекки в
Медину и стал блестяще преуспевающим государственным деятелем вместо того,
чтобы оставаться явно неудавшимся пророком. В этом tour de force
(усилии) выживания опасность, которой в силу трагической иронии истории подверг
ислам его собственный основатель, свидетельствует о духовной ценности того
религиозного послания, которое Пророк принес человечеству.
Таким образом, в истории халифата осторожная и продуманная
политика строителей империи по насаждению гарнизонов и колоний и по
регулированию перемещения и смешения жителей вызвала неумышленный и неожиданный
результат, ускорив карьеру высшей религии. Соответствующие результаты та же
самая причина произвела и в истории Римской империи.
В первые три века Римской империи наиболее выдающимися и
активными проводниками религиозных влияний были военные гарнизоны,
расположенные вдоль границ. Религиями, которые наиболее быстро распространялись
по этим каналам, были эллинизированный хеттский культ «Юпитера» Долихна[354] и эллинизированный сирийский культ божества
иранского происхождения Митры. Мы можем проследить перемещение двух этих
религий из римских гарнизонов, расположенных на Евфрате, в гарнизоны на Дунае,
затем в гарнизоны на германской границе, на Рейне и, наконец, в гарнизоны,
расположенные вдоль Британского вала. Это зрелище напоминает о другом
путешествии того же времени, которое махаяна на последней стадии своего долгого
пути от Индостана вокруг западного склона Тибетского нагорья проделала от
бассейна Тарима до берегов Тихого океана по цепи гарнизонов, охраняющих границы
древнекитайского универсального государства от кочевников Евразийской степи. В
следующей главе истории махаяне удалось проникнуть с северо‑западных окраин
древнекитайского мира во внутренние его районы, стать впоследствии вселенской
церковью древнекитайского внутреннего пролетариата и, наконец, одной из четырех
основных высших религий современного вестернизированного мира. Судьбы митраизма
и культа Юпитера Долихена были скромнее. Связанные с самого начала с судьбами
римской имперской армии, две эти военные религии так никогда и не оправились от
удара, нанесенного им временным упадком армии в середине III в. христианской
эры. И если они имели какое‑то непреходящее историческое значение, то лишь в
качестве предшественниц христианства и притоков неуклонно растущего потока
религиозной традиции, питаемого слиянием многих вод на дне, которое
христианство проложило для себя, как только вылилось из берегов Римской империи
в другой канал.
Если Юпитер Долихен и Митра использовали пограничные
гарнизоны в качестве средства для достижения своих целей в своем марше от
Евфрата до Тайна, то святой апостол Павел извлек соответствующую пользу из
колоний, основанных Цезарем и Августом во внутренних районах Империи. Во время
своего первого миссионерского путешествия он посеял семена христианства в
римских колониях Антиохии Писидийской и Листре, во время второго – в римских
колониях Троаде, Филиппах и Коринфе. Конечно же, он далеко не хотел
ограничиваться этими колониями. Например, он на два года обосновался в древнем
эллинском городе Эфесе. Тем не менее, Коринф, где он пробыл восемнадцать
месяцев, сыграл важную роль в жизни Церкви в послеапостольский период. Мы можем
предположить, что известность местной христианской общины частично была обязана
космополитическому характеру того поселения римских вольноотпущенников, которое
было основано там Цезарем.
Однако наиболее выдающимся примером римской колонии,
обращенной в христианство, является не Коринф, а Лион. Распространение
христианства из колонии в колонию не прекращалось до тех пор, пока не достигло
метрополии, не прекратилось оно и со смертью святого апостола Павла. Основанный
в 43 г. до н. э. на старательно выбранном месте у слияния рек Роны и Соны,
Лугдунум был римской колонией не только по названию, но и фактически. Это
поселение римских граждан истинно италийского происхождения в преддверии
обширных пространств галльской территории, присоединенной к Империи в
результате завоеваний Цезаря, было задумано, чтобы распространять римскую
культуру на эту Галлию Комату[355], как более
древняя римская колония Нарбон уже распространила ее на Галлию Тогату[356]. Лугдунум был
местонахождением единственного римского гарнизона между самим Римом и Рейном.
Кроме того, он был не только административным центром одной из трех провинций,
на которую делилась Галлия Комата. Он был также официальным местом собрания
«совета трех Галлий», на который представители более шестидесяти кантонов
периодически собирались вокруг Алтаря Августа, воздвигнутого здесь Друзом[357] в 12 г. до н. э. Фактически, Лугдунум
специально был основан для того, чтобы служить важным имперским целям. Однако к
177 г. эта римская колония стала местом прибежища христианской общины,
достаточно энергичной, чтобы вызвать в отношении себя настоящую бойню. И здесь,
как и в других местах, кровь мучеников стала семенем Церкви. Именно епископ
Лугдунума Ириней, греческий писатель, вероятно, сирийского происхождения, на
протяжении предшествующей четверти столетия разработал наиболее раннее
систематическое изложение православного христианского богословия.
Христианство в Римской империи, ислам в халифате и махаяна в
древнекитайском универсальном государстве воспользовались гарнизонами и
колониями, основанными светскими строителями империй в своих собственных целях.
Однако эти непредвиденные религиозные последствия организованного
перераспределения жителей не были столь замечательны, как обращение
Навуходоносора к варварским ассирийским методам. Ибо пленив Иудею,
нововавилонский военачальник не просто стимулировал развитие существующей
высшей религии, но фактически вызвал к жизни новую религию.
* * *
Провинции
Подобно гарнизонам и колониям, равномерно распределявшимся
строителями универсальных государств по своим владениям, провинции, на которые
эти владения разделяются, имеют две отчетливые функции: сохранение самого
универсального государства и сохранение того общества, для социальной системы
которого универсальное государство создает политическую структуру. Можно было
бы привести историю Римской империи и историю Британской империи в Индии для
доказательства того, что двумя главными альтернативными функциями политической
организации универсального государства являются утверждение верховенства
имперской державы и заполнение политического вакуума, возникшего в социальной
системе распадающегося общества в ходе уничтожения или распада его бывших
местных государств.
Степень, в какой основатели универсального государства были
склонны прибегать к методам аннексии и прямой администрации в качестве защитных
мер от опасности восстановления побежденных соперников, несомненно, зависит от
степени преданности упраздненным местным государствам и сожаления о них,
которое продолжает оставаться в душах их бывших хозяев и подданных. А это, в
свою очередь, зависит от темпов завоевания и предшествующей истории общества,
во владениях которого обосновывается универсальное государство. Победоносные
строители империй имеют больше причин опасаться насильственного уничтожения их
работы, когда они устанавливают свое правление одним махом и когда они
насаждают его обществу местных государств, долгое время привыкших пользоваться
и злоупотреблять статусом независимого суверенитета.
В древнекитайском мире, например, эффективное политическое
единство впервые было навязано имперским государством Цинь в течение периода,
не превышавшего и десяти лет (230‑221 гг. до н. э.). За этот краткий промежуток
времени циньский правитель Чжэн победил шесть других, тогда еще сохранявшихся
царств и, таким образом, стал основателем древнекитайского универсального
государства под титулом Цинь Шихуанди[358]. Однако он не
смог с такой же стремительностью уничтожить политическое самосознание бывших
правящих элементов. Проблема, с которой он столкнулся впоследствии, была в
драматической форме представлена историком Сыма Цянем[359] в форме турнира заранее приготовленных речей в
императорском совете. До какого бы результата ни были доведены эти процессы,
несомненно то, что радикальная политика преобладала, и что в 221 г. до н. э.
Цинь Шихуанди принял решение в пользу перераспределения всей территории своего
только что установленного универсального государства между тридцатью шестью
военными округами[360].
Предпринимая этот решительный шаг, император применял по
отношению к шести завоеванным им местным государствам милитаристскую и
нефеодальную систему, которая уже в течение столетия преобладала в его
собственном государстве Цинь. Однако от завоеванных государств вряд ли можно
было бы ожидать, что это им понравится, ибо Цинь Шихуанди являлся
представителем слишком знакомой фигуры в истории установления универсальных государств
– завоевателя из пограничных районов. Правящий класс завоеванных им государств
относился к нему точно так же, как граждане греческих городов‑государств IV
столетия относились к царям Македонии – чуть лучше, чем к «варварам». Народы
культурного центра древнекитайского мира вполне естественно были
предрасположены к идолизации той культуры, основными представителями которой
сами они являлись. Совсем недавно их поощряли в этой их слабости философы
конфуцианской школы. Основатель данной школы диагностировал социальную болезнь,
от которой страдало древнекитайское общество, будучи вынуждено пренебрегать
традиционными ритуалами и практиками, и прописал великолепное средство –
возвратиться к предполагаемому социальному и нравственному строю эпохи раннего древнекитайского
феодализма. Эта канонизация наполовину воображаемого прошлого не произвела
сильного впечатления на правителей и народ Цинь, и стремительное насаждение
институтов этого некультурного пограничного государства вызвало сильное
негодование, на которое Цинь Шихуанди мог предложить единственный ответ лишь в
виде дальнейших репрессивных мер.
Подобная политика повлекла за собой взрыв, и за смертью
императора в 210 г. до н. э. последовало всеобщее восстание, окончившееся
взятием столицы Циньской империи одним из вождей повстанцев Лю Баном[361]. Однако эта
победа насильственной реакции против революционной деятельности основателя
древнекитайского универсального государства не привела к восстановлению ancien
regime[362] . Лю Бан не был членом лишенной собственности
феодальной знати. Он был крестьянином, и ему удалось установить прочное
правление, поскольку он не пытался восстановить ни анахроничный феодальный
строй, ни созданную Цинь Шихуанди его революционную замену. Политика Лю Бана
заключалась в том, чтобы постепенно пробираться ощупью к цезаревской цели
своего предшественника через августовскую видимость компромисса.
В короткий промежуток времени между падением циньской
державы в 207 г. до н. э. и всеобщим признанием Лю Бана в качестве
единственного хозяина древнекитайского мира в 202 г. до н. э. эксперимент по
восстановлению ancien regime был предпринят другим вождем повстанцев Сян
Юем[363] и оказался непригодным. Когда после этой
неудачи Лю Бан стал единственным хозяином древнекитайского мира, его первым
действием было дарование феодальных уделов своим наиболее достойным помощникам.
Он даже не стал трогать тех владельцев, получивших свои уделы при режиме Сян
Юя, которые сумели прийти к соглашению с ним. Однако один за другим наделенные
уделами генералы понижались в звании и предавались смерти, тогда как другие
владельцы часто перемещались из одного удела в другой и с легкостью смещались. Тем
самым у них отнималась возможность установить со своими временными подданными
какие‑либо тесные отношения, которые могли бы представлять опасность. Между
тем, Лю Бан принял действенные меры для поддержания и усиления превосходства
имперской державы. В конце концов, идеал Цинь Шихуанди, идеал универсального
государства, контролируемого из центра посредством иерархии искусственно
созданных единиц местной администрации, был воплощен в реальности еще раз, не
прошло и столетия со смерти Цинь Шихуанди. На этот раз достижение было
окончательным, поскольку фабианская[364] государственная политика Лю Бана и его
наследников дала имперскому правительству время для создания того человеческого
орудия, за недостатком которого грандиозный замысел первого циньского
императора потерпел неудачу.
Централизованное управление не может осуществляться без
профессиональной гражданской службы. Династии Хань, основателем которой явился
Лю Бан, удалось создать эффективную и приемлемую гражданскую службу благодаря
тому, что она вступила в альянс с конфуцианской школой философии и разорвала
прежний альянс конфуцианских философов со старой военной родовой аристократией,
открыв доступ на государственную службу новому и более широкому слою
аристократии, основанной на культурных заслугах, которые определялись
искушенностью в конфуцианских знаниях. Переход был столь постепенным и
осуществлялся столь искусно, что новая аристократия унаследовала историческое
название старой – чун цзе – без какого‑либо открытого признания в том,
что произошла важная социально‑политическая революция.
Если оценивать основателя династии Хань с точки зрения
долговечности его достижения, то его можно считать одним из тех величайших
государственных мужей, чья деятельность положила начало универсальному
государству. Западный мир, знакомый с подобным же, но гораздо менее
замечательным достижением римского императора Августа, за исключением
специалистов по древнекитайской истории, едва ли вообще знает об историческом
существовании Лю Бана. Историки всемирного общества будущего, которое будет
иметь исторические корни во всех цивилизациях прошлого, по‑видимому, проявят
лучшее понимание этого соотношения.
Рассмотрев значение провинциальной организации в
древнекитайском универсальном государстве, мы не будем за неимением места
рассматривать и другие примеры. Мы сразу перейдем к рассмотрению тех услуг,
которые невольно оказывают подобные провинциальные организации тем, для кого
они первоначально не предназначались. Здесь мы снова ограничимся единственным
примером, вспомнив о том, как христианская Церковь использовала в своих нуждах
провинциальную организацию Римской империи.
Создавая церковную организацию, Церковь воспользовалась
городами‑государствами, которые были ячейками эллинской социальной системы и
римской политической системы. А поскольку традиции эллинской цивилизации
постепенно отмирали, то город (city) стал означать административный центр
(town), являющийся местопребыванием христианского епископа[365], вместо того
чтобы означать административный центр, который обладает институтами
гражданского самоуправления и привилегиями, связанными со статусом муниципия в
составе Римского государства. Местного епископа, чей престол находился в центре
римской диоклетиановскои провинции, другие епископы той же провинции начинали
признавать в качестве старшего. Такие митрополиты или архиепископы, в свою
очередь, признавали в качестве своего примаса епископа, чей престол
располагался в административном центре одной из тех групп провинций, которые в
диоклетиановскои системе назывались диоцезами. Это слово Церковь заимствовала,
но применила его по отношению к юрисдикции одного епископа. Епископы,
митрополиты и примасы подчинялись местным патриархам, которым в
диоклетиановскои иерархии соответствовали префекты преторий. Диоклетиановская
префектура Востока со временем была разделена между четырьмя патриархатами –
Александрии, Иерусалима, Антиохии и Константинополя, тогда как три другие
префектуры были объединены в один обширный, но гораздо менее густонаселенный
патриархат Рима.
Эта территориальная организация христианской Церкви не была
создана ни одним из императоров. Она была создана самой Церковью в то время,
когда Церковь была официально непризнанным и время от времени преследуемым
институтом. Благодаря этой первоначальной независимости от светского режима,
провинциальную организацию которого она усвоила в своих собственных целях,
данная структура смогла пережить надлом своего светского двойника. В Галлии,
где неустойчивый имперский режим стремился возродиться на непривычной основе за
счет местной поддержки, устраивая периодические региональные съезды нотаблей,
Церковь, после того как Империя исчезла, воспользовалась этим светским
прецедентом, собирая поместные съезды епископов.
Например, на церковной карте средневековой Франции, в
мозаике епископств историк мог бы различить границы городов‑государств Галлии
Тогаты и округов Галлии Коматы, тогда как архиепископства сохранили очертания
диоклетиановского разделения на четыре августовские провинции – Галлию
Нарбонскую, Аквитанию, Галлию Лугдунскую и Бельгику. Даже все пять патриархатов
– четыре в руках восточных православных христиан, а один в руках западных
католиков – еще продолжали существовать ко времени, когда писались эти строки.
И хотя область их действия, размещение и национальный состав их церковных
подданных претерпели огромные изменения в течение пятнадцати веков со времени
Четвертого Вселенского собора, проходившего в Халкидоне (451 г.)[366], их обидные
потери были вознаграждены теми выгодами, которые они никогда бы не смогли
предсказать в то время, когда патриархаты только складывались.
* * *
Столицы
Центральные правительства универсальных государств имеют
определенную тенденцию с течением времени менять свое место пребывания.
Строители империй обычно начинают управлять своими владениями из наиболее
подходящего для них местопребывания правительства: либо из утвердившейся
столицы своей родины (например, из Рима), либо из некоего нового места,
расположенного на окраине завоеванных территорий и легко доступного для страны
строителя империи (например, из Калькутты). Однако с течением времени опыт
имперской администрации или давление событий приводит самих строителей империи
или их преемников, унаследовавших империю после временного упадка, к выбору
некоего нового места. При этом их привлекают выгодные преимущества данного
места уже не только с точки зрения основавшей империю державы, но с точки
зрения империи в целом. Это новое экуменическое мировоззрение, конечно же, в
различных обстоятельствах будет предлагать [для расположения столицы] различные
места. Если главным соображением является административное удобство, то,
вероятно, будет выбрано место, расположенное в центре, с хорошей системой
коммуникаций. Если главным соображением является защита от агрессора, то,
вероятно, будет выбрано место, наиболее удобное для развертывания сил на
находящейся под угрозой границе.
Мы видели, что основатели универсальных государств не всегда
имеют местное происхождение. Иногда они являются представителями цивилизации,
чужеземной по отношению к тому обществу, в политических целях которого они
прилагают усилия. Иногда они – варвары, ставшие в нравственном смысле
отчужденными от цивилизации, к которой тяготеют, – другими словами,
представители внешнего пролетариата. Иногда, а на самом деле достаточно часто,
это жители пограничных областей, отстаивающие свое право быть членами цивилизации,
защищая ее границы от внешних варваров, прежде чем обратить свое оружие против
внутренних районов собственного общества и наделить его универсальным
государством. Наконец (и подобные случаи, по‑видимому, редки), основателями
универсальных государств могут быть не чужеземцы, не варвары, не жители
пограничных областей, но жители метрополии из внутренних районов данного
общества.
В универсальных государствах, основанных чужеземцами,
варварами или жителями пограничных областей, существует тенденция перемещать
столицу с границы в центр, хотя в последнем из названных случаев она может
удерживаться и на границе благодаря тому факту, что жителям пограничных
областей все еще приходится выполнять свою первоначальную функцию. В
универсальных государствах, основанных жителями метрополии, столица,
естественно, будет основана в центре, хотя она может быть перенесена и на
границу, если угроза агрессии с какой‑либо стороны становится наиболее
неотложной заботой правительства. Теперь мы должны проиллюстрировать те
правила, которые, по‑видимому, регулируют расположение и перемещение столиц.
Британская империя в Индии является выдающимся примером
построения империи чужеземцами. Достигнув Индии по морю и начав торговлю с ее
жителями задолго до того, как они стали мечтать об управлении ею, англичане
основали свои торговые центры в Бомбее, Мадрасе и Калькутте. Последний из
названных центров стал первой политической столицей, поскольку случилось так,
что Ост‑Индская компания[367] установила свое политическое господство над
двумя богатыми провинциями, расположенными вглубь от Калькутты, за целое
поколение до того, как она добилась какого‑либо сравнимого с этим приобретения
в другом месте. Калькутта оставалась столицей Британской Индии в течение более
ста лет после того, как Уэлсли[368] (генерал‑губернатор в 1798‑1805 гг.) замыслил
подчинить всю Индию британскому господству и более пятидесяти лет после того,
как этот замысел был приведен в исполнение. Однако сила притяжения
объединенного в политическом отношении субконтинента в конце концов оказалась
достаточно мощной, чтобы перенести место пребывания центрального правительства
Британской Индии из Калькутты в Дели, который был естественным местонахождением
империи, являясь местом пересечения бассейнов и Инда, и Ганга.
Дели был, конечно же, не только естественным
местонахождением империи. Он был также и историческим местонахождением, являясь
с 1628 г. столицей Великих Моголов. Моголы, подобно британцам, создали для
Индии иностранное универсальное государство, придя в Индию не по морю, но вдоль
северо‑западной границы. Если бы они предвосхищали пример британцев, то они
могли бы основать свою первую столицу в Кабуле. Они так не сделали по причинам,
которые объяснило бы детальное рассмотрение их истории. Дели не был их первой
столицей, но его предшественница – Агра – занимала такое же центральное
местоположение.
Если мы взглянем на Испанскую Америку, то обнаружим, что
строители империи в Центральной Америке сразу и навсегда сделали своей столицей
Теночтитлан (Мехико) – «Дели», не обращая внимания на возможные претензии порта
Веракруса, через который они вошли, – «Калькутты». В Перу они действовали
противоположным образом, основав свою столицу на морском побережье в Лиме,
оказав ей предпочтение перед Куско, старой столицей инков на внутреннем плато.
Объяснение, несомненно, можно найти в том факте, что тихоокеанское побережье
Перу было плодородным и влажным, тогда как атлантическое побережье Мексики нет.
Османы, чужеземцы, создавшие универсальное государство для
восточно‑христианского православного общества, построили целый ряд временных
столиц – сначала в Азии, а затем в Европе, пока не обрели бесподобное
местонахождение своих византийских предшественников.
Когда монгольский великий хан Хубилай (правил в 1259‑1294
гг.) завоевал все континентальные владения дальневосточного общества, он
перенес свою столицу из монгольского Каракорума в китайский Пекин. Однако хотя
это перемещение было продиктовано разумом Хубилая, его сердце продолжало
тосковать по родине, по родовым пастбищам. И наполовину «окитаившийся»
монгольский государственный деятель дал волю своим так и не изменившимся
кочевническим чувствам, построив для себя дополнительную столицу в Шанду –
месте, расположенном на северо‑восточной окраине Монгольского плоскогорья, где
степь ближе всего подходила к новой столице империи. Однако Пекин оставался
центром правительства, а Шанду – местом для отдыха, хотя, несомненно, дела
иногда приходилось вести и там.
В стране Ксанад благословенной
Дворец поставил Кубла‑хан[369].
Пожалуй, мы можем сравнить Шанду с Симлой[370], ибо если
Хубилай тосковал по своей степи, то британские вице‑короли, несомненно,
тосковали по умеренному климату. Мы могли бы даже сравнить Шанду с Балморалом[371], ибо сердце
королевы Виктории[372] также явно стремилось в горы, как сердце
Хубилая – в степь. Мы могли бы пойти еще дальше и вообразить китайского
путешественника XIX в., описывающего обаяние Балморала с таким энтузиазмом,
который был бы способен вдохновить китайского поэта XXV в., чтобы он запечатлел
воспоминание о королеве Виктории и о ее «величественном дворце наслаждений» в
колдовском фрагменте китайской поэзии.
Селевк Никатор[373], основатель
одного из государств‑наследников обширной и недолговечной империи Александра
Великого, представляет собой случай строителя империи, который сомневался по
поводу местоположения своей столицы, поскольку колебался относительно
направленности своих имперских амбиций. Для начала он страстно стремился
завоевать и, фактически, завоевал богатую вавилонскую провинцию бывшей
Ахеменидской империи и основал свою столицу, Селевкию, на правом берегу Тигра в
точке, где он ближе всего подходит к Евфрату. Место было выбрано превосходно, и
Селевкия оставалась великим городом и важным центром эллинской культуры в
течение более пятисот лет. Тем не менее ее основатель был увлечен далее на
запад успешными победами над своими соперниками – македонскими военачальниками,
переместив центр своих интересов в средиземноморский мир и установив свою
главную столицу в Антиохии в Сирии, в двадцати милях от устья Оронта[374]. Результатом
явилось то, что его преемники расточили свою энергию на войны с египетскими
Птолемеями и другими державами Восточного Средиземноморья и потеряли свои
вавилонские владения, отдав их парфянам.
Все приведенные выше примеры взяты из истории империй,
основанных представителями чуждых цивилизаций. Теперь перейдем к рассмотрению
местоположения столиц в империях, основанных варварами.
Родиной персидских варваров, чьи завоевания создали для
сирийского общества универсальное государство в форме империи Ахеменидов, была
гористая, бесплодная и удаленная от больших дорог местность. Согласно истории,
которой Геродот заканчивает свой труд, Кир Великий, создавший империю
Ахеменидов, выступил против того, чтобы персидский народ в соответствии со
своим нынешним положением хозяина мира оставил свою суровую гористую родину и
поселился в одной из более пригодных стран, находящихся в его распоряжении. Это
хорошая история, и мы уже приводили ее ранее в данном «Исследовании» в качестве
иллюстрации превосходства суровых условий для стимулирования человеческой
предприимчивости. Тем не менее исторические факты говорят о том, что более чем
за сто лет до того, как Кир Великий победил своего мидийского сюзерена, один из
его ахеменидских предшественников перенес местопребывание своего правительства
из родной горной местности на первую же завоеванную им равнинную территорию.
Это место называлось Аншан и находилось где‑то возле Суз, хотя точное его
местоположение до сих пор неизвестно. После установления Ахеменидской империи
местопребывание правительства ежегодно перемещалось, в зависимости от времени
года, в одну из нескольких столиц с различным климатом. Однако Персеполь, Экбатану
и даже Сузы (ветхозаветный Шушан) можно рассматривать, в основном, как столицы
церемониала и настроения, а в деловых целях географические условия были более
удобны для сосредоточения дел империи в Вавилоне, столице ее равнинной
предшественницы.
Когда универсальное государство, первоначально созданное для
сирийского мира персидскими строителями империи с Иранского нагорья, в конце
концов, после приблизительно тысячелетнего эллинского господства было
восстановлено варварами из Хиджаза[375],
находившегося на окраине Аравийского нагорья, история повторилась на новом
витке. Благодаря интуиции несогласных между собой олигархов государства‑оазиса
в Хиджазе, пригласивших изгнанного пророка конкурирующей общины в Мекке
поселиться у них и попытаться стать их вождем, в надежде, что он принесет им
согласие, которого они не могли достичь сами, Ятриб[376] через тридцать лет после хиджры стал столицей
империи, охватившей не только бывшие римские владения в Сирии и Египте, но и
все владения бывшей империи Сасанидов. Право Ятриба на статус столицы
правительства заключается в том факте, что это удаленное государство‑оазис
явилось тем ядром, из которого арабская мировая империя мусульман произросла со
стремительностью, невольно вызывающей мысль о божественном вмешательстве, и этот
город стали почитать как Мединат‑ан‑Наби – «город Пророка». Медина оставалась
столицей халифата de jure, во всяком случае, вплоть до основания Багдада
аббасидским халифом Мансуром[377] в 762 г. Однако более чем за столетие до этой
даты омейядские халифы de facto перенесли столицу в Дамаск.
Теперь мы перейдем к случаям универсальных государств,
созданных жителями пограничных областей. В долгой истории египетской
цивилизации политическое единство даровалось или навязывалось обществу не менее
трех раз жителями пограничных областей, обитавших у истоков Нижнего Нила. В
каждом из случаев расширение пограничной полосы до пределов универсального
государства сопровождалось (хотя в третьем случае не сразу) переносом столицы
из места, расположенного в верховьях, Фив (Луксора) или их эквивалента, в
место, более легкодоступное для основной части населения, – в Мемфис (Каир) или
его эквивалент в первых двух случаях, а в третьем случае в пограничную крепость
рядом с беззащитным с военной точки зрения северо‑восточным углом дельты Нила.
В эллинской истории судьба Рима напоминает судьбу египетских
Фив. Рим добился своего признания, отвоевав у этрусков право охранять эллинский
мир от галлов, как Фивы добились своего признания, отвоевав у Эль‑Каб право
охранять первый порог Нила от варваров Нубии. Подобно Фивам, Рим впоследствии
обратил свое оружие на внутренние районы и навязал политическое единство
эллинскому обществу, членом которого являлся. В течение многих столетий он
удерживал свое положение в качестве столицы Империи, которую создал, хотя
вполне вероятно, что если бы Марк Антоний добился своего и исход битвы при
Акциуме был иной, то Рим мог бы на памяти того же поколения, которое явилось
свидетелем завершения основного ряда завоеваний, утратить свое столичное
положение, уступив его Александрии. Тем не менее спустя три столетия ряд
обстоятельств, которые мы не можем здесь описать, привели к переносу столицы
начавшей теперь стремительно приходить в упадок Империи в гораздо лучшее место –
в Константинополь.
Если Константинополь был вторым Римом, то Москва в
домарксистские времена часто претендовала на то, чтобы быть третьим. Теперь мы
можем рассмотреть соревнование между столицами универсального государства
русской православно‑христианской цивилизации. Москва, подобно Риму, начинала
свою карьеру в качестве столицы пограничного государства, противостоявшего
варварам. Как только угроза со стороны монгольских кочевников отступила, Москва
оказалась перед лицом новой опасности со стороны своих ближайших соседей в
западно‑христианском мире – поляков и литовцев – и стала отражать их атаки. В
то время, когда ее будущее в качестве столичного города, казалось, было
обеспечено, она неожиданно лишилась своего статуса по причине неугомонных
амбиций вестернизированного царя в пользу его нового создания – Санкт‑Петербурга,
основание которого на территории, отвоеванной у Швеции, состоялось в 1703 г.
Петр Великий, перенесший местопребывание своего правительства из глубины страны
в точку, которая открывала волшебное окно в сказочную страну, каковой, по его
мнению, был гораздо более просвещенный в технологическом смысле мир, напоминает
Селевка Никатора, переместившегося из отдаленной «азиатской» Селевкии в
Антиохию на Оронте. Однако среди прочих различий можно отметить и следующее.
Покидая Селевкию ради Антиохии, Селевк, будучи чужеземным строителем империи в
Юго‑Западной Азии, оставлял свое новое создание без сильного национального
чувства, которое бы привязывало его к нему, в пользу места, расположенного в
пределах однодневного пути до Средиземного моря, гораздо ближе к центру
эллинского мира. Фактически, он возвращался обратно домой. Однако в русском
случае все соображения чувства были на стороне оставляемой Москвы, а холодный
водный путь на Запад, на котором были открыты окна новой экспериментальной
столицы Петра, был жалким эквивалентом эллинского Средиземноморья. Санкт‑Петербург
удерживал свои позиции в течение двухсот лет. Затем, с началом коммунистической
революции, Москва снова вернула свое, а городу св. Петра пришлось утешаться
новым именем Ленинграда[378]. Любопытно
отметить, что в смысле наименования судьба этого «четвертого Рима» была
обратной судьбе первого. Когда Рим перестал быть столицей универсального
государства, он стал тем, чем, несмотря на усилия Кавура и Муссолини, является
до сих пор – настоящим Санкт‑Петербургом, или городом св. Петра.
Таковы были мотивы, которыми руководствовались правители
некоторых исторических универсальных государств при размещении своих столиц.
Переходя к той непреднамеренной выгоде, которую извлекают из этих столиц скорее
другие, чем правители и окружающее их правящее меньшинство, мы можем начать с
наиболее грубой формы, а именно с захвата и разграбления. Согласно старой
истории, именно этой меркой фельдмаршал Блюхер[379], солдат
державы, славившейся лишь своей военной доблестью, измерял пользу Лондона, когда
проходил по одной из богатейших его улиц в свою бытность гостем принца‑регента[380] после битвы при Ватерлоо. Говорят, он
воскликнул: «Какая добыча!» Можно было бы привести длинный список разграбленных
столиц, и если бы мы стали оценивать результаты победоносных разграблений, то
обнаружили бы сплошь и рядом, что за этими гаргантюанскими пирами[381] следовали приступы несварения желудка.
Эллинское общество IV столетия до н. э. и западное общество XVI столетия н. э.
не просто обесславили себя тем варварством, в какое впадали их воинствующие
поборники. Они были им опустошены. Ибо преступление, которое примитивные
варвары совершают сравнительно безнаказанно, не осталось безнаказанным в
обществах, поднявшихся до уровня денежной экономики. Разграбление сокровищниц
Юго‑Западной Азии первыми и сокровищниц Америки – вторыми пустило в обращение
лавину золотых слитков, что породило катастрофическую инфляцию. Грехи
македонских грабителей Персеполя и испанских грабителей Куско искупались
ионийскими ремесленниками на Кикладах и немецкими крестьянами в Швабии.
Перейдем теперь к менее низким темам. Столицы универсальных
государств очевидным образом представляли собой удобные станции для излучения
всякого рода культурных влияний. Высшие религии оказались пригодными для этих
целей. Во время вавилонского пленения высланных Навуходоносором из Иудеи евреев
столица фактически служила для находившейся в зародыше высшей религии тем
инкубатором, в котором она обрела свое истинное лицо, поменяв местническое
мировоззрение на вселенское.
Местопребывание правительства универсального государства
является действительно благоприятной почвой для посеянных в нее духовных семян,
ибо такой город – это модель всего мира в миниатюре. Его стены охватывают
представителей всех классов и многих наций, а также людей, говорящих на многих
языках. Его ворота открыты для дорог, ведущих во все направления. Один и тот же
проповедник может проповедовать в один и тот же день и в трущобах, и во
дворцах. И если его выслушивает император, то он может надеяться на то, что
могущественная машина имперской администрации окажется в его распоряжении.
Положение Неемии в царском дворце в Сузах дало ему возможность заручиться покровительством
Артаксеркса I[382] для постройки Храма в Иерусалиме. Отцы‑иезуиты,
которым удалось обосноваться при императорском дворе в Агре и императорском
дворе в Пекине в XVI и XVII столетиях христианской эры, мечтали о том, что
завоюют Индию и Китай для католицизма, прибегнув к стратегии Неемии.
Действительно, с течением времени часто оказывается так, что
историческая миссия столиц находится в религиозной сфере. То мощное
воздействие, которое древнекитайский имперский город Лоян[383] все еще оказывал на судьбы человечества в то
время, когда писались эти строки, было не следствием его бывшей политической
роли в качестве столицы дальневосточной династии Чжоу[384], а
впоследствии – Поздней Хань. В политическом отношении Лоян был «заодно с
Ниневией и Тиром». Однако он все еще оказывал свое мощное влияние благодаря
тому, что был рассадником, в котором семена махаяны акклиматизировались к
древнекитайскому культурному окружению, и тем самым стали пригодны для
рассеивания по всему древнекитайскому миру. Покинутая столица Каракорум также
все еще невидимо продолжала жить, поскольку непреднамеренным следствием
ослепительной политической карьеры этого эфемерного степного города в XIII
столетии христианской эры явилось то, что он столкнул лицом к лицу миссионеров
римско‑католического Запада с центрально‑азиатскими последователями
несторианства и тибетскими последователями ламаизма.
Говоря более понятным языком, в 1952 г. было очевидно, что
Петр и Павел, а не Ромул и Рем или Август явились создателями «вечного»
значения Рима. Константинополь же, второй и христианский Рим, оставив позади
себя все свои проявления в качестве столицы универсального государства, был
обязан тем влиянием, которое он оказывал на мир, нахождению в нем патриарха,
которого главы других восточно‑православных Церквей, включая Русскую церковь,
признали primus inter pares[385] .
* * *
Государственные языки и системы письма
Можно считать почти доказанным, что универсальное
государство обеспечит себя официальными средствами интеллектуальной
коммуникации и что они будут включать в себя не только языки устного общения,
но также и определенную систему визуальной записи. Почти во всех случаях
система визуальной записи принимает форму записи официального языка. И хотя
инкам удавалось поддерживать почти тоталитарный режим без помощи какой‑либо
системы записи, выходящей за рамки невыразимой семантики кипу[386],
этот случай следует рассматривать как исключительный tour de force (дело
необычайной трудности).
Были случаи, когда какой‑то один язык и какая‑то одна
система письма заставляли отступить с поля битвы всех своих соперников еще до
установления универсального государства. В египетском «Среднем царстве»,
например, должны были пользоваться классическим египетским языком и
иероглифической системой письма. В Японии эпохи сёгуната должны были
пользоваться японским языком, а система письма частично была отобрана из китайской[387]. В Российской
империи должны были пользоваться русским языком, а система письма была
великорусской разновидностью славянской версии греческого алфавита. Однако эта
простая ситуация не была чем‑то обычным. Гораздо чаще строители империй
оказывались в области официального языка и системы письма не перед
совершившимся фактом, но перед трудным выбором между множеством соперничающих
кандидатов.
В этих обстоятельствах большинство строителей империй
пускают в официальное обращение свой родной язык, и если он не имел до сих пор
графического изображения, то они заимствуют уже готовое или создают в этих
целях новое. Действительно, были случаи, когда строители империй отказывались
от своего родного языка в пользу другого, уже использующегося в качестве lingua
franca в их владениях, или даже в пользу восстановленного классического
языка. Однако наиболее обычным случаем является тот, когда строители империй
пускают в обращение свой национальный язык и систему письма, не давая им какого‑либо
исключительного права.
Эти общие утверждения теперь можно проиллюстрировать обзором
фактов.
В древнекитайском мире эту проблему решил характерным для
него радикальным образом Цинь Шихуанди. Основатель древнекитайского
универсального государства пустил в исключительное обращение ту версию
китайских письмен, которая официально использовалась в его собственном родовом
государстве Цинь. Тем самым ему удалось приостановить слишком далеко зашедшую к
концу предшествующего «смутного времени» тенденцию каждого из «борющихся
царств» развивать местную систему письма, понятную лишь отчасти для
образованных людей за пределами этих местных государств. Поскольку
древнекитайские письмена были «идеограммами», передающими смысл, а не
«фонемами», представляющими собой звуки, то результатом действия Цинь Шихуанди
явилось наделение древнекитайского общества единообразным визуальным языком.
Этот язык продолжал служить (несмотря на то, что разговорные языки разделялись
на непонятные друг для друга диалекты) средством экуменического общения для
небольшого меньшинства, которое могло научиться читать или писать на нем –
точно так же, как в современном западном мире арабские цифры передают один и
тот же смысл на бумаге для народов, которые в устном общении называют числа
разными названиями. Однако, как показывает эта аналогия, стандартизация Цинь
Шихуанди древнекитайских письмен не смогла устранить вавилонского смешения
языков, поскольку не было иных сил, способных работать в пользу единообразия не
только системы письма, но и языка.
Стандартизация древнекитайских письмен, возможно, была
предвосхищена неизвестным основателем минойского универсального государства.
Хотя ни одна из систем письма, использовавшихся в минойском мире, не была
дешифрована в то время, когда писалось это «Исследование»[388], их
последовательность свидетельствовала о революционной реформе в искусстве
письма. При переходе от среднеминойского II к среднеминойскому III периоду две
отдельные иероглифические системы письма, появившиеся одновременно в начале
предыдущего периода, неожиданно и полностью были вытеснены одной новой линейной
разновидностью письма (линейное письмо А)[389]. Из истории
сирийского общества мы узнаем, что у Цинь Шихуанди был двойник в лице
омейядского халифа Абд аль‑Малика (правил в 685‑705 гг.)[390], который в
качестве официального средства ведения государственных записей заменил
арабскими языком и письмом греческие в бывших римских провинциях Арабского
халифата и пехлевийские – в бывших сасанидских провинциях.
Теперь мы можем перейти к некоторым примерам более часто
встречающейся практики использования универсальным государством нескольких
официальных языков и систем письма, включая собственные язык и систему письма
строителей империи.
В Британской империи в Индии родной английский язык
строителей империи в определенных целях заменял персидский – официальный язык,
оставленный в наследство моголами. В 1829 г., например, правительство
Британской Индии сделало английский средством своей дипломатической переписки,
а в 1835 г. – языком высшего образования. Однако когда в 1837 г. был предпринят
последний шаг к лишению персидского языка его официального статуса в Британской
Индии, местное колониальное правительство не ввело английский во всех других
целях, которым прежде служил персидский. В ведении юридических и финансовых
дел, которые лично касались индийцев всех национальностей, каст и классов,
персидский был заменен не английским, а местными диалектами.
Санскритизированный диалект хинди, известный как хиндустани[391], фактически
был создан британскими протестантскими миссионерами, чтобы снабдить индусское
население Северной Индии дубликатом персизированного диалекта хинди, известного
как урду[392], который
индийские мусульмане уже создали для себя. Это человеческое и политическое
решение воздержаться от злоупотребления политической властью, связанного с
исключительным использованием иностранного языка чуждых строителей империи,
возможно, частично объясняет тот замечательный факт, что когда 110 лет спустя
потомки этих строителей империи передали свое правление в руки потомков их
индийских подданных, то в обоих многоязычных государствах‑наследниках было
воспринято как нечто само собой разумеющееся то, что английский язык остался,
по крайней мере, временно, в употреблении для целей, которым он служил при
Британской империи.
Противоположным же случаем является безуспешная попытка
императора‑короля Иосифа II (правил в 1780‑1790 гг.)[393], одного из
так называемых просвещенных деспотов западного мира в поколении,
предшествовавшем Французской революции, насадить немецкий язык среди иноязычных
народов дунайской Габсбургской монархии. Хотя экономическая выгодность и
культурное удобство говорили в пользу этого политического диктата, языковая
политика Иосифа потерпела сокрушительное поражение и вызвала первые волны тех
националистических движений, которые через столетие с небольшим разорвут
Габсбургскую империю в клочья.
Турецкие хозяева Оттоманской империи никогда не прибегали к
политике, которая с успехом была применена в Арабском халифате и безуспешно – в
дунайской Габсбургской монархии. Родной турецкий основателей империи был официальным
языком имперской администрации, однако во времена расцвета Оттоманской державы
в XVI‑XVII вв. христианской эры lingua franca придворных рабов был сербо‑хорватский,
a lingua franca оттоманского флота – итальянский. Кроме того, в области
гражданской оттоманское правительство, подобно правительству Британской Индии,
следовало такой политике, которая позволяла использовать языки по своему выбору
в общественных делах, в значительной степени имевших отношение к частной
деятельности индивидов.
Подобную сдержанность проявляли и римляне в насаждении
латыни в качестве официального языка в тех провинциях своей Империи, где
греческий был или родным, или признанным lingua franca. Они
довольствовались тем, что сделали латынь особым языком военных приказов для подразделений
имперской армии, где бы они ни набирались и где бы они ни размещались, и
основным языком муниципальной администрации для колоний латинского
происхождения на греческой или восточной почве. В других целях они продолжали
использовать аттический koine там, где он уже был в официальном
употреблении, и подчеркнули его официальный статус, предоставив ему равное
место с латынью в центральной администрации в самом Риме.
Терпимость римлян к греческому языку была чем‑то большим,
нежели данью уважения к превосходству греческого над латынью в качестве
средства передачи культуры. Она представляла собой замечательную победу
искусства государственного управления над высокомерием, поскольку на обширных
западных территориях Империи, где греческий не соревновался с латынью, победа
латыни была поразительной. Так, далекие от того, чтобы насаждать использование
латыни своим подданным и союзникам, жившим вне сферы распространения греческого
языка, римляне находились в счастливом положении, поскольку могли усиливать привлекательность
латыни, относясь к ее использованию как к привилегии, которую нужно искать. Не
одержала латынь свою мирную победу и единственно за счет языков, которые так
никогда и не развились до уровня письменных. В Италии ей пришлось бороться с
сестринскими италийскими диалектами, такими как оскский и умбрский, и с
иллирийскими диалектами, такими как мессапийский и венетский, которые некогда
находились на одном культурном уровне с латинским – не говоря уже об этрусском,
обремененном культурным наследием своей анатолийской прародины. В Африке ей
пришлось бороться с пуническим языком. Из этих соревнований латынь неизменно
выходила победительницей.
Еще более поразительная сдержанность была проявлена
шумерскими основателями «Царства четырех стран света», когда они поставили на
равных со своим собственным шумерским языком выскочку, каким явился аккадский
язык. Прежде чем это универсальное государство пришло к концу, аккадский язык
одержал победу, а шумерский стал практически мертвым языком.
Ахемениды уделяли в управлении своей империей столь же
скромное место своему родному персидскому языку, сколь и своей персидской
родине. Отчет Дария Великого о своих деяниях на Бехистунской скале[394], нависающей
над великой северо‑восточной дорогой империи, был переписан трижды тремя
различными способами клинописи, использовавшимися для передачи трех различных
языков трех имперских столиц: на эламском – для Суз, на мидийско‑персидском –
для Экбатан и на аккадском – для Вавилона. Однако победившим языком
универсального государства не был ни один из этих трех почитавшихся официально
языков. Им стал арамейский с более удобной системой алфавитного письма.
Последующие события показали, что для судьбы языка торговля и культура могут
оказаться важнее, чем политика, ведь носители арамейского языка в политическом
отношении не пользовались авторитетом в империи Ахеменидов. Ахеменидское
правительство признало коммерческий fait accompli[395],
придав арамейскому языку запоздалый официальный статус, однако самой
замечательной победой арамейского языка было то, что его письменности удалось
заменить клинопись в качестве средства передачи персидского языка в
послеахеменидский период.
В империи Маурьев философу‑императору Ашоке (правил в 273‑232
гг. до н. э.) удалось примирить требования беспристрастной справедливости и
практической выгоды, используя множество местных диалектов, передававшихся при
помощи двух различных систем письма – брахми[396] и кхароштхи[397]. Эта
вселенскость была вызвана целенаправленным стремлением императора ознакомить
подвластные ему народы с путем спасения, открытым для человечества учителем
Ашоки – Гаутамой. Подобные же мотивы побудили испанских завоевателей империи
инков разрешить использование кечуа[398], являвшегося lingua
franca, для распространения католической веры среди своих американских
подданных.
Если теперь мы попытаемся сделать вывод, задавшись вопросом,
какая сторона извлекала выгоду из использования официальных языков, то мы
обнаружим, что это восстановители империй, в которых данные языки были в
официальном употреблении, недавно возникшие светские учреждения разного рода, а
также проповедники высших религий. Вывод по поводу языков и систем письма
достаточно очевиден, чтобы не приводить дальнейших примеров.
Из языков, упомянутых в ходе нашего обзора, ни один не имел
столь замечательной дальнейшей истории, как арамейский, менее большинства всех
других языков обязанный покровительству правителей универсального государства,
в котором началось его продвижение вверх. После уничтожения империи Ахеменидов
Александром арамейский язык был бесцеремонно вытеснен аттическим koinê в
его официальном статусе, который Ахемениды пожаловали ему в своих западных
владениях. Хотя он и лишился таким образом официального покровительства, тем не
менее арамейский язык завершил процесс культурного завоевания, который начал
еще до того, как получил официальный статус, вытеснив аккадский на востоке и
ханаанейский – на западе в качестве живых языков всего семитоязычного населения
«Благодатного полумесяца»[399]. Например,
именно на этом языке Иисус должен был разговаривать со Своими учениками. Что
касается арамейского алфавита, то он совершил еще более обширные завоевания. В
1599 году он был принят в качестве средства передачи маньчжурского языка
накануне маньчжурского завоевания Китая. Высшие религии ускоряли его
распространение, принимая его на службу. В своем варианте, называемом
«квадратным древнееврейским письмом», арамейский алфавит стал средством
передачи иудейских Писаний и богослужения. В арабской переделке он стал
алфавитом ислама. В своем сирийском варианте он беспристрастно служил взаимно
противоположным ересям несторианства и монофизитства. В авестийской переделке
одного из его вариантов – пехлеви – он сохранил священные книги зороастрийской
церкви. В манихейской переделке он служил ересиарху[400], в ненависти
к которому сходились и христиане, и зороастрийцы. В варианте кхароштхи он
предоставил императору Ашоке инструмент для передачи учения Будды своим
подданным в бывшей ахеменидской провинции – Пенджабе.
* * *
Право
Поле социальной деятельности, которое является доменом
права, разделяется на три большие области: это административное право, которое
устанавливает обязанности граждан по отношению к правительству, затем уголовное
право и гражданское право, которые точно так же занимаются действиями, в
которых обе стороны выступают в качестве частных лиц. Правительство, конечно
же, не может быть равнодушным к административному праву, поскольку первая
забота правительства – насаждать свою власть и подавлять все акты неповиновения
(от государственной измены до неуплаты налогов), в которых подданный может
показать свою непокорность воле правительства. Те же самые соображения
заставляют правительство заботиться и об уголовном праве. Ибо хотя преступник,
быть может, прямо или намеренно и не нападает на правительство, он фактически
мешает правительству в выполнении его задачи по сохранению порядка. С другой
стороны, в той мере, в какой правительства заботятся о гражданском праве, они
действуют, скорее, в пользу своих подданных, нежели в свою собственную пользу.
Неудивительно, что будут существенные различия в той степени, в какой
правительства универсальных государств заботятся о праве в этой области.
В области права перед универсальными государствами стоит
особая проблема, с которой не сталкиваются местные государства. Их территории
включают в себя подданных множества завоеванных местных государств, которые не
исчезают бесследно, оставляя – в области права, равно как и в других областях,
– наследство, с которым их разрушитель и наследник вынужден считаться.
Существует, по крайней мере, один пример, когда строители империй (в данном
случае монголы) настолько уступали своим завоеванным подданным, что оказались
неспособны навязать им хотя бы частично свое наследственное право. Османы осуществляли
жесткий контроль в области административного и уголовного права, однако им
пришлось избегать вмешательства в гражданское право своих нетурецких подданных.
С другой стороны, в древнекитайском мире Цинь Шихуанди характерным для него
образом насадил экуменическое единообразие в области права одним махом, издав
указ о том, чтобы законодательство, действующее в его родовом царстве Цинь,
применялось бы по всей территории шести соперничающих государств, которые были
завоеваны и присоединены к его царству. Его поступок имеет, по крайней мере,
две аналогии в современной западной истории. Наполеон вводил вновь созданную
кодификацию французского права на всех итальянских, фламандских, немецких и
польских территориях своей империи, а британское правительство в Индии вводило
общее право Англии (частично в его первоначальной форме, частично – в
переделках, воплотившихся в местном законодательстве) на всех индийских
территориях, находившихся под непосредственным его управлением.
Римляне медленнее, чем британцы, Наполеон или Цинь Шихуанди,
достигли правового единообразия в своей Империи. Жить, подчиняясь римскому
праву, было одной из известных привилегий римского гражданства, и процесс
постепенного присвоения гражданства подданным Империи завершился опубликованием
в 212 г. эдикта Каракаллы[401]. В
параллельной истории халифата владычество исламского права постепенно
распространялось благодаря обращению немусульманских подданных халифата в
религию строителей империи.
В тех универсальных государствах, где постепенная
стандартизация права привела к достижению приблизительного однообразия, иногда
следовала дальнейшая стадия, на которой унифицированное имперское право
кодифицировалось имперскими властями. В истории римского права первым шагом на
пути к кодификации было «замораживание» – издание в 131 г. н. э. «Вечного эдикта»[402], который до
этого заново провозглашался каждым последующим городским претором в начале
своего вступления в должность, а заключительными шагами было обнародование Кодекса
Юстиниана в 529 г. и Юстиниановых Институций и Дигестов в 533 г.[403] В шумерском «Царстве четырех стран света»
более ранний кодекс, составленный при шумерских правителях, царствовавших в
Уре, по‑видимому, явился основой позднейшего кодекса, обнародованного
аморитским реставратором империи – Хаммурапи Вавилонским, как было выяснено в
1901 г. современным западным археологом Ж. де Морганом[404].
Как правило, потребность в кодификации достигает своей
высшей точки в век, предшествующий социальной катастрофе, долгое время спустя
после того, как миновал пик достижений в юриспруденции, и когда законодатели
этого времени безвозвратно бежали с поля проигранной битвы с неуправляемыми
силами разрушения. Сам Юстиниан не раньше восстал против Судьбы и бросил ей в
лицо впечатляющие баррикады своего Corpus iuris, чем был заставлен
безжалостными гончими фурий бегать, играя в «зайца и собак»[405], вынужденный
разбрасывать на ходу предательские листы своих Новелл[406]. Однако с
течением времени Судьба склонна благожелательно обходиться с кодификаторами.
Ибо мед восхищения, от которого их оскорбленные предшественники, жившие в лучшие
времена, несомненно, отказались бы, был бы принесен в жертву их теням
потомством, слишком далеким, слишком варварским и слишком сентиментальным,
чтобы оно было способно дать правильную оценку их работе.
Однако даже это некритически восхищающееся потомство
обнаруживает, что освященные кодексы не могут быть использованы до тех пор,
пока они не преобразованы. Когда мы говорим «преобразованы», то имеем в виду
нечто очень похожее на изменение, которое претерпел шекспировский Моток, когда
Питер Клин воскликнул: «Господь с тобой, Моток! Господь с тобой! Тебя
преобразили!» – после того как он увидел, что у его друга ослиная голова[407]. За Юстиниановым
царствованием немедленно последовала лавина ломбардских, славянских и арабских
нашествий. Точно так же в последней фазе существования империи Шумера и Аккада
напряженная работа Хаммурапи по политическому и социальному освоению долины
Сеннаар столь же незамедлительно была размыта касситским вторжением с
возвышенностей. Когда Лев Восстановитель[408] и его преемники после фактического
междуцарствия, длившегося 150 лет, принялись за восстановление Византийской
империи, они нашли более подходящие материалы в Моисеевом Законе, нежели в
Юстиниановом Corpus iuris. В Италии же надежды на будущее были связаны
не с Corpus iuris, а с Уставом св. Бенедикта.
Так умер и был погребен Кодекс Юстиниана. Однако он
вновь вернулся к жизни, примерно четыре столетия спустя, в юридическом
ренессансе XI в. в Болонском университете. Из этого центра и с этого времени он
распространял свое влияние во все концы расширяющегося западного мира,
выходившего далеко за пределы мира, известного Юстиниану. Благодаря способности
Болоньи к интеллектуальному «холодильному хранению» в «темные века», версия
римского права была «доставлена» в современную Голландию, Шотландию и Южную
Африку. В православно‑христианском мире Corpus iuris пережил менее
суровое испытание, пребывая в бездействии в течение трех столетий в
Константинополе и вновь появившись в X в. христианской эры в качестве Кодекса,
которым Македонская династия[409] заменила Моисеево законодательство своих
сирийских предшественников VIII в.
Мы не будем останавливаться на описании проникновения
римского права в обычаи тевтонских варварских государств, у которого впереди не
было будущего. Гораздо более важным и поразительным является его тайное, не
признаваемое открыто, однако безошибочное проникновение в исламское право
арабских завоевателей бывших римских провинций. Два элемента, сочетавшиеся
здесь, были даже еще несовместимее. Результатом их смешения явилось создание не
просто местного нрава варварского государства, но экуменического права, которое
должно было служить нуждам восстановленного сирийского универсального
государства. Пережив надлом этой политической структуры, оно должно было
определять и формировать жизнь исламского общества, которое после падения
халифата продолжало расширяться до тех пор, пока ко времени написания его
владения не распространились от Индонезии до Литвы и от Южной Африки до Китая.
В отличие от своих тевтонских двойников, первобытные арабы‑мусульмане
подверглись резкому изменению своего традиционного архаического образа жизни
еще до того, как испытали дополнительное потрясение, вызванное неожиданной
переменой социального окружения, когда они были внезапно перенесены из пустынь
и оазисов Аравии в поля и города Римской и Сасанидской империй. Длительное
воздействие сирийского и эллинского культурных влияний на Аравию породило
совокупный социальный результат, драматически проявившийся в личной карьере
пророка Мухаммеда. Его достижения были настолько поразительны, а личность
настолько сильной, что его пророчества и деяния, записанные в Коране и в
преданиях, были восприняты последователями Мухаммеда в качестве источника права
для регуляции не только жизни самой мусульманской общины, но также и для регуляции
отношений между мусульманами‑завоевателями и их в первое время гораздо более
многочисленными немусульманскими подданными. Скорость и размах мусульманских
завоеваний соединились с общей иррациональной основой свежеиспеченного права
мусульманских завоевателей, чтобы создать еще более труднопреодолимую проблему.
Задача извлечения из Корана и преданий экуменического права для лишенного
первоначальной простоты общества была столь же нелепой, сколь и требование
добыть воду среди пустыни, которое дети Израиля предъявляли Моисею.
Для юриста, ищущего правовой пищи, Коран был действительно
каменистой почвой. Те главы, которые относятся к неполитическому мекканскому
периоду миссии Мухаммеда, предшествовавшему хиджре, давали гораздо меньше
материала для юриста‑практика, чем он мог бы найти в Новом Завете. Они
содержали немногим больше, чем решающее в религиозном смысле и настойчиво
повторявшееся заявление о единстве Бога и обличения политеизма и
идолопоклонства. Главы, созданные впоследствии в Медине, как могло показаться
на первый взгляд, были более многообещающими. Ибо в хиджре Мухаммед достиг при
жизни такого положения, которого не достигал ни один из последователей Иисуса
вплоть до IV в. христианской эры. Он стал главой государства, а его изречения с
этого времени в основном касались общественных дел. Однако было бы, по крайней
мере, столь же трудно извлечь всестороннюю систему права даже из мединских сур,
не прибегая к постороннему подкреплению, сколь и проделать тот же самый
юридический трюк с Посланиями св. апостола Павла.
В этих обстоятельствах люди действия, создавшие Арабский
халифат, позволили теории рискнуть и прибегнуть к внешней помощи. Они вышли из
положения при помощи здравого смысла, аналогии, единодушия и обычая. Они брали
то, чего хотели, там, где только могли это найти, и если набожные люди могли
предположить, что это сошло прямо с уст Пророка, то тем лучше. Среди
награбленных таким образом источников римское право занимало важное место. В
некоторых случаях они заимствовали прямо из этого источника в его
провинциальной сирийской версии. Однако, возможно, еще чаще римское право
достигало ислама через посредство евреев.
Еврейское право, за которым ко времени мухаммедовской хиджры
уже была такая долгая история, возникло, подобно исламскому шариату[410], как обычная
варварская практика кочевников, которые ворвались из степей Северной Аравии в
поля и города Сирии. Для удовлетворения той же самой потребности в неожиданном
и резком изменении социального окружения примитивные израильтяне, подобно
примитивным арабам, прибегли к помощи уже существующего права умудренного опытом
общества, которое они нашли в Земле обетованной.
Хотя Декалог[411], по‑видимому,
был чисто древнееврейским созданием, следующая часть израильского
законодательства, известная ученым как Свод законов Завета{89},
выдает заимствования из Свода законов Хаммурапи. Этот приток законов из
шумерского права в законодательство, установленное, по меньшей мере, девятью
столетиями позднее в одной из местных общин нового сирийского общества, свидетельствует
о глубине и долговечности корней, которые шумерская цивилизация пустила на
сирийской почве в течение тысячелетия, окончившегося в поколении Хаммурапи. В
течение примерно тысячелетия, последовавшего за этим, произошел ряд
беспорядочных социальных и культурных революций, однако шумерское право,
воплощенное в Своде законов Хаммурапи, оставалось в силе среди потомков
сирийских подданных или сателлитов Хаммурапи. И действовало оно с такой силой,
что запечатлелось на незрелом законодательстве древнееврейских варварских
завоевателей Ханаана.
Войдя таким образом в право варваров, среда которых явилась
инкубатором высшей религии, шумерское право, подобно римскому, оставило более
значительный след в истории, чем когда оно влияло на варваров, чьим уделом было
бесславное исчезновение, обычное для их рода. Ко времени написания шумерское
право все еще являлось живой силой благодаря Моисеевой редакции. С другой
стороны, исламский шариат не был ни единственным, ни самым живым носителем
римского права к этому же самому времени. В XX в. христианской эры главными
прямыми наследниками римского права были каноны восточно‑православной и западно‑католической
христианских Церквей. Таким образом, в области права, как и в других областях
социальной деятельности, главным институтом, получившим основную выгоду от
создания универсального государства, был институт, созданный внутренним
пролетариатом.
* * *
Календари; меры и весы; деньги
Стандартные меры времени, расстояния, длины, объема, веса и
ценности являются необходимыми для общественной жизни на любом уровне,
превышающем примитивный. Использование такого рода мер обществом предшествует
появлению всяких форм правления. Они становятся предметом заботы правительств,
как только эти последние появляются. Позитивным основанием для появления
правительств является обеспечение центрального политического руководства
общественными предприятиями, а осуществлять это руководство нельзя без
стандартных мер. С другой стороны, негативным основанием для появления
правительств является гарантия, по крайней мере, минимума социальной
справедливости в отношениях между подданными, и в большинстве частных вопросов
«бизнеса» предполагаются стандартные меры такого рода. Стандартные меры тем
самым касаются любых правительств, однако в особенности они касаются
универсальных государств. Эти последние по самой своей природе сталкиваются с
проблемой сплочения гораздо большего разнообразия подданных, чем их обычно
находится под властью местного государства. При этом у универсальных государств
есть особая заинтересованность в социальном однообразии, которое создают
стандартные меры, если они эффективно проводятся в жизнь.
Из всех стандартных систем мер потребность в системе
счисления времени ощущается раньше других, и первой необходимостью здесь
является система счисления времен годового цикла. Она требует гармонизации трех
различных природных циклов – циклов года, месяца и дня. Первые хронометристы
быстро открыли, что соотношения между циклами выражаются не в простых дробях,
но в иррациональных числах. Поиск magnus annus[412],
в рамках которого все эти несовпадающие циклы начинались бы одновременно, а в
конечном счете вновь возвращались бы к следующей совместной отправной точке,
уже в египетском, вавилонском и майянском обществах привел к практическому
применению астрономических вычислений, результаты которых ошеломляют. Вступив
однажды на этот путь вычислений, подающие надежды астрономы были вынуждены
принимать в расчет не только циклические движения солнца и луны, но также и
движения планет и «неподвижных» звезд. Их хронологический горизонт расширился
до такой степени, какую было трудно выразить и еще труднее представить, – каким
бы узким и ограниченным он ни показался современным космогонистам, в чьих
глазах наша отдельно взятая солнечная система – не более чем частица звездной
пыли в Млечном Пути, а сам Млечный Путь – не более чем бывшая туманность среди
мириад туманностей, проходящих путь от рождения из вспышки пламени до своей
смерти в результате испепеления.
Не достигнув последней стадии в интеллектуальном
исследовании хронологических величин, общий наименьший делитель периодических
совпадений между видимыми движениями солнца и движениями одной из «неподвижных
звезд» составил египетский «сотический цикл»[413] в 1 460 лет, а периодический общий цикл
солнца, луны и пяти планет – вавилонский Magnus Annus в 432 000 лет,
тогда как в громадном майянском Великом Цикле в 374 440 лет соединилось вместе
не менее десяти отдельных составляющих циклов. Этот изумительно точный, хотя и
чрезвычайно сложный майянский календарь «Старое царство» майя завещало
аффилированным юкатанскому и мексиканскому обществам.
Правительства, подобно астрономам, проявляют свою
заинтересованность в вычислении границ года, так же как и в выделении
периодического годового цикла. Ведь первой заботой любого правительства
является поддержание своего существования, и даже самый наивный администратор
вскоре обнаруживает, что не может вести своего дела, не ведя каких‑либо
постоянных записей о своих действиях. Одним из методов, применявшихся
правительствами, была датировка своих действий именами обладателей некоей
годовой должности, такой, например, как римский консулат. Так, Гораций в одной
из своих од рассказывает нам, что он родился consule Manlio, когда
Манлий был консулом, точно так же, как лондонец вынужден датировать время
своего рождения именем того городского магната, который был в тот год лорд‑мэром.
Неудобство такой системы очевидно. Никто не может ни запомнить имена всех
консулов, ни порядок их смены[414].
Единственной удовлетворительной системой является выбор
некоего отдельного года в качестве исходной даты и нумерация лет, следующих за
ним. Классическими примерами являются эры, начинающиеся с занятия фашистами
Рима, с установления Первой Французской республики, с хиджры пророка Мухаммеда
из Мекки в Медину, с установления династии Гуптов в индском мире, с
установления хасмонейского государства‑наследника империи Селевкидов в Иудее, с
триумфального восстановления власти Селевка Никатора в Вавилоне.
Были и другие случаи, в которых эры отсчитывались от
событий, точная датировка которых сомнительна. Например, нет оснований
полагать, что Иисус действительно родился в первый год христианской эры, как
стало принято считать в VI в. этой эры. Нет оснований полагать, что Рим
действительно был основан в 753 г. до н. э. или что олимпийские игры впервые
были отпразднованы в 776 г. до н. э. Еще меньше оснований полагать, что мир был
создан 7 октября 3761 г. до н. э. (согласно иудеям), 1 сентября 5509 г. до н.
э. (согласно православным христианам) или же в шесть часов вечера 23 октября
4004 г. до н. э. (согласно англо‑ирландскому хронологисту XVII в. архиепископу
Ашеру[415]).
В двух предыдущих абзацах эти эры были перечислены в
нисходящем порядке фактической обоснованности дат выбранных событий. Однако
если мы теперь сделаем повторный обзор списка, отталкиваясь от относительного
успеха тех же самых эр в достижении широкой и длительной употребительности, то
мы увидим, что талисманом, который оказывался решающим в их успехе или неудаче,
является наличие или отсутствие религиозной санкции. В 1952 г. западно‑христианская
эра преобладала во всем мире, и ее единственной серьезной соперницей была
теперь исламская эра, в то время как иудеи со своей обычной настойчивостью все
еще официально продолжали вести отсчет с предполагаемой ими даты творения.
Фактически существует традиционная связь между системой исчисления времени
человеческим интеллектом и влиянием религии на человеческие души. Живучесть
этого предрассудка в недосягаемых подсознательных глубинах души (даже в
обществах, достигших такого уровня развития, на котором астрология была открыто
дискредитирована) подтверждается редкостью случаев, когда удалось бы достичь
успеха в проведении рациональной реформы календаря. Французская революция, чьи
рационализированные своды законов распространились по всем концам земли и чьи
педантичные новомодные весы и меры – граммы, килограммы и миллиграммы, метры,
километры и миллиметры – пользовались succes fou[416],
потерпела сокрушительное поражение, когда попыталась заменить языческий римский
календарь, освященный христианской Церковью. Однако французский революционный
календарь был привлекательным созданием[417]. Месяцы
носили названия, которые, будучи разделены на четыре сезонные группы по три в
каждой, указывали на ту погоду, какая была или, во всяком случае, должна была
быть в них. Каждый месяц был урезан до тридцати дней, сгруппированных в три
десятидневные недели. Группа из пяти лишних дней, которые дополняли количество
дней обычного (не високосного) года, «слишком портила самый благоразумный
календарь, который когда‑либо был введен, – слишком благоразумный для страны,
называющей десятый, одиннадцатый и двенадцатый месяцы года октябрем, ноябрем и
декабрем»{90}.
Объяснение римским неправильным названиям, осуждаемым в
приведенном выше отрывке, можно найти в военной истории Римской республики.
Шесть месяцев, первоначально обозначавшихся в римском календаре числами, а не
именами богов, конечно же, не были пронумерованы неверно, когда им впервые были
даны их названия. Первоначально официальный римский год начинался 1 марта – в
месяце, названном в честь римского бога войны. И до тех пор, пока предел
действия правительства распространялся не далее перехода в несколько суток от столицы,
вновь избранный магистрат, возлагавший на себя эту обязанность с 15 марта, мог
принять командование, возложенное на него, во время весеннего сезона. Однако
когда поле военных действий римской армии распространилось далеко за пределы
Италии, магистрат, назначенный командовать этими удаленными войсками, мог
оказаться не в состоянии приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор,
пока не пройдет значительное время. Как это ни странно, в течение полувека
после войны с Ганнибалом этот календарный недостаток не имел практического
значения, ибо сам календарь был столь дико запутан, что месяц, который
предположительно должен был возвещать приход весны, оказался отнесенным назад,
к прошлогодней осени. Например, в 190 г. до н. э., когда римская армия разбила
армию Селевкидов при Магнесии (в Азии), легионы прибыли вовремя по той простой
причине, что официальное 15 марта в действительности было 16 ноября предыдущего
года. В то же время в 168 г. до н. э., когда другая римская армия нанесла в
равной мере решительное поражение македонской армии при Пидне, официальное 15
марта в действительности было 31 декабря предшествующего года.
Понятно, что между двумя этими датами римляне уже начали
исправлять свой календарь. К несчастью, чем точнее он становился с астрономической
точки зрения, тем яснее становилось то, что в качестве военного графика он
устарел. Соответственно, в 153 г. до н. э. день, в который годовые магистраты
должны были вступить в должность, сместился назад с 15 марта на 1 января. В
результате вместо марта первым месяцем года стал январь. Астрономические
несуразности продолжались вплоть до того времени, пока у Юлия Цезаря не
появилась возможность своей диктаторской властью подкрепить выводы астрономов и
ввести «юлианский» календарь, который был до такой степени точным, что
просуществовал более полутора тысячи лет[418]. В то же
самое время первому из шести пронумерованных месяцев – квинктилию – было
дано имя, и он стал июлем. Следующий месяц в следующем поколении стал августом.
Как‑никак Юлий и Август были официальными богами, и появление их имен среди уже
почитаемых богов не было неуместным.
Любопытную связь календарей с религиями иллюстрирует
последующая история юлианского календаря. К XVI столетию христианской эры стало
очевидно, что он запаздывает на десять дней. И тогда нашли вполне возможным
пропустить десять дней и свести неточность календаря до незначительной
величины, изменив правило о столетних високосных годах. В западно‑христианском
обществе XVI столетия, несмотря на то что век Галилея теперь следовал по пятам
века Фомы Аквинского, чувствовали, что только папа может, так сказать, нажать
на кнопку и запустить в ход реформу календаря. Соответственно, исправленный
календарь был введен под именем папы Григория XIII[419] в 1582 г. Однако в протестантской Англии
некогда почитаемый папа теперь превратился в просто позорного епископа Рима, от
«гнусных преступлений» которого умолял избавить нас «Второй молитвенник» короля
Эдуарда VI. В елизаветинском «Молитвеннике» это оскорбительное прошение из
литании было пропущено, но чувство осталось. Английские и шотландские
правительства твердо придерживались своего старого календаря на протяжении еще
170 лет, тем самым причиняя будущим историкам этого периода мелкие
неприятности, связанные с необходимостью различать старый и новый стили. Когда
Британия пришла, наконец, к согласию со своими континентальными соседями в 1752
г., британская публика в открыто рационалистическом XVIII столетии, по‑видимому,
подняла шуму больше, чем было поднято католическим миром в явно менее
просвещенном XVI столетии. Не потому ли, что в отношении календаря
парламентский закон был плохой заменой vox Dei[420] в виде папской буллы?
Когда мы переходим от календарей и эр к весам, мерам и
денежным системам, то мы попадаем в область общественных отношений, в которой
рационализированный интеллект пользуется властью, свободной от религиозных
сомнений. Французские революционеры, потерпевшие столь жалкую неудачу в попытке
насадить новый светский календарь, достигли всемирного успеха в установлении
новых весов и мер.
Сравнение судьбы французской метрической системы нового
образца с шумерской системой говорит о том, что создание французских
реформаторов было обязано своим ослепительным успехом их благоразумной
умеренности. Сведя сбивающие с толку разнородные таблицы ancien regime[421] к единой системе счета, они проявили
практический здравый смысл, иррациональным образом придерживаясь для этой цели
неудобной десятичной системы[422]. Данная
система была единогласно усвоена всеми ответвлениями рода человеческого не в
силу своих достоинств, но просто благодаря тому, что обычное человеческое
существо имеет десять пальцев на руках и десять на ногах. Одна из злых шуток
Природы, сыгранных с человеком, как раз в том и состояла, что Природа снабдила
некоторые свои творения из рода позвоночных шестью пальцами на каждой из
четырех конечностей, не наделив обладателей этих замечательных природных счет
разумной способностью. В то же самое время, наделив genus homo[423] разумом, она дала ему скудный придаток, с
помощью которого можно считать только до десяти и до двадцати. Это
действительно было несчастьем, поскольку в десятичной системе счета основная
шкала делится только на два и на пять, тогда как наименьшим числом, которое
делится и на два, и на три, и на четыре, фактически является двенадцать.
Десятичная система, тем не менее, была неизбежной, поскольку к тому времени,
когда хотя бы один человек в каком‑либо обществе начал понимать существенное
превосходство числа двенадцать, десятичная система неискоренимо укрепилась в
практической жизни.
Французские реформаторы не стали лезть на этот десятизубый
рожон, но их шумерские предшественники были менее благоразумны. Открытие
шумерами преимуществ числа двенадцать было гениально, и они предприняли
действительно революционный шаг, переделав свою систему весов и мер на
двенадцатеричной основе. Однако они, по‑видимому, не осознавали, что пока не
смогут сделать следующего шага, подводя своих соотечественников к принятию двенадцатеричной
системы во всех сферах, преимущества двенадцатеричной системы весов и мер будут
перевешены неудобством наличия одновременно двух несоразмерных систем счета.
Шумерская двенадцатеричная система распространилась по всем концам земли, но в
течение последних 150 лет она вела заранее проигранную борьбу со своей юной
французской соперницей. Ур, подобно Оксфорду, оказался «пристанищем несбывшихся
амбиций»[424]. Тем не
менее, можно быть уверенным, что амбиции Ура не являются еще полностью
безнадежными, пока англичане насчитывают в футе 12 дюймов, а в шиллинге – 12
пенсов[425].
Как только начали осознавать, что честная сделка является
делом общественной важности и что любое правительство, достойное называться
своим именем, должно наказывать использующих неправильные весы и меры, отсюда
уже было рукой подать до введения денежной системы. Однако для этого было
необходимо предпринять определенные последовательные шаги, и этой необходимой
комбинации шагов фактически не могли достичь вплоть до VII в. до н. э., хотя к
этому времени вид обществ, названных нами цивилизациями, уже существовал
приблизительно три тысячи лет.
Первым шагом явилось то, что некоторые отдельные товары
приобрели новую функцию, служа в качестве средства обмена, и тем самым стали
употребляться независимо от изначально присущей им полезности. Однако этот шаг
сам по себе еще не приводил к введению денежной системы, когда избранные товары
были разнообразны по своему материалу, а не были исключительно металлическими.
Например, ко времени испанского завоевания в мексиканском и андском мирах
вещества, известные в Старом свете как «драгоценные металлы», существовали в
количествах, которые казались испанским конкистадорам баснословными, и местные
жители уже давным‑давно научились искусству добычи и очищения этих металлов,
используя их для произведений искусства. Однако они и не думали использовать их
в качестве средства обмена, хотя они додумались до использования в этих целях
других особых товаров – таких, как бобы, сушеная рыба, соль и морские ракушки.
В египетском, вавилонском, сирийском и эллинском мирах,
связанных между собой торговыми отношениями, использование драгоценных металлов
в качестве меры ценности – в удобных для взвешивания слитках – бытовало на
протяжении столетий или даже тысячелетий до того, как правительства отдельных
эллинских городов‑государств на азиатском побережье Эгейского моря нарушили
существующую практику, поставив металлические средства обмена наравне с другими
товарами и тем самым подчинив их общему правилу. Тем самым применение фальшивых
весов и мер становилось нарушением закона. Эти первые города‑государства
предприняли тогда два революционных шага: они сделали выпуск этих металлических
единиц измерения ценности государственной монополией и отчеканили на этой
исключительной правительственной валюте отличительное официальное изображение и
надпись в качестве гарантии того, что монета является подлинным продуктом
правительственного монетного двора и что ее вес и качество должны приниматься,
как если бы они были тем, что обозначено на их лицевой стороне.
Поскольку производство монет, без всякого сомнения,
представляет меньше трудностей в государстве с минимальной площадью и
населением, то, вероятно, далеко неслучайно лабораториями, в которых ставился
этот эксперимент, должны были стать города‑государства. В то же время, не менее
очевидно, что выгодность чеканки монет возрастает с расширением области, на
которой они являются законным средством обращения Такой шаг вперед был сделан,
когда в первые десятилетия VI в. до н. э. Лидийская монархия завоевала все
греческие города‑государства вдоль западного побережья Анатолии, за исключением
Милета, равно как и внутренние районы до реки Галис, и стала выпускать монету,
по образцу местных денег, подчиненного греческого города‑государства Фокеи. Эта
монета была пущена в обращение во всех лидийских владениях. Наиболее известным
(и последним) из лидийских царей был Крез, который стал и до сих пор остается
олицетворением богатства. Даже по прошествии первой половины XX столетия
христианской эры для европейца более естественно говорить «богат как Крез»,
нежели «богат как» Ротшильд, Рокфеллер, Форд, Моррис или любой другой
современный западный миллионер.
Последний и решающий шаг был предпринят, когда царство Лидия
вошло, в свою очередь, в состав империи Ахеменидов. С этих пор будущее монетной
системы было обеспечено. Вселенские золотые монеты Ахеменидов с изображением
лучника дали чеканке монет толчок, который привел к почти повсеместному
распространению монетной системы. Отчеканенные монеты начали свою карьеру в
Индии с присоединения Ахеменидами Пенджаба. Более удаленный древнекитайский мир
уже созрел для принятия монетной системы после того, как избавился от
революционного строительства империи Цинь Шихуанди и был удержан в тактичных
руках Хань Лю Бана. В 119 г. дон. э. древнекитайское имперское правительство
озарила блестящая интуиция. Оно открыло неизвестную до того истину, что металл
является не единственным веществом, из которого можно делать деньги.
«В императорском парке в Чжан Нгане у императора был белый
олень, очень редкое животное, который не имел равных во всей империи. По совету
своего министра император убил это животное и сделал своего рода казначейские
билеты из его шкуры, которая, как он полагал, не могла быть скопирована. Эти
куски шкуры были в фут в длину и в фут в ширину, имели бахромчатый край и были
украшены узором. Каждому куску была приписана произвольная стоимость в 400 000
медных монет. Князей, когда они приезжали засвидетельствовать свое почтение
трону, заставляли покупать один из этих кусков шкуры за наличные деньги и
преподносить свои дары императору на них. Шкура белого оленя, однако же, была
ограниченного размера, и вскорости наступило время, когда этот способ перестал
снабжать казну необходимым количеством денег»{91}.
Изобретение кредитных билетов не находило себе эффективного
применения до тех пор, пока не связалось с двумя другими древнекитайскими
изобретениями – бумаги и печатания. Ценные бумаги в форме чеков с корешками,
сохранявшимися императорским казначейством, были выпущены правительством
династии Тан в 807 и 809 гг. н. э., однако у нас нет данных в пользу того, что
надписи на этих чеках были отпечатаны. С точностью можно сказать, что печатные
бумажные деньги были выпущены правительством династии Сун в 970 г. н. э.
Изобретение денег, несомненно, оказалось выгодным для
подданных выпускавших их правительств – несмотря на вызванные им разрушительные
в социальном отношении колебания инфляции и дефляции и соблазны, связанные с
займом денег и отдачей их под ростовщические проценты. Однако еще большую
выгоду, конечно же, получали сами правительства, выпускавшие деньги, поскольку
выпуск денег представляет собой acte de presence[426],
который приводит правительство в непосредственное и постоянное соприкосновение,
по крайней мере, с активным, способным и влиятельным меньшинством своих
подданных. Это явление в денежном образе не просто автоматически
благоприятствует престижу правительства, но также дает ему великолепную
возможность саморекламы.
Это воздействие монетной системы даже на умы населения,
находящегося под чужеземным правлением и возмущающегося политическим игом,
иллюстрирует классический отрывок из Нового Завета.
«И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы
уловить Его в слове. Они же, придя, говорят Ему: ''Учитель! мы знаем, что Ты
справедлив и не заботишься об угождении кому‑либо, ибо не смотришь ни на какое
лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или
нет? давать ли нам или не давать?” Но Он, зная их лицемерие, сказал им: “Что
искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его”. Они принесли.
Тогда говорит им: “Чье это изображение и надпись?” Они сказали Ему: “Кесаревы”.
Иисус сказал им в ответ: “Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу”. И дивились
Ему»{92}.
Эта автоматическая моральная выгода, приносимая прерогативой
выпуска денег даже в весьма неблагоприятном политическом и религиозном
окружении, была для правительства Римской империи несравненно большей
ценностью, чем все те финансовые прибыли, которые в данном случае могло
принести ему производство монет. Портрет императора на монете придавал
императорской власти определенный статус в сознании иудейского населения,
которое не только рассматривало римское владычество как незаконное, но свято
хранило в качестве второй из десяти заповедей, данных Моисею Яхве и
запечатленных на каменных скрижалях собственной рукой Божества, точное
предписание:
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель»{93}.
Когда в 167 г. до н. э. царь из династии Селевкидов Антиох
IV Эпифан поместил статую Зевса Олимпийского в святая святых Иерусалимского
храма, ужас и негодование евреев, увидевших «мерзость запустения»{94},
«стоящую, где не должно»{95}, были настолько велики, что они не
смогли успокоиться, пока не уничтожили малейшие следы правления Селевкидов.
Далее, когда в 26 г. н. э. римский прокуратор Понтий Пилат тайно, под покровом
ночи, провез в Иерусалим римские военные знамена с изображением императора на
медальонах, реакция евреев была настолько сильной, что заставила Пилата вывезти
оскорбительные эмблемы. Однако эти же самые евреи привыкли не только спокойно
взирать, но и держать в руках, пользоваться, наживать и накапливать кесаревы
монеты с отвратительным изображением.
Римское правительство должно было сразу же осознать ценность
вселенской монеты в качестве инструмента политики.
«Начиная с середины I в. имперское правительство оценило
(как сделали это немногие правительства до и после) не только функцию монет в
качестве зеркала современной жизни – политических, социальных, духовных и
художественных устремлений своего века, но также и их огромные уникальные
возможности в качестве далеко идущего инструмента пропаганды. Современные
методы распространения новостей и современные средства пропаганды, начиная от
почтовых марок и заканчивая радиовещанием и прессой, имели свое подобие в
имперских монетах, на которых ежегодные и ежемесячные (мы можем даже сказать –
практически ежедневные) новости и перемены в изображениях регистрируют
последовательность общественных событий и отражают цели и идеологию тех людей,
которые контролировали государство»{96}.
* * *
Регулярная армия
Универсальные государства весьма сильно отличаются друг от
друга по той степени, в какой они нуждаются в регулярных армиях. Некоторые, по‑видимому,
вовсе могут обходиться без них. Другие обнаруживают прискорбную потребность в
этих дорогостоящих институтах – как в полевой армии, так и в местных войсках,
несущих службу в гарнизонах. Правительствам таких универсальных государств
приходилось сталкиваться с трудными, а иногда и неразрешимыми проблемами,
которые ставили перед ними эти всегда громоздкие и часто опасные институты.
Однако все это вопросы, на исследовании которых мы не можем останавливаться. Мы
ограничимся в данном параграфе одной из множества тем, которые могли бы подойти
под наш заголовок. Одной, но, тем не менее, возможно, наиболее интересной и
важной, а также наиболее тесно связанной с основным содержанием данной главы: а
именно мы рассмотрим вопрос о влиянии римской армии на развитие христианской
Церкви.
Христианская Церковь, конечно же, была далеко не самым
очевидным и непосредственным образом облагодетельствована римской армией. Тем,
кто получал наиболее очевидную выгоду в армиях всех распадающихся империй, были
союзники и варвары, поступавшие на военную службу. Набор последними Ахеменидами
полевой профессиональной армии из греческих наемников привел к завоеванию
Ахеменидской империи Александром Великим. Набор варваров в личную гвардию
аббасидских халифов и в регулярные армии Римской империи и египетского «Нового
царства» привел соответственно к установлению правления турецких варваров в
Халифате, тевтонского и сарматского варварского правления в западных провинциях
Римской империи и правления варваров‑гиксосов в Египте. Неожиданнее видеть, как
покров армии опускается на Церковь, и еще неожиданней – когда приемником этого
вдохновения является Церковь с антивоенными традициями.
В своем сознательном отрицании пролития крови и,
следовательно, несения военной службы первые христиане расходились с иудейской
традицией. Они верили, что победоносное Второе Пришествие Христово уже близко и
что им дано указание терпеливо его ожидать. Являя собой поразительную
противоположность ряду иудейских восстаний – сначала против Селевкидов, а затем
против римского правления на протяжении трех столетий с 166 г. до н. э. и до
135 г. н. э., – христиане никогда не поднимали вооруженного восстания против
римских преследователей на протяжении приблизительно равного периода,
протекшего cfr начала миссии Иисуса до заключения мира и союза между римским имперским
правительством и Церковью в 313 г. н. э. Что касается службы в римской армии,
то она была камнем преткновения для христиан, поскольку включала в себя не
только пролитие крови во время боевых действий, но также среди прочих вещей и
приведение в исполнение смертных приговоров, принесение военной присяги на
безусловную верность императору, культ императорского гения и совершение
жертвоприношений ему, а также поклонение военным знаменам как идолам. Служба в
армии была фактически запрещена следующими раннехристианскими отцами –
Оригеном, Тертуллианом и даже Лактанцием[427] в труде, опубликованном после заключения
Константином мира.
Знаменательно, что этот остракизм, которому подвергалась
римская армия со стороны христианской Церкви, относился ко времени, когда армия
набиралась еще на добровольной основе. Действительно, более чем за столетие до
того этот вопрос был поднят римским имперским правительством из‑за введения
Диоклетианом (правил в 283‑305 гг.) в практику теоретически являвшейся
обязательной воинской повинности. Вплоть до 170 г. поводов для конфликта по
этому вопросу, по‑видимому, избегали. Христианские граждане воздерживались от
поступления на военную службу, тогда как если в христианство обращался
языческий солдат, то Церковь молча соглашалась с несением им службы и
выполнением всех обязанностей, которые требовала от него армия. Возможно,
Церковь оправдывала это свое бессилие на тех же основаниях, на каких изначально
мирилась с другими аномалиями – например, с распространением рабства, даже в
тех случаях, когда и господин, и раб были христианами. Включение Послания к
Филимону в канон Священного Писания в этом смысле знаменательно. В упованиях
Церкви на Второе Христово Пришествие в этот век время, остававшееся до него,
казалось таким малым, что обращенный солдат мог также скоротать его в армии,
как обращенный раб – в рабстве.
В III столетии христианской эры, когда христиане начали
пробиваться в быстро растущем количестве в ряды политически ответственных
классов римского общества, частично благодаря своему собственному возвышению в
свете, а частично благодаря привлечению новообращенных из высших классов, они
на практике отвечали на вопрос, поставленный перед ними социальной важностью
римской армии, не решая его в теории или же не ожидая обращения государства,
органом которого была армия. В армии Диоклетиана число христиан было уже
настолько большим и настолько значительным, что преследования 303 г. была
направлены в первую очередь против христианства в армии. Действительно,
создается такое впечатление, что в западных провинциях процентное количество
христиан в армии было выше, чем среди гражданского населения.
Еще более значительным было влияние армии на Церковь в
эпоху, когда запрет на военную службу все еще оставался в силе. Война требовала
добродетелей, сродных тем, которые требовалось проявлять последователям
непопулярной религии. Многие проповедники подобных религий использовали
словарь, заимствованный из военного искусства и военной техники, не менее явно,
чем св. апостол Павел[428]. В иудейской
традиции, которую христианская Церковь сохранила как драгоценную часть своего
собственного наследия, война была освящена как в буквальном, так и в переносном
смысле слова. Однако если иудейская военная традиция имела мощное литературное
влияние, римская военная традиция представляла собой живую, впечатляющую
реальность. Какой бы пагубной и ненавистной ни была римская армия Республики в
жестокий век римских завоеваний и в еще более жестокий век римских гражданских
войн, армия Империи, существовавшая на жалованье, а не кормившаяся грабежом, и
размещенная на границах для защиты цивилизации от варваров, а не заполнявшая и
не опустошавшая цивилизованные внутренние районы эллинского мира, стала
завоевывать невольное уважение, восхищение и даже любовь подданных Рима в
качестве вселенского института, способствующего их благоденствию и являющегося
предметом их законной гордости.
«Посмотрите, – писал Климент Римский[429] около 95 г. в своем Первом послании к
Коринфянам, – на поведение солдат, которые служат нашим правителям. Подумайте о
той пунктуальности, покладистости, покорности, с которыми они выполняют
приказы. Не все из них являются легатами, трибунами, центурионами, опционами
или офицерами менее высоких рангов. Однако каждый солдат, несущий службу в
своем собственном подразделении, выполняет приказы императора и правительства».
Рекомендуя таким образом военную дисциплину в качестве
примера своим христианским корреспондентам, Климент пытался установить порядок
в Церкви. Послушание, говорил он, требуется от всех христиан не только по
отношению к Богу, но также и по отношению к их духовным наставникам. Однако в
развитии военной образности христианской Церкви «воином Божьим» первоначально
выступал миссионер. Миссионер должен был освободиться от войсковых преимуществ
гражданской жизни и в такой же мере претендовал на поддержку своей паствы, в
какой солдат – на жалованье, вносимое налогоплательщиком.
Однако что касается церковных институтов, то каким бы
сильным ни было влияние римской армии на их развитие, оно было слабее влияния
римских государственных служб. Пример армии в основном воздействовал на Церковь
в сфере идеалов.
Христианский обряд инициации – крещение – был приравнен св.
Киприаном к военной присяге (sacramentum), которая требовалась от
новобранца, вступающего в ряды римской армии. Поступив однажды на военную
службу, воин Христов должен вести военные действия «в соответствии с уставом».
Он должен остерегаться непростительного преступления дезертирства, а также
серьезного проступка «нарушения долга». «Плата за проступок – смерть», – эти
слова являются переводом Тертуллиана на военный язык выражения из Послания к
Римлянам св. апостола Павла, которое в английском переводе Библии издания 1611
г. звучит как «плата за грех» («the wages of sin»)[430]. Обрядовые и
нравственные обязанности христианской жизни приравнены Тертуллианом к военному
«обмундированию». В его терминологии пост – это караульная служба, а ярмо,
которое, по словам Евангелия от Матфея, «легко есть»{97}, – это
«легкий багаж Господень». Кроме того, преданная служба воина Христова
вознаграждается по выполнении «Божьими наградными». Кроме наградных, воин может
ожидать выдачи пайка до тех пор, пока он исполняет свои обязанности. Крест – это
военное знамя, а Христос – главнокомандующий (Imperator). Фактически,
«Вперед, воины Христовы» Баринг‑Гульда[431] и «Армия спасения» генерала Буфа[432] заимствовали слово и провели аналогию,
восходящую к первым векам существования Церкви, однако армия, с которой
изначально проводилось подобное сравнение, была армией нехристианской, которую
Римская империя создала и поддерживала в совершенно иных целях.
* * *
Государственные службы
Универсальные государства весьма отличаются между собой и в
той степени, в какой они разрабатывают свои государственные службы. На верхнем
конце шкалы мы находим оттоманское правительство, которое обеспечивало свои
административные потребности, делая все, что только могла придумать
человеческая изобретательность и достичь человеческая решимость, чтобы создать
государственную службу, представлявшую собой не просто профессиональное
содружество, но светский эквивалент религиозного ордена. Эта государственная
служба была до такой степени резко обособлена, строго дисциплинирована и сильно
«обусловлена», что уже превращалась в сверхчеловеческую (или недочеловеческую)
расу, столь же отличную от обычных представителей рода человеческого, сколь
выведенные и прирученные лошадь, собака или сокол отличаются от тех диких
животных, которые послужили исходным материалом для селекционера и
дрессировщика.
Проблема, с которой часто приходится сталкиваться создателям
государственных служб в универсальных государствах, это проблема того, как
использовать аристократию, которая господствовала в течение предыдущего
«смутного времени». В качестве примера можно привести неспособную аристократию
в Московии в то время, когда Петр Великий взялся за ее вестернизацию, и в
высшей степени квалифицированную аристократию в Римской империи во время
основания принципата. И Петр, и Август каждый в своей империи использовали
аристократию в качестве материала для создания вселенской административной
структуры. Однако мотивы их были различны. Если Петр пытался насильно
превратить старомодных дворян в умелых администраторов европейского образца, то
Август стал сотрудничать с орденом сенаторов не столько из‑за того, что
нуждался в их услугах, сколько из‑за того, что смотрел на это сотрудничество
как на гарантию избежать судьбы своего предшественника Юлия Цезаря, погибшего
от рук оскорбленных членов быстро устраненного им от власти правящего класса.
Прямо противоположные проблемы, с которыми столкнулись Август и Петр Великий,
это два огня, меж которых оказывается архитектор империи, про тивостоящий
доимперской аристократии. Если аристократия квалифицированна, то она будет
возмущаться службой императору как тем, что является infra dignitatem[433].
Наоборот, если аристократия некомпетентна, диктатор, использующий ее,
обнаружит, что безвредность его орудия возмещается тупостью его лезвия.
Доимперская аристократия – не только материал, который
требуется строителям империй для пополнения своих государственных служб.
Подобные вельможи, взятые сами по себе, составили бы корпус полковников без
полков. Потребовался бы средний класс, состоящий из юристов и других
профессионалов, в качестве эквивалента полковых офицеров, а также множество
рядовых. Иногда строители универсальных государств оказываются в удачном
положении, имея возможность воспользоваться услугами класса, который уже возник
для удовлетворения собственных внутренних потребностей. Характер и достижения
государственной службы в Британской Индии вряд ли можно понять, если не
рассмотреть их на фоне предшествующей главы административной истории Соединенного
Королевства.
«Учреждение фабричной инспекции по закону 1833 г. было
этапом в развитии нового рода государственной службы… Страстное желание Бентама[434] заменить наукой обычай, его взгляд на
администрацию как на дело квалифицированных людей имели в данном случае всецело
положительные результаты. Воодушевленная им Англия создала штат служащих,
который привел ее к образованию и независимости. В отличие от английского
мирового судьи, новый государственный служащий обладал знанием. В отличие от
французского интенданта, он был не просто ставленником правительства.
Английский народ научился использовать образованных людей на условиях, которые
сохраняли их независимость и самоуважение… На тот момент основным занятием
этого образованного класса было высветить беспорядок в новом [промышленном]
мире. Всякому, кто изучает историю поколения, последовавшего за принятием
реформы избирательной системы в Англии 1831‑1832 гг., не может не броситься в
глаза та роль, которую сыграли юристы, врачи, ученые и писатели в разоблачении
злоупотреблений и изобретении планов»{98}.
Таково было содружество профессиональных администраторов из
среднего класса, приехавших в Индию. Мы еще найдем возможность рассмотреть как
их достижения, так и их недостатки в ином контексте в следующей главе.
К достижению Августа в создании новой государственной службы
в ответ на потребности опустошенного, дезорганизованного и уставшего мира, за
который он взял на себя ответственность, можно приравнять труд Хань Лю Бана,
проделанный в древнекитайском мире за 150 лет до того. Если его оценивать с
точки зрения прочности, то на самом деле труд этого древнекитайского
крестьянина далеко превосходит достижение римского буржуа Октавиана.
Августовская система развалилась на седьмом столетии после ее создания, тогда
как система Лю Бана непрерывно продолжала существовать, по меньшей мере, до
1911 г.
Недостатком римской государственной службы было то, что она
отражала раздоры между старой сенатской аристократией и новой императорской
диктатурой. Августовский компромисс уменьшил эти раздоры, но устранить их не
смог. Существовали две строго отделенные друг от друга иерархии и два взаимно
исключающих рода деятельности, в которых прокладывали свой путь чиновники
сенатского и несенатского происхождения. Этому расколу был положен конец в III
в. христианской эры, когда представители сенатского ордена были устранены со
всех постов с административной ответственностью. Однако к этому времени упадок
местного самоуправления настолько увеличил объем работы, что Диоклетиан
оказался вынужден неумеренно раздуть постоянный штат государственных служащих.
Социальный стандарт, требовавшийся от поступавших на службу, в результате
снизился. Контраст с историей государственной службы династии Хань поучителен.
Здесь с самого начала были открыты возможности для карьеры талантливых людей,
независимо от их положения. В 196 г. до н. э., через шесть лет после
восстановления порядка, сам император издал указ, предписывавший провинциальным
органам государственной власти отбирать кандидатов на государственную службу на
основании их заслуг и посылать их в столицу для их утверждения или отклонения
чиновниками центрального правительства.
Эта новая китайская государственная служба приняла свою
окончательную форму, когда последователь Хань Лю Бана – Хань У‑ди (правил в 140‑87
гг. до н.э.) решил, что достоинством, требуемым от кандидатов, должно быть
умение воспроизводить стиль классической литературы конфуцианского канона и
интерпретировать конфуцианскую философию – к великой радости конфуцианских
книжников того времени. Конфуцианская школа II в. до н. э., с которой
императорский режим таким тактичным образом добился сотрудничества, изумила бы
самого Конфуция. Но даже эта высушенная политическая философия представляла
собой более действенный стимул для развития корпоративного профессионального
образа жизни, нежели литературно образованная архаичная культура эллинского
мира эпохи Диоклетиана. Какой бы она ни была педантичной, она предусматривала
традиционную этику, которая отсутствовала среди римских коллег древнекитайских
чиновников.
Если империя Хань и Римская империя создали свои
государственные службы на основании собственного социального и культурного
наследия, то Петр Великий по самому характеру своей задачи отказался делать что‑либо
подобное. В 1717‑1718 гг. он учредил некоторое количество административных
коллегий, чтобы вовлечь русских в новомодные западные методы управления.
Шведские военнопленные были привлечены в качестве инструкторов, а русские
ученики были посланы для приобретения прусского образования в Кенигсберг.
Там, где, как в петровской Российской империи, имперская
государственная служба появляется в результате сознательного подражания
иноземным институтам, потребность в специальных мерах по образованию персонала
очевидна. Однако эта потребность возникает в какой‑то мере во всех
государственных службах. В Инкской, Ахеменидской, Римской и Оттоманской
империях личное хозяйство императора было одновременно и осью государственного
правления, и школой по обучению самих администраторов. Во множестве случаев
образовательная функция императорского хозяйства предусматривала создание
корпуса «пажей» или, говоря обычным языком, подмастерьев. При дворе инкского
императора в Куско существовали постоянные курсы обучения с системой тестов на
каждой ступени. В империи Ахеменидов, согласно Геродоту, «всех персидских
мальчиков благородного происхождения при царском дворе с пяти до двадцати лет
учат трем и только трем вещам: скакать верхом, стрелять из лука и говорить
правду». Оттоманский двор предусматривал обучение пажей в первые свои годы в
Брусе и еще продолжал следовать этой хорошо протоптанной тропой, когда султан
Мурад II (правил в 1421 ‑1451 гг.) основал подобную школу в Адрианополе,
который в его время был столицей. Однако его преемник султан Мехмед II (правил
в 1451 ‑1481 гг.) изобрел новое направление. Он начал укомплектовывать свою
государственную службу не только сыновьями дворян из османов‑мусульман, но и
рабами‑христианами – включая изменников и военнопленных из западно‑христианского
мира, равно как и «податных детей», набранных в качестве налога с православных
подданных падишаха. Этот своеобразный институт мы уже описали ранее в данном
«Исследовании».
Если оттоманские падишахи умышленно развивали своих личных
рабов‑домочадцев, превращая их в инструмент для управления быстро растущей
империей, фактически исключая из управления свободных османов, то римские
императоры, хотя и оказывались вынужденными подобным же образом пользоваться
домочадцами цезаря, предпринимали шаги по ограничению роли вольноотпущенников в
имперской администрации. Цитаделью вольноотпущенников в администрации Римской
империи на раннем этапе ее существования было центральное правительство, в
котором пять административных должностей в хозяйстве цезаря превратились в пять
имперских министерств. Однако даже на этих постах, которые традиционно
сохранялись за вольноотпущенниками, последние становились в политическом плане
невыносимыми, как только обращали на себя внимание. Скандал, вызванный зрелищем
министров‑вольноотпущенников Клавдия[435] и Нерона, осуществлявших неограниченную
власть, привел при династии Флавиев и при их преемниках к передаче этих
ключевых постов один за другим сословию всадников.
Так, в истории римской государственной службы всаднический,
то есть торговый, класс возвысился как за счет рабского «дна», так и за счет
сенатской аристократии. Его победа над соперниками объясняется той
продуктивностью и честностью, с которыми чиновники из всадников исполняли свои
обязанности. Это улучшение класса, который в течение последних двух веков
республиканского режима добился богатства и власти благодаря эксплуатации,
откупу и ростовщичеству, было, вероятно, наиболее значительной победой
августовской имперской системы. Чиновники в Британской Индии также набирались
из торгового класса. Они начинали как служащие торговых компаний, целью которых
была финансовая прибыль. Одним из первоначальных мотивов, побудивших их искать
работу в непривычных климатических условиях, была возможность разбогатеть
благодаря торговле «попутно» и в своих личных целях. Когда Ост‑Индская компания
в результате поразительно легкой военной победы неожиданно превратилась в
суверенного – во всем, кроме имени – монарха самой богатой провинции
надломленной Могольской империи, служащие компании на протяжении короткого
периода поддались искушению и стали вымогать непомерно огромные финансовые
средства для себя с таким же бесстыдством, какое проявляли римские всадники в
течение гораздо более продолжительного периода. Однако в британском случае, так
же как и в римском, группа хищных грабителей превратилась в корпорацию
чиновников, основным мотивом которых теперь уже не являлась личная прибыль и
которые научились делать вопросом чести обладание политической властью без
злоупотребления ей.
Подобное улучшение характера британской администрации в
Индии было вызвано частично решением Ост‑Индской компании давать образование
своим чиновникам для того, чтобы они несли новую политическую ответственность,
возложенную на их плечи. В 1806 г. для кандидатов, получавших назначение на
административную службу, компания открыла в Хертфорд‑Касле колледж, который был
переведен через три года в Хейлибери. Этот колледж играл историческую роль на
протяжении пятидесяти двух лет своего существования. В 1853 г., накануне
передачи управления Индией из рук компании Короне, было принято решение
парламента в будущем набирать чиновников на основе конкурсных экзаменов. Это
решение открыло дверь кандидатам, набираемым из более широкого круга таких
неофициальных институтов, как университеты Соединенного Королевства и так
называемые закрытые школы, из которых в основном в то время и набирались
студенты двух древнейших английских университетов. Хейлиберийский колледж был
закрыт в 1857 г., и за пятьдесят два года его существования доктор Арнольд из
Регби[436] пришел и ушел, в то время как все, что он
собой символизировал, было рассеяно по закрытым школам его единомышленниками‑учителями.
Обычный индийский чиновник на протяжении второй половины XIX столетия в школе и
университете обучался точным наукам, основанным на том, что для европейцев
являлось «классическими» языками и литературой, и христианском мировоззрении,
которое было не менее строгим, часто являясь неопределенным и недогматическим.
Можно провести далеко не произвольную аналогию между этим нравственным и
интеллектуальным обучением и образованием в области древнекитайской
конфуцианской классики, которого тогда еще требовали от китайской
государственной службы, учрежденной двадцатью столетиями ранее.
Если мы обратимся теперь к рассмотрению того, кто получил
наибольшую выгоду от имперских государственных служб, созданных универсальными
государствами в своих собственных целях, то увидим, что это, несомненно, те
государства‑наследники империй, которые додумались воспользоваться таким
драгоценным наследством. Из их списка нам следует исключить государства‑наследники
Римской империи на Западе. Они извлекли гораздо меньший урок из имперской
государственной службы, которую они разрушили, нежели из Церкви, в которую они
обратились. Однако, как мы увидим, сама Церковь извлекла выгоду из римской
государственной службы, так что даже здесь наследство было частично передано
через одну ступень. Не пытаясь полностью исчерпать список получивших выгоду
государств‑наследников, можно указать на недавно образованный (к моменту
написания книги) Союз Индии и Пакистана как на государство, извлекшее выгоду из
государственной службы Британской Индии.
Однако наиболее значительную пользу извлекли церкви. Мы уже
отмечали, как иерархическая организация христианской Церкви была основана на
организации Римской империи. Подобный же базис обеспечило «Новое царство»
Египта для всеегипетской церкви под главенством верховного жреца Амона‑Ра в
Фивах, а Сасанидская империя – для зороастрийской церкви. Верховный жрец Амона‑Ра
был создан по образу фиванского фараона, зороастрийский верховный мобад – по
подобию сасанидского шахиншаха, а папа римский – по подобию римского императора
последиоклетиановского времени. Светские административные корпорации, тем не
менее, оказали церквям гораздо большую услугу, чем просто обеспечили их
организацией. Они также повлияли на их мировоззрение и этос, и в некоторых
случаях эти интеллектуальные и нравственные влияния передавались не только
благодаря примеру, но и благодаря перемещению личностей, в которых они были
воплощены, из светской области в церковную.
Три исторические личности, каждая из которых решительно
повернула развитие католической Церкви на Западе, были призывниками светской
римской государственной службы. Амвросий (жил около 340‑397)[437] был сыном чиновника, достигшего вершины своей
деятельности в должности префекта претории галлов. Будущий святой, Амвросий
последовал по стопам отца в качестве правителя провинции Лигурия и Эмилия,
когда в 374 г. к его ужасу он был выбит из колеи своей гарантированной
официальной карьеры и был вынужден занять епископскую кафедру Медиолана под
воздействием народа, который не дожидался его согласия. Кассиодор (жил около
490‑585)[438] провел первую часть своей весьма долгой жизни,
управляя Римской Италией на службе у короля остготов Теодориха. Впоследствии он
превратил свое деревенское хозяйство в Италии в монастырское поселение, которое
дополняло учреждение св. Бенедикта в Монте‑Кассино. Бенедиктинская школа
монахов, посвятивших себя из любви к Богу тяжелому физическому труду в полях,
не смогла бы сделать всего того, что она сделала для нарождающегося западно‑христианского
общества, если бы не соединилась с самого начала со школой Кассиодора,
вдохновлявшейся тем же самым мотивом при выполнении не менее трудной умственной
задачи по переписыванию языческих авторов и трудов отцов Церкви. Что касается
Григория Великого (жил около 540‑604), то он отказался от светской
государственной службы, прослужив некоторое время в качестве praefectus Urbi[439],
чтобы последовать примеру Кассиодора, превратив в монастырь свой родовой дворец
в Риме. Впоследствии, вопреки своим ожиданиям и желаниям, он стал одним из
создателей папства. Каждый из этих великих чиновников нашел свое истинное
призвание в службе Церкви и привнес с собой на службу Церкви способности и традиции,
приобретенные в ходе своей светской карьеры.
* * *
Гражданство
Поскольку, как правило, универсальное государство изначально
возникает из принудительного союза множества борющихся местных государств, оно
начинает свою жизнь с огромной пропасти, существующей между правителями и
подданными. С одной стороны [пропасти] находится общество строителей империи,
состоящее из тех представителей правящего меньшинства, которые остались в живых
после продолжительной борьбы за существование между правителями соперничающих
местных обществ в предшествующий период. С другой стороны находится завоеванное
население. Также обычным является то, что эффективно высвободившийся элемент
становится по прошествии времени относительно большой группой в результате
принятия новобранцев из числа подвластного большинства. Однако редко когда этот
процесс мог полностью уничтожить первоначальное разделение между правителями и
подданными.
Выдающимся исключением, когда было достигнуто всестороннее
политическое освобождение (причем не позднее четверти века после установления
универсального государства), является древнекитайский мир. В древнекитайском
универсальном государстве, установленном в 230‑221 гг. до н. э. в результате
завоевания шести других местных государств их победоносным соперником –
государством Цинь, верховенство Цинь закончилось, когда Сяньян – столица
Циньской державы – была занята Хань Лю Баном в 207 г. до н. э. Начало
политического освобождения всего населения древнекитайского универсального
государства можно датировать 196 г. до н. э. Вряд ли нужно говорить, что это
политическое достижение не могло сразу же изменить базисную экономическую и
социальную структуру древнекитайского общества. Это общество, как и раньше,
состояло из массы крестьян‑налогоплательщиков, содержащих немногочисленный
привилегированный правящий класс. Однако отныне дорога, ведущая в этот
древнекитайский государственный рай, была действительно открыта для талантов,
независимо от их социального происхождения.
Объединяющее воздействие, которое произвели исторические
силы, действовавшие в течение долгого периода времени, конечно же, не может
быть произведено законодательным актом, дарующим одинаковый юридический статус.
Одинаковый статус европейцев, евразийцев и азиатов при Британской империи в
Индии или европейцев, креолов и индейцев в Испанской империи в Вест‑Индии как
подданных, во всяком случае, одной короны, не произвел какого‑либо заметного
эффекта в уменьшении социальной пропасти между правителями и подданными этих
государств. Классический пример того, как первоначально существовавшая пропасть
была успешно уничтожена с помощью постепенного слияния некогда
привилегированного правящего меньшинства с массой его бывших подданных, можно
найти в истории Римской империи. И здесь также политическое равенство не было
достигнуто в результате простого присуждения юридического статуса римского
гражданства. После обнародования эдикта императора Каракаллы в 212 г. все
свободное население Римской империи мужского пола, за незначительными
исключениями, стало римскими гражданами. Однако потребовалась еще политическая
и социальная революция следующего столетия, чтобы привести реалии жизни в
соответствие с законом.
Наибольшую выгоду из политического эгалитаризма, к которому
Римская империя двигалась в эпоху принципата[440] и к которому подошла в эпоху Диоклетиана,
была, конечно же, вселенская христианская Церковь. Вселенская христианская
Церковь заимствовала у Римской империи основную идею двойного гражданства –
конституционное средство для решения проблемы того, как пользоваться
преимуществами членства во вселенском обществе, не отвергая преданности более
узкому обществу и не порывая с местными корнями. В Римской империи эпохи
принципата, на фоне которого возросла христианская Церковь, все граждане
мирового города Рима (за исключением небольшого числа тех, кто действительно
жил в метрополии) были также и гражданами тех или иных местных городов. Эти
города, хотя и находились в составе Римского государства, тем не менее,
являлись автономными городами‑государствами с традиционной греческой формой
городского самоуправления и традиционным влиянием таких местных отечеств на
чувства своих детей. По этой римской светской модели растущее и
распространяющееся церковное сообщество строило свою организацию и укрепляло
общие чувства, которые одновременно были и местными, и вселенскими. Церковь, в
верности к которой клялся христианин, была одновременно и местной общиной того
или иного города, и вселенской христианской общиной, включавшей в себя все
местные церкви на основе единой практики и единого учения.
VII.
Вселенские
церкви
XXVI.
Альтернативные концепции отношения вселенских церквей к цивилизациям
1. Церковь как раковая опухоль
Мы увидели, что вселенская церковь обычно нарождается в
течение «смутного времени», следующего за надломом цивилизации, и
разворачивается внутри политической структуры будущего универсального
государства. Мы увидели также в предшествующей части данного «Исследования»,
что основную выгоду из институтов, поддерживающихся универсальными
государствами, извлекают вселенские церкви. Поэтому неудивительно, что
защитники универсального государства, благосостояние которого начинает убывать,
будут с неприязнью смотреть на то, как вселенская церковь разрастается в его
лоне. Поэтому церковь, вероятно, с точки зрения имперского правительства и его
сторонников будет рассматриваться как социальная раковая опухоль, ответственная
за упадок государства.
В эпоху упадка Римской империи обвинение, которое постепенно
росло, начиная с атаки, предпринятой Цельсом[441] около конца II в. христианской эры, созрело на
Западе, когда Империя уже находилась в предсмертной агонии. Вспышку этого
враждебного чувства вызвало в 416 г. в сердце Рутилия Намациана –
«твердолобого» язычника, галльского приверженца Рима – унылое зрелище пустынных
островов, колонизованных (или, как бы он сказал, кишащих) христианскими
монахами:
Дальше мы в море идем, и Капрария
нам показалась,
Черный остров‑приют тех, кто от
света бежит.
Сами назвали себя они греческим
словом «монахи»,
Жить им угодно одним, скрыто от
всяческих глаз.
Счастье им трижды ужасно,
несчастье трижды желанно –
Ищут несчастья они, чтобы
счастливыми быть.
Так трепетать перед злом, что
хорошего тоже бояться, –
Что, как не дикий бред явно
нездравых умов?{99}
Перед концом своего путешествия Рутилий претерпел еще более
унылое зрелище, увидев другой остров, который пленил его собственного
соотечественника.
Вот островок Горгоны встает,
опоясанный морем,
Там, где Кирна – с одной, Пиза – с
другой стороны.
Эти утесы его – примета недавнего
горя:
Римский здесь гражданин заживо
похоронен.
Юноша наших семейств, потомок
известного рода,
Знатную взявший жену, вдосталь
имевший добра,
Бросил людей и отчизну, безумной
мечтой обуянный, –
Вера его погнала в этот постыдный
приют.
Здесь обитая в грязи, ублажить он
надеется небо, –
Меньшей бы кара богов, им
оскорбленных, была!
Разве это ученье не хуже Цирцеиных
зелий?
Та меняла тела, души меняют они{100}.
В этих строках витает дух все еще пребывающей в язычестве
аристократии, которая видит причину разрушения Римской империи в отказе от
традиционного поклонения эллинскому пантеону богов.
Этот спор между гибнущей Римской империей и крепнущей
христианской Церковью поднимал вопрос, волновавший не только чувства
современников, которых касался непосредственно, но также и чувства последующих
поколений, смотревших на это событие через огромную временную пропасть. В своем
утверждении «Я описал триумф варварства и религии» Гиббон не только подвел итог
семидесяти одной главы своей книги в шести словах, но заявил о себе как о
стороннике Цельса и Рутилия. Культурная вершина эллинской истории, как он ее
видел, в век Антонинов ясно выделялась на фоне промежуточного интервала в
шестнадцать столетий, которые, по мнению Гиббона, представляли собой низшую
точку культуры. Двигаясь из этой точки, поколение гиббоновских дедов в западном
мире медленно утвердилось на идущем вверх склоне другой горы, с которой двойная
вершина эллинского прошлого снова стала видна во всем своем величии.
Этот взгляд, прямо не выраженный в гиббоновском труде, был в
более ясной и резкой форме высказан антропологом XX столетия, личность которого
вполне сравнима с Гиббоном в его собственной области:
«Культ Великой Матери, это странное смешение самого грубого
варварства с духовными устремлениями, был не более как одним из многих
восточных культов, распространявшихся в Римской империи на закате язычества.
Постепенно привив европейским народам чуждое им мировоззрение, эти культы
подточили здание античной цивилизации. Греческое и римское общество строилось
на подчинении личного начала общественному, гражданина – государству; это
ставило благополучие и безопасность государства в качестве высшего мерила
поведения превыше потустороннего (или посюстороннего) благополучия индивида.
Граждане, воспитанные на этих идеалах, посвящали свою жизнь бескорыстному
служению обществу и готовы были отдать свою жизнь ради общего блага. Если же
они уклонялись от принесения этой высшей жертвы, им и в голову не приходило,
что, предпочитая свою жизнь интересам общественного организма, они поступают,
как должно.
С распространением восточных религий, которые внушали мысль
о том, что единственно достойной целью жизни является соединение с Богом и
личное спасение, а благоденствие и даже само существование государства в
сравнении с ними ничего не значат, ситуация резко изменилась. Неизбежным
следствием принятия этого эгоистичного и аморального учения был все
возрастающий отход верующих от служения обществу, концентрация на личных
духовных переживаниях и появление у них презрения к окружающей жизни, в которой
они начинают видеть не более как временное испытание перед жизнью вечной.
Высочайшим идеалом человека в народном представлении стал святой отшельник,
полный презрения ко всему земному и погруженный в экстатическое религиозное
созерцание; этот идеал пришел на смену древнему идеалу самозабвенного героя‑патриота,
готового пожертвовать жизнью на благо своей родины. Людям, чьи взоры были
устремлены к заоблачному Граду Божьему, град земной стал казаться низменным и
жалким. Центр тяжести, так сказать, переместился с настоящей жизни на будущую,
и насколько от этого перемещения выиграл один мир, настолько проиграл другой.
Начался процесс всеобщей дезинтеграции общества: государственные и семейные
связи ослабли, общественная структура стала распадаться на составляющие
фрагменты, над обществом вновь нависла угроза варварства. Ведь цивилизация
возможна только при условии активного содействия со стороны граждан, при
условии их готовности подчинить свои частные интересы общему благу. Между тем,
люди отказывались защищать свою родину и даже продолжать свой род. В стремлении
спасти свою душу и души других людей они равнодушно смотрели на то, как гибнет
окружающий мир – мир, который стал для них символом греховности. Это наваждение
длилось целое тысячелетие. Возврат европейцев к исконным принципам их жизненной
ориентации, к трезвому, мужественному взгляду на жизнь отмечен возрождением в
конце Средневековья римского права, философии Аристотеля, античной литературы и
искусства. Долгому застою в развитии цивилизации пришел конец. Волна восточного
нашествия наконец захлебнулась и стала идти на убыль. Отлив этот продолжается
до сих пор»[442].
Отлив все еще продолжался, когда писались эти строки в 1948
г., и автору интересно было бы знать, что бы сказал маститый ученый,
пересматривая в это время четвертое издание «Золотой ветви», о тех способах,
какими заявил о себе через сорок один год после публикации этого вызывающего
отрывка возврат европейцев «к исконным принципам их жизненной ориентации».
Фрэзер и одинаково мыслящие с ним современники оказались последним поколением
рациональных и терпимых неоязычников западной школы, возникшей в Италии в XV в.
христианской эры. К 1952 г. они были сметены волной демонических,
эмоциональных, не гнушающихся насилием последователей, появившихся из
неизмеримых глубин секуляризованного западного общества. Слова Фрэзера были
вновь произнесены голосом Альфреда Розенберга[443] с другим звучанием. Однако факт остается
фактом: и Розенберг, и Фрэзер – оба воспроизвели идентичный тезис Гиббона.
В предыдущих частях своего «Исследования» мы уже подробно
доказали, что надлом эллинского общества фактически произошел задолго до того,
как оно пережило проникновение христианства или любой другой восточной религии,
которые безуспешно соперничали с христианством. Наши исследования позволили
прийти к заключению, что до сих пор высшие религии никогда не были повинны в
смерти какой‑либо цивилизации и что эта трагедия могла быть только
возможностью. Чтобы добраться до сути вопроса, мы должны перенести наше исследование
из макрокосма в микрокосм, от фактов истории прошлого к неизменным
характеристикам человеческой природы.
Фрэзер заявлял о том, что высшие религии являются по сути
своей безнадежно антисоциальными. Когда круг человеческих интересов
перемещается из сферы идеалов цивилизации в сферу идеалов высших религий,
действительно ли общественные ценности, на олицетворение которых претендует
цивилизация, будут непременно страдать? Являются ли духовные и общественные
ценности противоположными и враждебными друг другу? Разрушается ли структура
цивилизации, если спасение индивидуальной души берется в качестве высшей цели
жизни? Фрэзер отвечает на эти вопросы утвердительно. А если бы такой ответ был
верен, то это бы означало, что человеческая жизнь – трагедия без катарсиса.
Автор данного «Исследования» полагает, что ответ Фрэзера был неверен и что он
основывался на неправильном понимании как природы высших религий, так и природы
человеческих душ.
Человек не является ни обезличенным муравьем, ни асоциальным
циклопом, но – «социальным животным», личность которого можно выразить и
развить только через отношения с другими личностями. И наоборот, общество – не
что иное, как точка пересечения сети отношений одного индивида с сетью
отношений другого. Оно существует лишь в деятельности индивидов, которые, в
свою очередь, не могут существовать вне общества. Нет никакой дисгармонии и
между отношениями индивида со своими собратьями и его отношением с Богом. В
мировоззрении первобытного человека существует явное единство между членом рода
и его богами, которое, будучи весьма далеким от того, чтобы отчуждать членов
рода друг от друга, является сильнейшей из социальных связей между ними.
Достижение подобной гармонии между долгом человека по отношению к Богу и долгом
по отношению к ближнему было исследовано и проиллюстрировано на примитивном
уровне самим Фрэзером. Распадающиеся же цивилизации только подтвердили это,
когда нашли новую связь для общества в культе обожествленного цезаря.
Действительно ли гармония превращается в разногласие из‑за «высших религий»,
как утверждает Фрэзер? В теории, равно как и на практике, ответ, по‑видимому,
оказывается отрицательным.
С априорной точки зрения (начнем с этого подхода), личности
иначе как носители духовной деятельности немыслимы, а единственная мыслимая
сфера духовной деятельности находится в отношениях между духом и духом. В
поисках Бога человек совершает социальное действие. И если любовь Бога
проявилась в этом мире в Искуплении человечества Христом, то тогда человеческие
попытки сделать себя более похожими на Бога, создавшего человека по Своему
образу, должны включать в себя и попытки следовать примеру Христа, принося себя
в жертву ради искупления своих собратьев. Противоположность между желанием
снасти свою душу, стремясь к Богу, и желанием исполнить свой долг по отношению
к ближнему тем самым является ложной.
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя»{101}.
Очевидно, что в Воинствующей Церкви на земле благие
социальные намерения земных обществ будут достигнуты более успешно, чем они
могли бы быть достигнуты в земном обществе, которое стремится непосредственно к
этим целям, и ни к чему более высокому. Другими словами, духовный прогресс
индивидуальных душ в этой жизни фактически влечет за собой гораздо больший
прогресс общества, чем тот, который мог бы быть достигнут любым другим путем. В
аллегории Беньяна Пилигрим не мог найти «калитку», которая вела в жизнь благого
поведения, пока не увидел вдалеке «сияющий свет» на горизонте[444]. И то, что мы
утверждаем здесь на языке христианства, можно было бы перевести и на язык любой
другой высшей религии. Сущность христианства – это сущность высших религий как
класса, хотя в разных глазах эти различные окна, через которые Божественный
свет сияет человеческой душе, могут отличаться по степени своей прозрачности
или выбору лучей, которые он способен пропустить.
Когда мы переходим от теории к практике, от природы
человеческой личности к фактам истории, то наша задача по доказательству того,
что религиозные люди фактически служа практическим потребностям общества, могла
бы показаться слишком легкой. Если бы мы сослались на св. Франциска Ассизского[445], св. Винсента
де Поля[446], Джона Уэсли[447] или Давида Ливингстона, то нас могли бы
обвинить в доказательстве того, что не требует доказательств. Поэтому мы
сошлемся на категорию личностей, обычно рассматриваемых и осмеиваемых как
исключения из правил, категорию личностей одновременно и «одурманенных Богом»,
и «антиобщественных», людей святых и нелепых, цинично характеризуемых как
«хороший человек в худшем смысле этого слова». Мы имеем в виду анахоретов – св.
Антония Великого[448] в его пустыне и св. Симеона Столпника на его
столпе. Очевидно, что, изолируя себя от своих собратьев, эти святые входили в
гораздо более активные отношения с гораздо более широким кругом, чем тот,
который бы мог окружать их, если бы они остались «в миру» и посвятили бы свою
жизнь какому‑нибудь светскому занятию. Из своего уединения они оказывали на мир
гораздо большее влияние, чем император оказывал из своей столицы, поскольку их
личные поиски святости через поиск единства с Богом были формой социального
действия, которая оказывала на людей более сильное воздействие, чем любая
социальная служба в политической сфере.
«Иногда говорили, что аскетическим идеалом восточных римлян
был бесплодный уход из современного мира. Житие св. Иоанна Милостивого[449] может подсказать, почему византиец в трудную
минуту инстинктивно обращался за помощью и утешением к аскету в полной
уверенности, что ему посочувствуют и окажут помощь… Одной из выдающихся черт
ранневизантийского аскетизма является его страстное стремление к социальной
справедливости и защита бедных и угнетенных»{102}.
2. Церковь как куколка
Мы опровергли точку зрения, согласно которой церкви – это
раковые опухоли, пожирающие живые ткани цивилизации.
Однако мы могли бы согласиться с афоризмом Фрэзера,
процитированным в конце отрывка, о том, что волна христианства, которая столь
мощно обрушилась на эллинское общество в его последней фазе, откатилась за
последнее время назад и что возникшее в результате постхристианское западное
общество – того же рода, что и дохристианское эллинское. Это наблюдение
предоставляет возможность второй концепции отношений между церквями и
цивилизациями, точки зрения, выраженной современным западным ученым в следующих
словах:
«Старая цивилизация обречена… С одной стороны, для
православных христиан Церковь, словно Аарон, стояла между живым и мертвым, в
качестве “среднего термина” между явлениями будущего мира и этого. Она была
Телом Христовым и потому была вечна, тем, ради чего стоило жить и трудиться.
Однако она пребывала в мире, равно как и сама Империя. Идея Церкви тем самым
образовывала бесценную неподвижную точку, вокруг которой могла медленно
кристаллизоваться новая цивилизация»{103}.
С этой точки зрения вселенские церкви имеют разумное
основание в поддержании того рода обществ, которые известны как цивилизации,
сохраняя драгоценный зародыш жизни в период опасного междуцарствия,
пролегающего между смертью одного представителя рода и рождением другого.
Церковь, таким образом, является частью репродуктивной системы цивилизаций,
служа яйцом, личинкой и куколкой, соединительным звеном между старой бабочкой и
новой бабочкой. Автор данного «Исследования» должен признаться, что многие годы
довольствовался этим довольно высокомерным взглядом на роль церквей в истории[450]. До недавнего
времени он полагал, что эта концепция церквей как куколок, в отличие от
концепции церквей как раковых опухолей, верна. Однако он начал считать, что это
лишь малая часть истины. Тем не менее это та часть истины, которую мы теперь
должны рассмотреть.
Если взглянуть на цивилизации, дожившие до 1952 г., то мы
увидим, что в основе каждой из них находится какая‑нибудь вселенская церковь,
через которую она является аффилированной цивилизацией старшего поколения.
Западная и православно‑христианская цивилизации сыновне‑родственны через
христианскую Церковь эллинской цивилизации. Дальневосточная цивилизация сыновне‑родственна
через махаяну древнекитайской. Индусская цивилизация через индуизм сыновне‑родственна
индской. Иранская и арабская через ислам сыновне‑родственны сирийской. Во всех
этих цивилизациях церкви выступали в качестве их куколок, и различные
сохранившиеся окаменелости умерших цивилизаций, о которых мы говорили ранее в
этом «Исследовании», сохранились в церковной оболочке: например, иудеи и парсы.
Эти окаменелости фактически были церквями‑куколками, которым не удалось
произвести на свет своих бабочек.
Процесс, с помощью которого цивилизация связана сыновне‑родственными
отношениями со своей предшественницей, будет в дальнейшем нашем обзоре примеров
разделен на три фазы. Исходя из концепции церкви как куколки, мы можем назвать
эти фазы «зачатием», «беременностью» и «разрешением от бремени». Три эти фазы
можно также приблизительно приравнять в хронологическом отношении к фазе
распада старой цивилизации, фазе междуцарствия и фазе возникновения новой
цивилизации.
Фаза зачатия в процессе аффилиации наступает в тот момент,
когда церковь может воспользоваться возможностью, предоставляемой ее светским
окружением. Одной из характерных черт этого окружения является то, что
универсальное государство неизбежно ликвидирует множество институтов и образов
жизни, которые давали жизненную энергию обществу в период его роста и даже в
«смутное время». Целью универсального государства является покой, но к вытекающему
из него чувству облегчения вскоре примешивается чувство разочарования. Ибо
жизнь не может сохраняться за счет простой остановки. В этой ситуации
нарождающаяся церковь может составить себе капитал, оказав закоснелому обществу
услугу, в которой то сейчас крайне нуждается. Она может открыть новые каналы
для выхода задержанных энергий человечества.
«Победа христианства над язычеством… предоставила оратору
новые темы для его красноречия, а логику – новые предметы для спора. Кроме
того, она породила новый принцип, действие которого постоянно чувствовалось в
каждой части общества. Она расшевелила закоснелую массу до самых ее глубин. Она
возбудила все страсти бурной демократии в апатичном населении переросшей
Империи. Боязнь ереси сделала то, что не смогло сделать чувство подавленности.
Она изменила людей, привыкших к тому, что их, как овец, перепродавали от тирана
к тирану. Она превратила их в преданных поборников и упорных бунтовщиков.
Выражения ораторского искусства, молчавшего на протяжении веков, громогласно зазвучали
с кафедры св. Григория. Дух, который был подавлен на равнинах Филипп,
возродился в Афанасии[451] и Амвросии»{104}.
Сказано столь же верно, сколь и красноречиво, но это уже
тема второй фазы, или фазы «беременности». Первая фаза – борьба,
предшествовавшая победе, дала обычным мужчинам и женщинам ободряющую
возможность принести высшую жертву, какая, например, составила славу и трагедию
их предков в те времена, когда Римская империя еще не подавила их своим
бездеятельным покоем универсального государства, пытаясь устранить последствия
«смутного времени». Таким образом, в фазе «зачатия» церковь вбирает в себя
жизненные энергии, которые государство не может уже ни высвободить, ни
использовать, и создает новые каналы, по которым эти энергии могут найти выход.
Фаза «беременности», следующая за предыдущей, отмечена огромным расширением
поля действия церкви. Она привлекает на свою службу выдающихся людей, которым
не удалось найти простора для применения своих талантов в светской
администрации. Наступает резкое перераспределение сил в пользу восходящего
института. Его скорость и масштаб зависит от того, с какой скоростью будет
разрушаться распадающееся общество. Например, в распадающейся древнекитайской
цивилизации успех махаяны в бассейне реки Хуанхэ, опустошенном евразийскими
кочевниками, был гораздо более полным, чем в бассейне Янцзы, куда их не пускали
дольше. В эллинском мире резкий переход латинизированных провинциалов в
христианство в IV столетии совпадал с перемещением правительственного центра в
Константинополь и фактическим опустошением западных провинций. Те же самые
характерные черты можно проиллюстрировать на примере распространения ислама в
распадающемся сирийском мире и распространения индуизма в распадающемся индском
мире.
В причудливых, но выразительных образах исламской мифологии
мы можем уподобить церковь в героический период ее истории воплощению пророка
Мухаммеда в виде барана, который, не спотыкаясь, идет по узкому, как лезвие
бритвы, мостику, являющемуся единственной дорогой в Рай над зияющей пропастью
Ада. Неверующие, которые осмеливаются идти своими ногами, неизбежно падают в
бездну. И лишь те души проходят этот путь, которым в награду за их добродетель
и веру позволено уцепиться за руно барана в удобном для переноса виде блаженных
клещей. Когда переход в должное время завершен, фаза «беременности» в
передаточной миссии церкви сменяется фазой «разрешения от бремени». Церковь и
цивилизация теперь меняются ролями. Церковь, которая прежде, в фазе «зачатия»,
черпала жизненную энергию из старой цивилизации, а в фазе «беременности»
прокладывала свой курс через бури междуцарствия, начинает отдавать свою
жизненную энергию новой цивилизации, зачатой в своем лоне. Мы можем наблюдать,
как эта творческая энергия под покровительством религии уходит по светским
каналам – в экономическую, политическую и культурную сферы общественной жизни.
В экономическом плане наиболее впечатляющее наследие фазы
«разрешения от бремени» вселенской церкви в появившуюся цивилизацию можно
увидеть в экономическом героизме современного западного мира. На время создания
этой книги уже прошло четверть тысячелетия с тех пор, как новое секулярное
общество завершило длительный процесс выхода из куколки западно‑христианской
католической Церкви. Однако чудесный и чудовищный аппарат западной техники все
еще видимым образом является побочным продуктом западно‑христианского
монашества. Психологическим основанием этого мощного материального здания была вера
в обязанность и достоинство физического труда – laborare est orare[452].
Подобный революционный отход от эллинской концепции труда как чего‑то грубого и
рабского не утвердился бы, если бы не был освящен Уставом св. Бенедикта. На
этом фундаменте бенедиктинский орден взрастил сельскохозяйственную основу
западной экономической жизни. В свою очередь, эта основа явилась базисом, на
котором цистерцианский орден[453] при помощи разумно направляемой деятельности
возводил промышленную надстройку. Продолжалось это до тех пор, пока алчность,
пробуждаемая этой Вавилонской башней монахов‑строителей в сердцах их светских
соседей, не достигла вершины, на которой те уже более не могли сдерживаться.
Разграбление монастырей явилось одним из источников современной западной
капиталистической экономики.
Что касается политической сферы, то мы уже видели ранее в
данном «Исследовании», как папство создавало Respublica Christiana,
которая обещала человечеству, что оно одновременно будет пользоваться как
преимуществами местного суверенитета, так и универсального государства, не
страдая от недостатков того и другого. Давая в обряде церковного венчания на
царство свое благословение политическому статусу независимых королевств,
папство возвращало в политическую жизнь множественность и разнообразие, которые
были столь плодотворны на стадии роста эллинского общества. В то же время
политическая разобщенность и разногласие, разорившие эллинское общество, могли
быть смягчены и подчинены контролю благодаря осуществлению игравшей
первостепенную роль духовной власти, на которую папство претендовало в качестве
церковного наследника Римской империи. Светские местные государи все вместе
могли пребывать в единстве под руководством церковного пастыря. После
нескольких столетий проб и ошибок этот политикоцерковный эксперимент потерпел
неудачу, и причины этой неудачи уже обсуждались ранее в данном «Исследовании».
Здесь нам придется лишь только принять его во внимание в качестве иллюстрации
роли христианской Церкви в ее фазе «разрешения от бремени» и отметить
соответствующую роль, сыгранную брахманским церковным братством в политическом
выделении нарождающейся индусской цивилизации. Брахманы признавали законность
династии раджпутов[454] таким же точно образом, каким христианская
Церковь оказала подобную услугу Хлодвигу или Пипину.
Когда мы перейдем к рассмотрению политической роли
христианской Церкви в православно‑христианском мире и махаяны – на Дальнем
Востоке, то увидим, что церковное поле деятельности в обоих этих обществах
ограничено эвокацией духа универсального государства предшествующей
цивилизации. Это суйское и танское возрождение империи Хань и восточно‑римское
(византийское) возрождение Римской империи в основном стволе православно‑христианского
мира. В дальневосточном обществе махаяна нашла для себя новое место в качестве
одной среди множества религий и философских систем, существующих бок о бок и
удовлетворяющих духовные потребности одной и той же публики. Она продолжала
ненавязчиво проникать в жизнь дальневосточного общества и внесла вклад в
обращение Кореи и Японии к образу жизни дальневосточной культуры. Ее роль в
этом сравнима с той ролью, которую сыграла западная католическая Церковь в привлечении
Венгрии, Польши и Скандинавии в орбиту западно‑христианского мира и восточная
православная Церковь – во взращивании ветви православно‑христианской
цивилизации на русской почве.
Когда мы перейдем от политического к культурному вкладу
«разрешившихся от бремени» церквей в нарождающиеся цивилизации, то обнаружим,
например, что махаяна, вытесненная с политической арены, действенно заявила о
себе в сфере культуры. Ее длительная интеллектуальная производительность была
частью наследия, полученного махаяной от первоначальной буддийской школы
философии. С другой стороны, христианство начиналось, не имея никакой
собственной философской системы, и оказалось вынужденным предпринимать tour
de force (рывок), представляя свою веру в чуждых интеллектуальных понятиях
эллинских школ. В западно‑христианском мире эта эллинская интеллектуальная
примесь стала чрезмерно преобладать после того, как была усилена в XII в.
«принятием» Аристотеля. Христианская Церковь внесла выдающийся вклад в
интеллектуальный прогресс Запада, основывая и благоприятствуя развитию
университетов, но в сферу изобразительного искусства культурное влияние Церкви
внесло свой наибольший вклад. Это утверждение столь очевидно, что не нуждается
в иллюстрациях.
Мы завершили наш обзор церквей в качестве куколок. Однако
если бы мы могли теперь подняться до высоты птичьего полета, с которой все
известные истории цивилизации были бы видны одновременно в своих отношениях
друг с другом, то мы бы немедленно отметили, что церкви‑куколки являются не
единственными посредниками, через которых одна цивилизация может войти в
сыновне‑родственные отношения со своей предшественницей. Возьмем лишь один
пример: эллинское общество было сыновне‑родственным минойскому, но нет никаких
данных о том, что внутри минойского мира развивалась какая‑то церковь, которая
послужила бы церковью‑куколкой для эллинского общества. И хотя определенные
зачаточные формы высшей религии развивались во внутренних пролетариатах
некоторых цивилизаций первого поколения (и, возможно, развивались, неизвестные
для современных исследователей, в других), очевидно, что ни один из этих
зачатков не развился до такой степени, чтобы успешно послужить в качестве
куколки для последующих цивилизаций. Внимательное рассмотрение всех наличных
примеров показывает, что ни одна из цивилизаций второго поколения –
эллинская, сирийская, индская и так далее – не входила в сыновне‑родственные
отношения со своей предшественницей посредством церкви. Все известные
вселенские церкви развивались внутри распадающихся социальных систем
цивилизаций второго поколения. Хотя некоторые из цивилизаций третьего поколения
являются надломленными и распадающимися, а всех их, возможно, ожидает это в
будущем, ни одна из них не предоставляет каких‑либо убедительных данных о
производстве второго урожая вселенских церквей.
Поэтому у нас есть исторический ряд, который мы можем
представить в виде следующей таблицы:
Примитивные
общества.
Цивилизации
первого поколения.
Цивилизации
второго поколения.
Вселенские
церкви.
Цивилизации
третьего поколения.
Имея в уме эту таблицу, мы теперь в состоянии обратиться к
вопросу, являются ли церкви чем‑то большим, нежели средствами воспроизводства
особого поколения цивилизаций.
3. Церковь как высший вид общества
а) Новая классификация
До сих пор мы действовали, исходя из предположения, что
цивилизации являются главными действующими лицами в истории и что роль церквей
– в качестве помех (раковые опухоли) или в качестве помощниц (куколки) –
второстепенна. Давайте теперь представим себе такую возможность, что церкви
являются главными действующими лицами и что историю цивилизаций надлежит
предугадывать и интерпретировать не на основе их собственных судеб, но на
основе их влияния на историю религии. Эта идея может показаться новой и
парадоксальной, однако она как‑никак представляет собой исторический метод,
применяющийся в собрании книг, называемых нами Библией.
С этой точки зрения нам придется пересмотреть наши
предшествующие предположения по поводу raison d'être (смысла
существования) цивилизаций. Нам придется считать, что цивилизации второго
поколения появились не для того, чтобы совершить свои собственные достижения,
также и не для того, чтобы воспроизвести свой род в третьем поколении, но для
того, чтобы дать возможность вполне развившимся высшим религиям появиться на
свет. А поскольку возникновение этих высших религий явилось следствием надломов
и распадов вторичных цивилизаций, то мы должны рассматривать заключительные
главы в их историях (главы, которые, с их точки зрения, повлекли за собой
неудачу) в качестве имеющих право на значительность. Двигаясь в том же
направлении мысли, мы должны будем считать, что первоначальные цивилизации
появились с той же самой целью. В отличие от своих последовательниц, этим
первым цивилизациям не удалось произвести на свет вполне развившиеся высшие
религии. Зачаточные высшие религии их внутренних пролетариатов – культ Таммуза
и Иштар, культ Осириса и Исиды – не расцвели пышным цветом. Однако эти
цивилизации выполнили свою миссию косвенным образом, породив вторичные
цивилизации, из которых со временем появились вполне развившиеся высшие
религии. И зачаточные религиозные продукты первых цивилизаций с течением
времени внесли свой вклад в стимулирование высших религий, порожденных вторым
поколением.
Исходя из этого, можно сказать, что последовательные подъемы
и спады первичных и вторичных цивилизаций являют собой примеры ритма
(наблюдаемого и в других контекстах), в котором последовательные обороты колеса
продвигают вперед повозку, движущуюся на колесах. И если мы спросим, почему
нисходящее движение в обороте колеса цивилизации будет средством продвижения
вперед колесницы религии, то найдем ответ в той истине, что религия – это
духовная деятельность и что духовный прогресс подчиняется «закону»,
сформулированному Эсхилом в двух словах πάθει μάθος – «мы учимся через
страдание». Если мы применим это интуитивное проникновение в природу духовной
жизни к духовной попытке, достигшей своей кульминации в расцвете христианства и
ее сестринских высших религий – махаяны, ислама и индуизма, то мы разглядим в
страданиях Таммуза и Аттиса, Адониса и Осириса предзнаменование Страстей
Христовых.
Христианство явилось результатом духовных усилий, которые
были следствием надлома эллинской цивилизации. Однако это была последняя глава
более долгой истории. Христианство имело иудейские и зороастрийские корни, а
эти корни берут начало в более ранних надломах двух других вторичных
цивилизаций – вавилонской и сирийской. Царства Израиля и Иудеи, в которых
следует искать истоки иудаизма, были двумя из множества воюющих местных
государств сирийского мира. Конец этих земных государств и прекращение всех их
политических амбиций явились тем опытом, который породил на свет религию
иудаизма и нашел свое высшее выражение в элегии о Страдающем Рабе[455], сочиненной в
VI в. до н. э. в период предсмертной агонии сирийского «смутного времени»,
накануне основания империи Ахеменидов.
Это, однако же, не было началом истории, ибо иудейский
корень христианства коренился, в свою очередь, в Моисеевом законе, а эта
допророческая фаза религии Израиля и Иудеи явилась результатом предшествующей
светской катастрофы – разрушения «Нового царства» в Египте, в ряды внутреннего
пролетариата которого, согласно их преданиям, были призваны израильтяне. Те же
самые предания говорят о том, что египетскому эпизоду в истории израильского
народа предшествовало шумерское введение, в ходе которого Авраам, получивший
Откровение от единого истинного Бога, был вынужден оторваться от обреченного на
гибель имперского города Ура в период распада шумерской цивилизации. Таким
образом, первый шаг в духовном прогрессе, который достигнет своей высшей точки
в христианстве, традиционно связывается с первым известным историкам примером
падения универсального государства. В этой перспективе можно было бы
рассматривать христианство как высшую точку духовного прогресса, который не
просто пережил последовательные светские катастрофы, но черпал из них
накопленное вдохновение.
На основе сказанного складывается впечатление, что история
религии кажется единой и поступательной в противоположность множественности и
повторяемости истории цивилизаций. Эта противоположность обнаруживается как во
временном, так и в пространственном измерениях. Ведь христианство и три другие
высшие религии, сохранившиеся до XX столетия христианской эры, имеют между
собой более близкое родство, чем современные им цивилизации. Это родство было
особенно близким между христианством и махаяной, которая разделяет то же самое
воззрение на Бога как на приносящего Себя в жертву Спасителя. Что касается
ислама и индуизма, то они тоже отражают проникновение в природу Бога,
вложившего в них особый смысл и возложившего на них особую миссию. Ислам вновь
заявил о единстве Бога в противоположность кажущемуся ослаблению понимания этой
важной истины в христианстве, а индуизм вновь заявил о личности Бога как об
объекте человеческого поклонения в противоположность явному отрицанию личности
в первоначальной буддийской системе философии. Четыре высшие религии явились
четырьмя вариациями на одну тему.
Однако если это так, то почему, по крайней мере, в религиях
иудаистического происхождения – христианстве и исламе – человеческое
представление о единстве Откровения ограничивалось до сих пор немногими редкими
личностями, тогда как обычный взгляд был прямо противоположен? С официальной
точки зрения каждой из иудаистических высших религий, тот свет, который сияет
через ее личное окно, есть единственный полный свет, а все сестринские религии
пребывают в сумерках, если не в полной тьме. Та же точка зрения отстаивается
каждой сектой, отделившейся от каждой из религий, в противоположность точке
зрения других сестринских сект. Этот отказ различных вероисповеданий признать
то, что они имеют между собой общее, и согласиться с требованиями друг друга дает
агностикам повод для богохульства.
Когда мы задаемся вопросом, а не будет ли это плачевное
положение дел продолжаться бесконечно, то мы должны напомнить себе, что в
данном контексте означает слово «бесконечность». Мы должны вспомнить о том, что
до тех пор, пока род человеческий использует вновь открытые техники уничтожения
животной жизни на этой планете, человеческая история все еще находится на
стадии младенчества и, вероятно, будет находиться на ней бесчисленные
тысячелетия. В свете этой перспективы идея о бесконечной длительности нынешнего
состояния религиозного местничества становится абсурдной. Либо различные церкви
и религии, подобно килкеннским котам, будут грызться друг с другом до смерти,
пока не останется ни одной из них, либо объединившийся человеческий род обретет
спасение в религиозном единстве. Теперь давайте посмотрим (если мы можем, хотя
бы и ориентировочно, заглянуть вперед), какова могла бы быть природа этого
единства.
Низшие религии по своей природе являются локальными. Это
религии племен или отдельных государств. Установление универсальных государств
уничтожает raison d'être (смысл существования) этих религий и создает
обширные области, на которых религии – высшие или иные – состязаются за сердца
обращенных. Тем самым религия становится делом личного выбора. Мы уже
неоднократно видели в нашем «Исследовании», какое множество религий состязалось
за приз, выигранный в Римской империи христианством. Каков был бы результат
нового взрыва одновременной миссионерской деятельности на одном поле – на этот
раз во всемирном масштабе? История соответствующей деятельности в рамках
Ахеменидской, Римской, Кушанской, Ханьской и Гуптской империй показала, что
результатом могла стать одна из альтернатив. Либо одна религия оказывалась
победившей, либо соперничающие религии примирялись друг с другом, чтобы жить
бок о бок, как в древнекитайском и индском мирах. Два исхода не настолько
различны, как может показаться на первый взгляд, поскольку победившая религия
обычно достигает победы, переняв какие‑то характерные черты своих соперниц. В
пантеоне победившего христианства фигуры Кибелы и Исиды вновь заявили о себе в
превращении Марии в Великую Мать Бога, а черты Митры и Sol Invictus различимы в
образе воинствующего Христа. Подобным образом и в пантеоне победившего ислама
изгнанный Воплощенный Бог был незаметно возвращен под видом обожествленного Али[456], тогда как
запрещенное идолопоклонство вновь о себе заявило в совершенном самим
основателем ислама акте освящения фетишистского культа «черного камня» Каабы в
Мекке. Тем не менее различие между двумя альтернативными исходами имеет важное
значение, и дети вестернизированного мира XX столетия не могут быть безразличны
относительно своего положения в будущем.
Какой исход наиболее вероятен? В прошлом преобладала
нетерпимость, когда в одной области существовали высшие религии иудаистического
происхождения. В то же время «жить и давать жить другим» было правилом, когда
преобладал индский этос. Ответ в данном случае мог бы определяться природой
противников, с которыми высшие религии столкнутся на своем пути.
Почему христианство, осознав и провозгласив иудейское
прозрение, что Бог есть Любовь, вновь вернулось к несовместимой иудейской
концепции Бога‑Ревнителя? Этот возврат, в результате которого христианству был
нанесен тяжелый духовный ущерб, явился ценой, заплаченной христианством за
победу в смертельной борьбе с культом Цезаря. Восстановление мира в результате
победы Церкви не уничтожило, но, наоборот, закрепило несовместимую ассоциацию
Яхве с Христом. В час победы непримиримость христианских мучеников перешла в
нетерпимость христианских преследователей. Эта начальная глава истории христианства
явилась зловещим предзнаменованием для будущего вестернизированного мира XX
столетия, поскольку культ Левиафана, которому раннехристианская Церковь нанесла
поражение, казавшееся уже окончательным, вновь заявил о себе с грозным
появлением тоталитарного типа государства, с дьявольской изобретательностью
завербовавшего на свою службу современный западный гений организации и
механизации в целях порабощения как душ, так и тел до такой степени, какая была
недоступна для злонамеренных тиранов прошлого. Похоже, что в современном
вестернизированном мире вновь должна начаться война между Богом и кесарем. И,
похоже, что и в этом случае нравственно благородная, хотя и опасная в духовном
плане роль воинствующей церкви вновь выпадет на долю христианства.
Следовательно, христианам, рожденным в XX столетии
христианской эры, следует принять во внимание ту возможность, что вторая борьба
с культом кесаря может обернуться для христианской Церкви вторым возвращением к
культу Яхве, прежде чем она успеет оправиться от первого. Однако если у них
есть достаточно веры, чтобы уповать на то, что в конце концов откровение о Боге
как о Любви, воплощенной в страдающем Христе, вновь оживит окаменевшие сердца,
то они могут рискнуть и всмотреться в будущее религии в политически объединенном
мире, который будет освобожден христианским Откровением от культа Яхве, так же
как и от культа кесаря.
Когда к концу IV столетия христианской эры победившая
Церковь начала преследовать тех, кто отказывался присоединиться к ней, язычник
Симмах[457] выступил с протестом, который содержал в себе
следующие слова: «Сути столь великой тайны никогда нельзя достичь, следуя
только одним путем». В этом высказывании язычник гораздо ближе к Христу, чем
преследователи‑христиане. Милосердие – мать понимания, и в приближении человека
к единому истинному Богу не может быть единообразия, поскольку человеческая
природа отражает плодотворное разнообразие, являющееся отличительным признаком
творческой деятельности Бога. Религия существует, чтобы дать возможность
человеческим душам воспринять божественный свет. Она не смогла бы выполнить эту
задачу, если бы не отражала верно различие верующих в Бога. Отсюда можно
предположить, что тот образ жизни, который предлагает каждая из живых высших
религий, и то видение Бога, которое она представляет, будут соответствовать
одному из основных психологических типов, отличительные черты которых
постепенно были выявлены в XX в. первооткрывателями этой новой области
человеческого знания. Если бы каждая из этих религий не удовлетворяла в
подлинном смысле слова некоторым широко распространенным человеческим
потребностям, то вряд ли было бы возможно, чтобы каждая из них добилась успеха,
сохраняя верность такой большой части рода человеческого на протяжении столь
долгого периода времени. В этом свете разнообразие живых высших религий перестало
бы быть камнем преткновения и открылось бы как необходимое естественное
следствие, вытекающее из разнообразия человеческой души.
Если бы этот взгляд на будущее религии был убедительным, то
он бы открыл новый взгляд на роль цивилизаций. Если бы движение колесницы
религии шло постоянно в одном направлении, то циклическое и повторяющееся
движение подъема и спада цивилизаций не только могло бы не противоречить, но и
помогать этому поступательному движению. Оно служило бы своей цели и обрело бы
свой смысл в продвижении колесницы вверх к Небесам при помощи периодических
поворотов на земле «скорбного колеса» рождений – смертей – и рождений.
В этой перспективе цивилизации первого и второго поколений,
несомненно, оправдали бы свое существование, однако претензии цивилизаций
третьего поколения показались бы, на первый взгляд, сомнительными. Первое
поколение породило в период своего упадка зачатки высших религий. Второе
поколение породило четырех развившихся представителей рода, которые еще
действовали ко времени создания этой книги. Те же новые религии, в которых
можно было бы распознать вероятные продукты деятельности внутреннего
пролетариата третьего поколения, казалось, производили на время написания очень
жалкое впечатление. И хотя Джордж Элиот[458] писала, что «пророчество представляет собой
самую безвозмездную форму человеческой ошибки», можно было бы без большого
риска попытаться предсказать, что они и со временем не будут пользоваться
авторитетом. Вероятно, единственным возможным оправданием существования
современной западной цивилизации, с точки зрения представляемой нами здесь
истории, было бы то, что эта цивилизация могла оказать христианству и его трем
живым сестринским религиям услугу по обеспечению для них земного места встречи
в мировом масштабе, убеждая их в единстве их собственных последних ценностей и
верований и ставя всех их перед вызовом новой вспышки идолопоклонства в особо
ужасной форме общего почитания человеком самого себя.
б) Значение прошлого церквей
Позиция, изложенная в предыдущем параграфе данной главы,
открыта для атаки как со стороны тех, кто рассматривает все религии в качестве
фантазий и стремления выдать желаемое за действительное, так и со стороны тех,
кто осуждает церкви как всегда и всецело недостойные той веры, которую они
исповедуют. Чтобы отразить первую атаку, надо выйти за пределы данного
«Исследования истории». Если же мы ограничимся отражением второй атаки, то мы
искренне согласимся с тем, что у наших критиков большое количество материала
для обвинения. Вожди христианской Церкви, например, множество раз, начиная с
древнейших времен и вплоть до самого недавнего времени, казалось бы, изо всех
сил старались опровергнуть своего Основоположника, усваивая свойственные иудеям
фарисейство и вмешательство духовенства в светские дела, свойственные грекам
политеизм и идолопоклонство, а также доставшуюся по наследству от римлян
законническую защиту имущественных прав. Другие высшие религии не в меньшей
степени уязвимы для критики на аналогичных основаниях.
Подобные недостатки можно объяснить, хотя, конечно же, не
извинить, саркастическим замечанием остроумного викторианского епископа,
который на вопрос о том, почему духовенство так глупо, отвечал: «А чего вы
хотите? Нам приходится пополнять наши ряды только из мирян». Церкви составляют
не святые, но грешники, и церкви, подобно школам, в любом обществе и в любое время
не могут намного опережать то общество, в котором они живут и развиваются.
Однако противник мог бы возобновить атаку и грубо возразить нашему
викторианскому епископу, что отбор, который делает его церковь из мирян, это не
сливки, но подонки общества. Одним из обвинений, постоянно бросаемых
политически мыслящими противниками христианской Церкви в современном западном
мире, является то, что она является палкой в колесах прогресса.
«По мере того, как начиная с XVII в. постхристианская
западная цивилизация выделялась из западно‑христианского мира, Церковь,
справедливо боясь распространения секуляризма и возврата к неоязычеству,
ошибочно отождествляла веру с отмиравшей социальной системой. Тем самым, ведя
интеллектуальный арьергардный бой против “либеральных”, “модернистских” и
“научных” ошибок, она опрометчиво оказывалась в положении политического
архаизма, поддерживая феодализм, монархию, аристократию, “капитализм” и вообще ancien
regime (старый режим), и становилась союзником, а часто и орудием
политических реакционеров, которые по духу были столь же антихристиански
настроены, как и их общий “революционный” враг. Отсюда неприятная политическая
репутация современного христианства: в XIX в. оно вступило в союз с монархизмом
и аристократией, чтобы уничтожить либеральную демократию, в XX в. оно вступило
в союз с либеральной демократией, чтобы уничтожить тоталитаризм. Таким образом,
по‑видимому, со времен Французской революции она [всегда] была старомодной в
политическом отношении. В этом, конечно же, суть марксистской критики
христианства в современном мире. Христианский ответ, вероятно, заключался бы в
следующем: когда гадаринское свиное стадо распадающейся цивилизации безудержно
мчится вниз, к пропасти, обязанность Церкви – держаться в задних рядах стада и
направлять очи как можно большего числа людей назад, вверх по склону»{105}.
Те, для кого религия – фантазия, из‑за этих обвинений, а
также многих других, которые можно было бы предъявить, могут просто еще больше
укрепиться в своей, некогда ими усвоенной точке зрения. С другой стороны, тех,
кто, подобно автору данного «Исследования», верит, что религия – самая важная
вещь в жизни, эта вера могла бы подвигнуть на весьма длительный обзор. Они
вспомнили бы прошлое, которое хотя и было относительно кратким, тем не менее,
исчезло в тумане древности, и заглянули бы в будущее, которое, если не будет
прервано массовым убийством человеческого рода при помощи водородной бомбы или
какого‑либо другого шедевра западной техники, должно продолжаться почти
невообразимо долгое количество эонов.
в) Конфликт между сердцем и разумом
Как душам, ищущим Бога, отделить сущность религии от ее
акциденций? Как в ойкумене, в которую объединен весь мир, христианам,
буддистам, мусульманам и индусам идти дальше по этой дороге? Единственным путем,
открытым для этих собратьев по поиску духовного света, является та трудная
дорога, следуя по которой их предшественники достигли уровня религиозного
просвещения, представленного высшими религиями XX в. христианской эры. По
сравнению со стадией, воплощенной в первобытном язычестве, относительная
просвещенность высших религий ясно говорит об ошеломляющем прогрессе. Однако
они не могут более опираться на труды своих предшественников, поскольку
измучены конфликтом между сердцем и разумом, который не могут оставить
неразрешенным и который может быть разрешен только дальнейшим духовным
продвижением вперед.
Чтобы разрешить этот конфликт, надо понять, как он возник,
и, к счастью, происхождение данного конфликта между сердцем и разумом известно.
Он был вызван воздействием современной западной науки на высшие религии и
застиг их на той стадии развития, когда они еще несли с собой массу древних
традиций, которые к этому времени отжили свой век с любой точки зрения, даже
если бы современный научный взгляд никогда не появлялся на свет.
Это был не первый известный истории пример столкновения
между религией и рационализмом. Есть сведения, по крайней мере, о двух
предыдущих случаях. Чтобы напомнить тот из двух, который расположен к нам ближе
во времени, мы можем вспомнить, что каждая из четырех живых ныне высших религий
столкнулась – и при этом каждой удалось прийти к соглашению – с более старой
версией рационализма в ранней главе своей истории. Являющееся ныне
ортодоксальным богословие каждой из этих религий было продуктом приспособления
к влиятельной светской философии, которую возвышающаяся религия сама была
неспособна отвергнуть или хотя бы игнорировать, поскольку эта школа мысли
определяла духовную атмосферу культурного меньшинства в обществе, являвшемся в
данное время полем миссионерской деятельности церкви. Христианское и исламское
богословие было представлением христианства и ислама в понятиях эллинской
философии, а индусское богословие было представлением индуизма в понятиях
индской философии. В то же время махаяна была школой индской философии, которая
превратилась в религию, не переставая быть при этом философией.
Тем не менее все это представляет собой не первую главу
данной истории. Философские системы, которые уже были твердо закрепленными
системами идей ко времени, когда поднимающиеся высшие религии должны были
считаться с ними, некогда были динамичными интеллектуальными движениями. На
этой юношеской стадии жизни и роста, которая сравнима со стадией роста
современной западной науки, эллинская и индская философия сталкивались с
языческими религиями, унаследованными эллинской и индской цивилизациями от
первобытного человека.
На первый взгляд два эти прецедента могут показаться
обнадеживающими. Если человечество в прошлом уже пережило два столкновения
между религией и рационализмом, то не является ли это добрым предзнаменованием
для исхода текущего конфликта? Ответ заключается в том, что в первом из этих
двух столкновений текущая проблема не возникала, тогда как во втором она
получила решение, которое было столь действенным для задач своего времени и
своего места, что дожило до наших дней, став самой сутью вопроса, с которым
столкнулся вестернизированный мир XX столетия.
В столкновении между пробуждающейся философией и
традиционным язычеством не существовало проблемы примирения сердца и разума,
поскольку не было точки соприкосновения, в которой два органа могли бы вступить
в противоречие. Сутью первобытной религии является не вера, но действие, и
критерием ортодоксальности выступает не согласие с вероучением, но участие в
обрядовых действиях. Первобытная религиозная практика является самоцелью, и
практикующим не приходит в голову искать за исполняемыми ими обрядами истину,
которую бы эти обряды могли выражать. Обряды не имеют смысла помимо того
практического действия, которое, как верят, порождает их правильное соблюдение.
Соответственно, когда в подобном первобытном религиозном окружении появляются
философы, принимающиеся за составление схем человеческого окружения в
интеллектуальных понятиях, к которым применимы ярлыки «истинный» и «ложный», то
противоречия не возникает до тех пор, пока философ продолжает выполнять свои
наследственные религиозные обязанности. В его философии не может быть ничего,
что удерживало бы его от выполнения этих обязанностей, поскольку в традиционных
обрядах нет ничего, что могло бы быть несовместимым с какой‑либо философией.
Философия и первобытная религия встретились друг с другом, не вступив в
конфликт, и, по крайней мере, одно замечательное кажущееся исключение из этого
правила предстает совсем в другом свете при более тщательном рассмотрении.
Сократ, преданный смерти язычеством, не был мучеником за философию. При
проверке обстоятельств выясняется, что его узаконенное убийство явилось
эпизодом в ожесточенной политической борьбе между соперничающими партиями,
которая последовала за поражением Афин в Пелопоннесской войне. Если бы среди
его учеников не числился лидер афинских «фашистов»[459], то Сократ,
по‑видимому, умер бы в своей постели так же мирно, как Конфуций, его «двойник»
в древнекитайском языческом мире.
Новая ситуация возникла тогда, когда на сцену вышли высшие
религии. Эти высшие религии действительно смели со своего пути тяжелый груз
традиционных обрядов, которые они застали в тех обществах, где эти новые
верования появились впервые. Однако этот выброшенный за борт религиозный груз,
конечно же, не составлял их сути. Новой отличительной чертой высших религий
было то, что они основывали свои претензии на истинность на личных откровениях,
которые, как они настаивали, были даны их пророкам. И эти изречения пророков,
подобно высказываниям философов, представали в виде утверждений, которые можно
отнести к категории «истинных» или «ложных». Вследствие этого Истина стала
сферой интеллектуальных споров. Впредь будут существовать два независимых
авторитета – пророческое Откровение и философский Разум, – каждый из которых
претендовал на полноправное господство над всем полем деятельности интеллекта.
Таким образом, Разуму и Откровению стало невозможно жить и позволять друг другу
жить согласно предшествующему благоприятному положению мирного симбиоза Разума
и Обряда. Теперь казалось, что Истина имеет две формы, каждая из которых
претендует на абсолютную и первостепенную законность и при этом находится в
противоречии с другой. В этой новой мучительной ситуации были только две
альтернативы. Либо соперничающие представители двух существующих одновременно
форм Истины должны прийти к компромиссу, либо они должны бороться до тех пор,
пока та или иная партия не заставит другую отступить с поля битвы.
В столкновениях между эллинской и индской философией, с
одной стороны, и христианским, исламским, буддийским и индусским откровениями –
с другой, партии пришли к мирному соглашению, в результате которого философия
молча согласилась приостановить рациональную критику Откровения в обмен на
позволение перевести послания пророков на язык софистов. Мы не должны
сомневаться в том, что обе стороны добросовестно пошли на компромисс. Однако мы
можем видеть, что этот компромисс не содержал в себе реального решения проблемы
отношений между научной и пророческой Истиной. Предполагаемое примирение двух
видов Истины в рамках новой интеллектуальной дисциплины, названной теологией,
имело место только на словах. Формулы, освященные в вероучениях, были обречены
на недолговечное существование, поскольку они оставили после себя понимание
Истины таким же двусмысленным, каким и нашли его. Это псевдорешение второго
конфликта передалось по наследству следующим поколениям, явившись, скорее,
препятствием, нежели помощью при решении конфликта между религией и
рационализмом в нынешнем вестернизированном мире. Истинное решение невозможно
будет найти до тех пор, пока люди не осознают, что одно и то же слово «истина»,
когда его используют философы и ученые и когда его используют пророки, не
относится к одним и тем же реалиям, но является омонимом для обозначения двух
различных форм опыта.
Раньше или позже конфликт должен был вспыхнуть снова как
результат описанного нами компромисса. Ибо когда истина Откровения была
сформулирована словесно в понятиях научной истины, ученые не могли более
воздерживаться от критики всего учения, претендовавшего на научную истинность.
С другой стороны, христианство, когда его учение было сформулировано на
рациональном языке, не могло воздерживаться от претензий на власть над теми
областями знания, которые были законным владением Разума. А когда в XVII
столетии современная западная наука начала очаровываться эллинской философией и
поднимать интеллектуальную целину, первым побуждением Римской церкви был выпуск
директивы против наступления пробудившегося западного интеллекта на старого
эллинского интеллектуального союзника Церкви – как будто бы геоцентрическая
теория астрономии была пунктом христианского Символа веры, а галилеевская
поправка Птолемея была богословской ошибкой.
К 1952 г. эта война между наукой и религией свирепствовала
уже три столетия, а позиция церковных властей была точно такой же, как позиция
властей Великобритании и Франции после уничтожения Гитлером остатков
Чехословакии в марте 1939 г. В течение более двух столетий церкви наблюдали,
как наука захватывала у них одну область за другой. Астрономия, космогония,
хронология, биология, физика, психология – каждая, в свою очередь, были
захвачены и перестроены на основаниях, несовместимых с признанным религиозным
учением, и этим потерям не было видно конца. По мнению некоторых церковных
властей, единственная оставшаяся надежда церквей на выход из данной ситуации
заключалась бы в полной непримиримости.
Этот «консервативный» дух нашел свое выражение в Римской
католической церкви в декреталиях Ватиканского собора 1869‑1870 гг. и в
анафеме, наложенной на модернизм в 1907 г. Во владениях протестантских церквей
в Северной Америке этот дух окопался в «фундаментализме» «Библейского пояса»[460]. Аналогичным
образом он проявился в исламском мире в воинствующих архаических движениях
ваххабитов, сенуситов[461], идриситов[462] и махдистов[463]. Подобные
движения явились признаками не силы, но слабости. Они создавали видимость того,
что высшие религии обрекают себя на неудачу.
Перспектива того, что высшие религии могут безвозвратно
утратить свое влияние на человечество, не предвещает ничего хорошего. Ибо
религия – одна из неотъемлемых способностей человеческой природы. Когда люди
лишены религии, безнадежные духовные обстоятельства, в которых они тогда
оказываются, могут побудить их к тому, что они станут извлекать крупицы
религиозного утешения из самых дурных пород. Классическим примером этого
является та поразительная метаморфоза, в результате которой религия махаяны как
по волшебству появилась из отталкивающе безличной философии, явившейся первой попыткой
учеников Сиддхартхи Гаутамы сформулировать суть миссии Будды. В
вестернизированном мире XX столетия христианской эры начальную стадию подобного
же превращения материалистической философии марксизма можно различить в русских
душах, которых лишили их традиционной религиозной пищи.
Когда буддизм превратился из философии в религию, то высшая
религия явилась счастливым исходом. Однако если высшие религии изгоняются с
поля сражения, то следует опасаться, что образовавшийся вакуум будет занят
низшими религиями. В отдельных странах неофиты новых светских идеологий
фашизма, коммунизма, национал‑социализма и тому подобных стали настолько
сильны, что смогли захватить в свои руки правительственную власть и навязать
другим свои учения и обычаи при помощи безжалостных преследований. Однако
подобные ужасающие примеры вторичного появления древнего почитания человеком
самого себя под защитой корпоративной власти не дают представления об истинном
масштабе распространения этой болезни. Самым серьезным симптомом явилось то,
что в считающих себя демократическими и христианскими странах четыре пятых
религий из пяти шестых населения теперь практически исповедовало первобытный
языческий культ обожествленного общества, скрывавшийся под возвышенным именем
патриотизма. Кроме того, этот корпоративный культ своего «я» был далек как от
того, чтобы быть единственным reuenant[464],
так и от того, чтобы быть самым первобытным из этих навязчивых призраков. Ибо
все сохранившиеся примитивные общества и все едва ли менее примитивные
крестьяне незападных цивилизаций, составляющие три четверти ныне живущего
человечества, были мобилизованы в ряды непомерно раздутого внутреннего
пролетариата западного общества. В свете исторических прецедентов,
наследственные религиозные практики, в которых толпы простых новобранцев будут
продолжать искать удовлетворения своим собственным религиозным потребностям, по‑видимому,
найдут свой путь в пустые сердца искушенных хозяев пролетариата.
Исходя из этого, можно сказать, что окончательная победа
науки над религией оказалась бы гибельной для обеих сторон. Ибо разум, так же
как и религия, является одной из неотъемлемых способностей человеческой
природы. В продолжение четверти тысячелетия, предшествовавшей августу 1914 г.,
западного ученого поддерживало наивное убеждение в том, что он должен лишь
продолжать производить все новые и новые открытия, и тогда мир будет
становиться все лучше и лучше.
Когда ученые узнают что‑то еще,
Мы будем счастливее, чем были
прежде[465].
Однако убеждению ученого повредили две основные ошибки. Во‑первых,
он ошибся, приписав относительное благополучие XVIII и XIX столетий западного
мира своим собственным достижениям. Во‑вторых, он ошибся, предположив, что это
недавно достигнутое благополучие сохранится и в дальнейшем. Совсем близко была
не Земля обетованная, а «Бесплодная земля»[466].
Дело в том, что господство над нечеловеческой природой,
дарованное наукой, является несравненно менее важным для человека, нежели его
отношения с самим собой, со своими собратьями и с Богом. Человеческий интеллект
никогда бы не имел никакого шанса сделать человека господином мира, если бы
дочеловеческий предок человека не был бы наделен способностью стать социальным
животным и если бы первобытный человек не возвысился до этой духовной
возможности настолько, чтобы научиться тем зачаткам социальности, которые
являются необходимыми условиями для выполнения совместной, совокупной работы.
Интеллектуальные и технические достижения человека были важны для него не сами
по себе, но лишь в той мере, в какой они заставляли его сталкиваться и преодолевать
те нравственные проблемы, от решения которых он мог бы в противном случае
продолжать уклоняться. Современная наука тем самым подняла нравственные
проблемы глубокой важности, однако она не внесла и не могла внести какой‑либо
вклад в их разрешение. Самыми важными вопросами, на которые должен был ответить
человек, были вопросы, по поводу которых наука ничего не могла сказать. Это был
тот урок, который попытался дать Сократ, когда он отказался от изучения физики,
чтобы достичь общения с духовной силой, наполняющей Вселенную и управляющей ею.
Теперь мы в состоянии увидеть то, что требуется от религии.
Она должна быть готова к тому, чтобы передать науке все области
интеллектуального знания, включая даже те традиционно считавшиеся религиозными
области, в обосновании прав на которые наука смогла преуспеть. Традиционное
господство религии над интеллектуальными сферами было исторической
случайностью. Религия выигрывала в той мере, в какой она расставалась с властью
над этими сферами, поскольку управление ими не было частью ее собственной
деятельности, заключавшейся в том, чтобы привести человека к его истинной цели
поклонения Богу и вхождения в общение с Ним. Религия, бесспорно, выиграла,
оставив науке интеллектуальные области астрономии, биологии и остальные утраченные
области, которые мы уже перечисляли. Даже сдача психологии, какой бы
мучительной она ни показалась, смогла стать столь же благотворной, сколь и
мучительной, поскольку сняла с христианской теологии некоторые из тех
антропоморфных покровов, которые оказались в прошлом самыми сильными преградами
между человеческой душой и ее Создателем. Если бы в этом удалось преуспеть, то
наука, до сих пор лишавшая душу Бога, несомненно, еще на один шаг приблизила бы
душу к бесконечно удаленной цели ее пути.
Если бы религия и наука смогли достичь смирения и сохранить
самоуверенность в тех сферах, где для каждой из них самоуверенность и смирение
соответственно поменялись бы местами, то они смогли бы оказаться в состоянии,
благоприятном для примирения. Однако благоприятное расположение чувств не
заменит действия. Если примирения и можно достичь, то враждующие стороны должны
искать его через некоторые совместные усилия.
В прошлом это осознали участники столкновения между
христианством и эллинской философией и участники столкновения между индуизмом и
индской философией. В обоих этих столкновениях конфликт был приостановлен
благодаря акту примирения, придавшему богословское выражение религиозному
обряду и мифу в философских понятиях. Однако, как мы видели, эта линия
поведения в обоих случаях явилась заблуждением, основанным на ложно
поставленном диагнозе отношений между духовной и интеллектуальной истинами. Он
основывался на ошибочном предположении о том, что духовная истина могла бы быть
сформулирована в интеллектуальных понятиях. В вестернизированном мире XX
столетия было бы хорошо предостеречь сердце и разум от этого безуспешного
эксперимента.
Даже если бы и оказалось возможным отказаться от
классической теологии четырех ныне живых религий и заменить их новомодной
теологией, выраженной на языке современной западной науки, успешное выполнение
этого tour de force (дела необычайной сложности) явилось бы просто
повторением предыдущей ошибки. Научно сформулированная теология (если бы
таковую можно было бы себе представить) оказалась бы столь же
неудовлетворительной и недолговечной, сколь и философски сформулированные
теологии, которые, подобно мельничным жерновам, висели на шеях буддистов,
индусов, христиан и мусульман в 1952 г. Она была бы неудовлетворительной,
поскольку явилась бы одной из заслуг интеллекта, который постоянно меняет свою
точку зрения и отбрасывает предшествующие выводы.
Что же в таком случае следует делать сердцу и разуму, чтобы
примириться, в свете их исторической неудачи в создании общей платформы для
себя в виде теологии? Представится ли какой‑нибудь удобный случай для их
совместного действия в более многообещающем направлении? Ко времени, когда были
написаны эти слова, сознанием западного человека все еще владели возрастающие
победы естественной науки, которые недавно увенчались великолепным достижением
в виде расщепления структуры атома. Однако если верно, что миля, выигранная
человеком в продвижении вперед его власти над нечеловеческим окружением, менее
значительна для него, чем дюйм, выигранный в расширении его способности
общаться с самим собой, со своими собратьями и с Богом, то тогда вполне
возможно, что из всех достижений западного человека в XX столетии христианской
эры подвигом, который при ретроспективном взгляде показался бы самым
значительным, стало бы поднятие целины в сфере проникновения в человеческую
природу. Отблеск этого света можно уловить в отрывке, вышедшем из‑под мудрого
пера современного английского поэта.
Корабли больше не возвращаются
через Океан
С разных концов земли, с той
стороны земного шара,
Домой в свой крошечный уголок
Европы,
Нагруженные свежими новостями о
вновь открытых мирах…
Однако даже теперь, несмотря на
все изменения,
Остается один мир, где может
действовать Фантазия, –
Отдаленный, непостижимый,
неопределенный,
Который люди лишь недавно стали
изучать,
Мир фантомов, пугающе‑призрачных
туманов,
Управляемый не моряками, но
психологами,
Без экватора, широт и полюсов,
Покрытый вуалью, смутный хаос
человеческой души{106}.
Неожиданное вступление западного научного сознания в это
царство психологии частично явилось побочным продуктом двух мировых войн,
которые велись при помощи оружия, которое было способно произвести тяжелейшее
воздействие на душу. Благодаря обусловленному таким образом беспрецедентному
клиническому опыту, западный интеллект обнаружил подсознательные глубины души и
приобрел новое понимание себя как чего‑то неуловимого, находящегося над
поверхностью этой неизмеримой психической бездны.
Подсознательное можно уподобить ребенку, дикарю, даже
грубому животному, которое в то же время мудрее, честнее и менее склонно к
ошибкам, чем само сознание. Оно является одним из тех статически совершенных
творений, которые представляют собой места остановки Создателя, тогда как сознательная
человеческая личность – это бесконечно несовершенное приближение к Бытию
несоизмеримо более высокого порядка, каковым является Сам Создатель обеих этих
разных, хотя и неразделимых органов человеческой души. Если бы современные
западные умы открыли подсознательное просто для того, чтобы найти в нем новый
объект для идолопоклонства, то они поставили бы новый барьер между собою и
Богом, не воспользовавшись новой возможностью приблизиться к Нему. Ибо,
несомненно, такая возможность здесь была.
Если наука и религия смогли бы воспользоваться возможностью
приблизиться к Богу, совместно пытаясь постичь многообразное творение Бога –
душу – как в ее подсознательных глубинах, так и на поверхности сознания, то
какова была бы та награда, на которую они могли бы надеяться в случае успешного
завершения их совместной попытки? Награда действительно была бы роскошной, ибо
подсознание, а не интеллект, является тем органом, которым человек переживает
духовную жизнь. Это источник поэзии, музыки и изобразительных искусств, канал,
по которому душа общается с Богом. В этом увлекательном духовном путешествии
первой задачей была бы попытка проникнуть в деятельность сердца. Ибо «у сердца
свои мотивы, которых разум не знает». Второй задачей стало бы исследование
природы различия между рациональной и интуитивной истиной, с надеждой на то,
что каждая из них является подлинной Истиной – каждая в своей собственной
сфере. Третьей задачей стала бы попытка наскочить на лежащую в основе скалу
фундаментальной Истины, на которой должны быть основаны и рациональная, и
интуитивная истины. Наконец, окончательной целью в стремлении нащупать твердое
основание физического космоса было бы достижение более полного видения Бога,
обитающего глубоко внутри.
Предупреждение, к сожалению, столь часто игнорируемое
благонамеренными богословами, о том, что «Богу не угодно было принести спасение
Своему народу в виде диалектики»{107}, является одним из рефренов
Евангелий. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых
есть Царство Небесное… Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное»{108}. С точки зрения разума, подсознательное – это
действительно создание наподобие ребенка, как в своей простодушной созвучности
Богу, так и в своей неопытной непоследовательности, которую разум не может
одобрить. И, наоборот, с точки зрения подсознания, разум – это бессердечный
педант, который приобретает господство над природой ценой измены душе, позволив
ее видению Бога исчезнуть в свете обыденности. Однако разум, конечно же, является
не в большей степени врагом Бога, чем царство подсознательного за пределами
природы. И разум, и подсознание являются созданиями Бога. Каждое из них имеет
свою определенную область и задачу, и им нет нужды злословить друг друга, если
они перестанут вторгаться в чужую область.
г) Перспективы церквей на будущее
Если поколение, рожденное в XX столетии христианской эры,
могло бы предвкушать тот день, когда сердце и разум примирятся, тот оно могло
бы также надеяться и на то, что склонит сердце и разум к соглашению в понимании
значимости прошлого церквей, которое явилось отправной точкой для перехода на
последнюю стадию нашего исследования отношений между церквями и цивилизациями.
Обнаружив, что церкви не являются раковыми опухолями и что они больше, чем просто
второстепенные куколки, мы исследовали возможность того, что они могут
представлять собой высший вид обществ. Мы не можем вынести своего вердикта по
этому вопросу, не задавшись вопросом: какой свет может бросить прошлое церквей
на их будущее? И здесь мы должны вспомнить прежде всего о том, что на шкале
исторического времени высшие религии и церкви, в которых они воплощены,
являются еще очень молодыми. В викторианских церквях был популярен гимн, в
котором есть такие строки:
Оставив позади века,
Ее путешествие близится к концу,
Христианская Церковь продолжает
свой путь
И стремится достичь своего дома.
Этот гимн записан одним священником, который учил своих
прихожан изменять вторую строку и петь «Ее путешествие только началось», и это
его действие вполне согласуется с наличными фактами, как их понимает автор
данного «Исследования». Цивилизации были созданы только вчера по сравнению с
примитивными обществами, а церкви высших религий – не менее чем в два раза
младше самой старой цивилизации.
Что же было характерной чертой церкви, отличающей ее как от
цивилизации, так и от примитивного общества, и позволяющей нам классифицировать
церкви как отдельный, высший вид того рода, который охватывает все три типа
обществ? Отличительной чертой церквей было то, что все они являются как бы
партнерами единого истинного Бога. Это человеческое партнерство с единым
истинным Богом, к которому только приближались в примитивных религиях и
достигли в высших, дало этим обществам некоторые преимущества, каких мы не
можем найти в примитивных обществах или же цивилизациях. Оно дало им силу для
преодоления того разногласия, которое является одним из глубоко укоренившихся
зол человеческого общества. Оно предложило решение проблемы смысла истории.
Разногласие глубоко укоренилось в человеческой жизни,
поскольку человек – это самое трудное из всего, с чем он вынужден сталкиваться
в мире. Он является в одно и то же время и социальным животным, и животным,
наделенным свободной волей. Соединение двух этих элементов означает, что в
обществе, состоящем исключительно из человеческих существ, будет постоянный
конфликт между волями, и этот конфликт будет приводить к губительным крайностям
до тех пор, пока человек не испытает чудо обращения. Обращение человека
необходимо для его спасения, поскольку его свободная и ненасытная воля дает ему
духовную мощь с опасностью отчуждения от Бога. Эта опасность не будет угрожать
дочеловеческому социальному животному, не получившему благословение (или
проклятие) в виде духовной способности подниматься над уровнем подсознательной
души. Ибо подсознательная душа наслаждается той же не требующей усилий
гармонией с Богом, которая гарантирована каждому невинному нечеловеческому
существу. Это негативно‑блаженное состояние Инь нарушается, когда человеческое
сознание и личность создаются в процессе движения Ян, в ходе которого «отделил
Бог свет от тьмы»{109}. Человеческое самосознание, которое может
служить в качестве избранного сосуда Божьего для достижения чудесного духовного
роста, может также и осудить себя на плачевное падение, если его знание о том,
что оно сотворено по образу Божьему, опьянит его и приведет к идолизации самого
себя. Это самоубийственное безрассудство, которое представляет собой возмездие
за грех гордыни, является духовным отклонением. Душа имеет постоянную
склонность стремиться к нему в том неустойчивом равновесии, которое составляет
суть человеческой личности. «Я» не может убежать от себя, духовно уединившись в
Инь‑состояние нирваны. Вновь обретенным состоянием Инь, в котором человек может
найти спасение, является покой не безвольного самоуничтожения, но напряженной
гармонии. Задачей души является возвращение детской невинности после того, как
она «рассталась с детством». «Я» должно достичь своего по‑детски искреннего
примирения с Богом путем решительного напряжения богоданной воли и приведения
ее в согласие с волей Божией и тем самым добиться Божьей милости.
Если в этом путь спасения человека, то он должен идти по
этой трудной дороге. Ибо один и тот же творческий акт, который сделал его homo
sapiens (человеком разумным), в то же самое время смертельно затруднил для
него возможность стать homo concors[467].
Социальное животное, каковым является homo faber (человек‑ремесленник),
должно действовать в согласии с другими, если не хочет уничтожить себя.
Благодаря врожденной социальности человека каждое
человеческое общество потенциально является всеохватывающим. Вплоть до 1952 г.
ни одно человеческое общество не становилось мировым во всех сферах социальной
деятельности. Однако современная секуляризованная западная цивилизация недавно
достигла фактической универсальности в экономическом и техническом планах, не
добившись при этом хоть сколько‑нибудь сопоставимого успеха в политическом и
культурном планах. После тяжелого опыта двух мировых войн было неясно, сможет
ли политическая унификация мира пройти без зловеще знакомого «нокаутирующего
удара», который является традиционной ценой достижения экуменического единства
в истории цивилизаций. В любом случае единства человечества нельзя достичь
таким грубым средством. Оно может быть достигнуто только как побочный результат
акта веры в единство Бога и прозрения этого единства в земном обществе как
провинции Божьего Града.
Огромная пропасть, существующая между открытым обществом
Божьего Града и закрытым обществом, примером которого являются все цивилизации,
а также тот духовный скачок, без которого эту пропасть нельзя преодолеть,
изображена современным западным философом:
«Человек был создан для жизни в очень небольших обществах.
Обычно признается, что такими и были первобытные общества. Но надо добавить,
что древнее состояние души сохраняется, скрытое под слоем привычек, без которых
не было бы цивилизации… Цивилизованный человек отличается от первобытного
главным образом огромной массой познаний и привычек, которые с самого
пробуждения его сознания он черпал в социальной среде, где они хранились. Естественное
в значительной мере покрыто приобретенным, но оно сохраняется почти неизменным
из века в век… Ошибочно было сказано: “Прогоните природу, и она вернется
галопом”[468], так как
природа не поддается изгнанию. Она всегда присутствует… [Естественное в
значительной мере покрыто приобретенным, но оно сохраняется почти неизменным из
века в век]: привычки и познания далеко не наполняют организм и не передаются наследственно,
как это иногда себе представляли. Правда, мы могли бы пренебречь этим
естественным в нашем анализе обязанности, если бы оно было подавлено
приобретенными привычками… Но оно сохраняется в отличном, весьма жизнеспособном
состоянии даже в самом цивилизованном обществе… Как бы ни отличались наши
цивилизованные общества от того общества, к которому мы непосредственно были
предназначены природой, они подобны ему в своей основе. В действительности они
также являются закрытыми обществами. Как бы обширны они ни были в сравнении с
мелкими группировками, к которым нас влечет инстинкт… всё равно их сущность
состоит в том, что они постоянно включают известное множество одних индивидов и
исключают других… Но между обществом, в котором мы живем, и человечеством в
целом существует, повторяем, тот же контраст, что между закрытым и открытым:
различие между обоими объектами – сущностное, а не просто количественное… Кто
не понимает, что социальная сплоченность в значительной мере связана с
необходимостью для членов данного общества защищаться от других обществ, что
прежде всего против других людей заключают союз и любят тех людей, с которыми
вместе живут? Таков первобытный инстинкт. Он все еще сохраняется, благополучно
скрытый под достижениями цивилизации, но и теперь мы естественно и
непосредственно любим наших родителей и наших сограждан, тогда как любовь к
человечеству носит опосредованный и приобретенный характер. К первым мы идем
прямой дорогой, к последнему мы приходим лишь окольным путем, ибо только через
Бога, в Боге, религия призывает человека любить человеческий род, точно так же,
как через Разум, в Разуме, посредством которого мы все объединяемся, философы
демонстрируют нам человечество, чтобы показать нам выдающееся достоинство
человеческой личности, право всех на уважение. Ни в первом, ни во втором
случаях мы не приходим к человечеству поэтапно, проходя через семью и нацию»{110}.
Единства человечества не может быть без участия Бога. И,
наоборот, когда человек лишается небесного руководства, он не только впадает в
разногласие, которое противоречит его врожденной социальности. Он также
мучается от трагического затруднения, которое свойственно ему как социальному
существу и которое, следовательно, обнаруживается тем острее, чем лучше ему
удается жить согласно нравственным требованиям своей социальной природы, до тех
пор, пока он стремится играть свою роль в обществе, членом которого не является
единый истинный Бог. Это затруднение состоит в том, что социальное действие, в
котором человек принимает чрезмерное участие, выходит – как во времени, так и в
пространстве – за пределы индивидуальной жизни на земле. Таким образом,
История, если на нее смотреть исключительно с точки зрения ее отдельного
участника, представляет собой «повесть, рассказанную идиотом и ничего не
значащую». Однако эти кажущиеся бессмысленными «звук и ярость» приобретают
духовный смысл, когда человек мельком замечает в Истории действие единого
истинного Бога.
Таким образом, хотя цивилизация и является предварительным
умопостигаемым полем исторического исследования, Град Божий – единственное
нравственно допустимое поле действия, и гражданство этого Civitas Dei
(Града Божьего) на земле дают людям высшие религии. Фрагментарное и мимолетное
участие человека в земной истории действительно спасает его, когда он играет
свою роль на земле в качестве добровольного помощника Бога, чье господство над
ситуацией придает божественную ценность и смысл всем, в ином случае ничтожным,
попыткам человека. Это искупление Истории столь дорого для человека, что в современном
секуляризованном западном мире криптохристианская философия истории сохраняется
даже якобы преодолевшими христианство рационалистами.
«Поскольку христиане верили в Библию и Евангелие, в историю
создания и благовестия Царства Божия, они могли отважиться на обобщение всей
Истории. Все последующие попытки этого же рода просто подменяли саму
трансцендентную цель, которая обеспечивала единство средневекового синтеза,
различными имманентными силами, которые служили в качестве заменителей Бога.
Однако задача оставалась по сути той же самой, и именно христиане первыми
поняли эту задачу – дать всей Истории вразумительное истолкование, которое бы
объяснило происхождение человечества и определило бы его цель…
Вся картезианская система основана на идее всемогущего Бога,
Который в известном смысле создает Себя и, следовательно, a fortiori
(тем более) создает вечные истины, включая истины математики, создает также
Вселенную ex nihilo (из ничего) и сохраняет ее актом непрерывного
творения, без которого все вещи снова канули бы в небытие, откуда их вывела Его
воля… Возьмем случай Лейбница. Что осталось бы от его системы, если изъять из
нее собственно христианские элементы? Не осталось бы даже формулировки его
собственной основной проблемы – а именно проблемы радикального происхождения
вещей и творения Вселенной свободным и совершенным Богом… Это любопытный факт,
и здесь стоит заметить, что если наши современники более не обращаются к Граду
Божьему и Евангелию, как это, не колеблясь, делал Лейбниц, то это совсем не
потому, что они избежали их влияния. Многие из них живут тем, что предпочли
забыть»{111}.
Наконец, только общество, поклоняющееся единому истинному
Богу, может избежать в будущем того, что ранее в данном «Исследовании» было
описано как опасности мимесиса. Ахиллесовой пятой в социальной анатомии
цивилизации является, как мы видели, ее зависимость от мимесиса (подражания)
как «социальной муштры», применяемой для того, чтобы рядовой состав
человечества следовал за своими вождями. В переходе от статического состояния
Инь к активности Ян, который имеет место на стадии возникновения цивилизации в
ходе мутации, происходящей в характере примитивного общества, рядовые переносят
объект своего мимесиса со своих предков на современных им творческих личностей.
Однако эта дорога, таким образом открывшаяся для социального прогресса, может
привести к вратам смерти, поскольку ни один человек не может творить
безгранично, и в таком случае она не более как случайна. А когда неизбежная
неудача вызывает столь же неизбежное разочарование, то дискредитированные вожди
склонны прибегать к силе для удержания той власти, моральное право обладать
которой они уже утратили. В Civitas Dei (Граде Божьем) эта опасность
изгоняется благодаря переносу мимесиса с недолговечных вождей земных
цивилизаций на Бога, который является источником всякого человеческого
творчества.
Этот мимесис Богу никогда не может вызвать у преданных Ему
душ того разочарования, которым сопровождается мимесис даже самым богоподобным
человеческим существам и которое, появляясь, приводит к моральному отчуждению
своенравного пролетариата от превратившегося в просто правящее меньшинство.
Общение между душой и единым истинным Богом, таким образом, не может выродиться
в зависимость раба от деспота, ибо в каждой из высших религий, хотя и в
различной мере, взгляд на Бога как на Силу преображается во взгляд на него как
на Любовь. Представление этого Любящего Бога в виде Бога Воплощенного является
теодицеей, которая делает подражание Христу защитой против трагедии, присущей
всякому мимесису, направленному на невоскресшие человеческие личности.
XXVII.
Роль цивилизаций в жизни церквей
1. Цивилизация как увертюра
Если предшествующее исследование убедило нас в том, что
церкви, воплощающие собой высшие религии, в разной мере приближаются на земле к
одному и тому же Civitas Dei (Граду Божьему) и что тот вид общества,
единственный и уникальный представитель которого – Божье Государство, в
духовном плане выше, чем вид, представленный в цивилизациях, то мы продолжим
попытку опровергнуть наше первоначальное предположение о том, что роль
цивилизаций в истории является господствующей, а роль церквей – подчиненной.
Вместо того чтобы рассматривать церкви с точки зрения цивилизаций, мы смело
выберем новую отправную точку и рассмотрим цивилизации с точки зрения церквей.
Если исходить из концепции социальной «раковой опухоли», то мы обнаружим ее не
в церкви, которая вытесняет цивилизацию, а в цивилизации, которая вытесняет
церковь. Если мы будем думать о церкви как о куколке, посредством которой одна
цивилизация воспроизводит себя в другой, то теперь нам придется думать о
материнской цивилизации как об увертюре к явлению церкви, а о дочерней
цивилизации – как о регрессе по отношению к этому высшему уровню духовного
развития.
Если в качестве примера, подтверждающего этот тезис, мы
возьмем возникновение христианской Церкви и приведем тонкие, хотя и весьма
важные данные, относящиеся к переносу слов из области светского
словоупотребления в религиозную область, то мы обнаружим, что это
филологическое свидетельство подтверждает точку зрения, согласно которой
христианство – это религиозная тема со светской увертюрой, и что эта увертюра
представляет собой не просто римское политическое достижение в виде эллинского
универсального государства, но сам эллинизм во всех его фазах и аспектах.
Христианская Церковь обязана самим своим названием
специальному термину, использовавшемуся в городе‑государстве Афины для
обозначения общего собрания граждан для ведения политических дел. Однако
заимствовав слово ecclesia, Церковь придала ему двойное значение,
которое явилось отражением политического устройства Римской империи. В
христианском словоупотреблении ecclesia стала означать как местную
христианскую общину, так и Вселенскую церковь.
Когда христианская Церковь – местная и Вселенская – начала
разделяться на два религиозных класса – «мирян» и «клир», и когда «клир», в
свою очередь, начал подразделяться на иерархические «духовные чины» («orders»),
необходимые понятия точно так же были заимствованы из уже существовавшего
светского греческого и латинского словаря. «Миряне» («laity») христианской
Церкви были названы архаическим греческим словом laos, которое означало
народ, в отличие от тех, кто был облечен властью над ним. «Клир» заимствовал
свое название от греческого слова Kleros, основное значение которого –
«жребий» – ограничивалось юридическим смыслом для обозначения назначенной доли
унаследованного имущества. Христианская Церковь заимствовала это слово для
обозначения той части христианской общины, которую Бог предназначил для Самого
Себя, чтобы она служила Ему в качестве профессионального священства. Что
касается «духовных чинов» (ordines), то они заимствовали свое название у
политически привилегированных классов Римского государства, например
«сенаторский чин». Члены высшего чина стали называться «надзирателями» (episcopoi,
«епископы»).
Священная книга христианской Церкви, если о ней не говорили
как о ta biblia – Книгах, обозначалась понятием, уже давным‑давно
существовавшим в словаре и означавшим в Риме внутренние поступления в
государственную казну – scriptura. Что касается двух «заветов», то они
были названы diathekai на греческом и testamenta на латинском,
поскольку мыслились как эквиваленты юридических документов, или договоров, в
которых Бог объявлял человечеству в двух частях Свою «волю и завет» для
упорядочивания человеческой жизни на земле.
Название для той подготовки (ascesis, отсюда «аскет»),
которой духовная элита в раннехристианской Церкви подвергала себя, было
заимствовано от физических упражнений атлетов, участвовавших в Олимпийских и
других эллинских играх. А когда в IV в. подготовка к жизни отшельника заменила
подготовку к мученическому подвигу, действие этого христианского атлета нового
образца, испытанием для которого стало проведение одинокой жизни в пустыне
вместо столкновения с публичностью суда и амфитеатра, стало называться
греческим словом anachoretes, первоначально применявшимся по отношению к
людям, отказавшимся от практической жизни либо для того, чтобы посвятить себя
философскому созерцанию, либо в качестве протеста против жесткого
налогообложения. Это слово стали применять к тем христианским энтузиастам,
особенно жившим в Египте, которые ушли в пустыню (eremos. откуда
происходит слово eremite, или hermit – «отшельник») в поисках общения с Богом и
в качестве протеста против земной злобы. Когда эти одиночки (monachoi,
«монахи»), вопреки буквальному значению своего названия, стали жить в общинах
со строгой дисциплиной, это творческое противоречие в терминах – общество
одиночек (monasterion) – заимствовало свое латинское название (conventus)
от слова, соединявшего в своем светском словоупотреблении два значения:
собрания жителей для решения судебных дел и торговой палаты.
Когда первоначально не формализованные действия во время
периодических встреч каждой местной церкви выкристаллизовались в жестко
фиксированный обряд, эта религиозная «общественная служба» (leitourgia,
«литургия») заимствовала свое название от тех номинально добровольных затрат,
которые в Афинском государстве V‑IV вв. до н. э. были известны под этим
эвфимистическим благородным названием, в действительности скрывавшим за собой
добавочный подоходный налог. В этой литургии самым важным обрядом было Святое
Причастие, в котором верующие достигали живого опыта своего братства во Христе
и с Христом благодаря совместному участию в «таинстве» (sacramentum)
вкушения хлеба и пития вина. Это христианское таинство заимствовало свое
название из римского языческого обряда, в котором новобранец присягал на
верность римской армии. Святое Причастие, которым завершается таинство,
заимствовало свое название от слова, которое и в его греческой форме (koinonia),
и в его латинском переводе (communio) означало участие в любом
общественном деле, но в первую очередь – в политическом сообществе.
Воскрешение духовного значения из материального является
примером того процесса, который ранее в данном «Исследовании» мы назвали
«этерификацией» и признали признаком роста. Нашего обзора примеров этерификации
греческого и латинского словарей (который мог бы быть без труда продолжен)
вполне достаточно для того, чтобы показать, что эллинизм – это подлинное praeparatio
evangelii[469] и что, пытаясь найти смысл эллинизма в его
роли в качестве увертюры христианства, мы, по крайней мере, встали на
многообещающий путь исследования. Исходя из этого, можно сказать, что когда
жизнь цивилизации служит увертюрой к рождению живой церкви, смерть
предшествующей цивилизации можно рассматривать не как катастрофу, а как
надлежащее завершение истории.
2. Цивилизация как регресс
Мы постарались понять, как выглядит история, если отказаться
от нашей современной западной привычки рассматривать историю церквей с точки
зрения истории цивилизаций и встать вместо этого на противоположную точку
зрения. Это привело нас к тому, что мы представили цивилизации второго
поколения в качестве увертюр существующих высших религий и тем самым стали
рассматривать эти цивилизации не как неудачи, отмеченные клеймом надломов и
распадов, но как удачи на основании того, что они помогают этим высшим религиям
родиться. На основании этой аналогии цивилизации третьего поколения, по‑видимому,
можно рассматривать как регресс относительно высших религий, возникших из руин
цивилизаций предшествующего поколения. Ибо если мирское поражение этих ныне
исчезнувших цивилизаций должно судить по достижению их духовных результатов, то
тогда мирские достижения живых цивилизаций, вышедших из своих церковных куколок
и начавших жить своей собственной новой мирской жизнью, должно судить с точки
зрения тех условий, которые они сумели создать для жизни Души. А этот результат
явно противоположен.
Если для проверки справедливости этого тезиса взять
появление современной западной обмирщенной цивилизации из средневековой Respublica
Christiana, то мы можем разъяснить этот вопрос на основании нашего
исследования, проведенного в первой части данной главы, приведя в качестве
свидетельств слова, смысл и употребление которых подверглись изменению. Мы
можем начать со слова «клирик». Наряду с «клириком как духовным лицом» у нас
есть простой светский клерк, который в Англии выполняет подсобную конторскую
работу, а в Америке прислуживает за прилавком магазина. Слово «обращение»
(conversion), которое некогда подразумевало обращение Души к Богу, теперь более
знакомо в таких контекстах, как конверсия (conversion) угля в электрическую
энергию или превращение (conversion) трехпроцентных акций в пятипроцентные. Мы
редко слышим об «исцелении души», зато постоянно слышим об «исцелениях» тела
при помощи лекарств. «Святой день» (holy day) превратился в «день отдыха»
(holiday). Все это означает лингвистическую деэтерификацию, которая только
символизирует обмирщение общества.
«Фридрих II[470] был подопечным и учеником великого Иннокентия[471], основателя
Церкви как государства. Он был мыслящим человеком, и мы не должны удивляться,
обнаружив в его понимании Империи образ Церкви. Все Итало‑Сицилийское
государство, которое папы жаждали заполучить в качестве наследства апостола
Петра, превратилось, так сказать, в наследство Августа для этого одаренного
монарха, пытавшегося освободиться от светской и интеллектуальной сил, смешанных
в духовном единстве Церкви, и построить основанную на них новую империю…
Давайте поймем все значение Итало‑Римского государства Фридриха: мощного
панитальянского феодального владения, которое на короткое время объединило в
одном государстве германские, романские и восточные элементы. Сам Фридрих,
император мира, был великим сеньором и великим тираном этого владения,
последним из тех государей, носивших корону Рима, чей императорский титул не
только соединялся с германским королевским, подобно Барбароссе, но также и с
восточно‑сицилийским деспотизмом. Осознав это, мы поймем, что все тираны Ренессанса
– Скала и Монтефельтро, Висконти, Борджиа и Медичи – вплоть до мельчайших
черточек являются сыновьями и наследниками Фридриха II, диадохами этого
“второго Александра”»{112}.
Список «наследников» Фридриха Гогенштауффена можно было бы
продолжить вплоть до XX столетия христианской эры, и обмирщенную цивилизацию
современного западного мира можно было бы рассматривать в одном из ее аспектов
как эманацию этого духа. Конечно, было бы абсурдно делать вид, что в борьбе
между Церковью и светскими государями все ошибки совершались одной стороной.
Однако мы можем заметить здесь то, что чудовищное рождение мирской цивилизации
из утробы Respublica Christiana стало возможным благодаря возрождению
эллинского института «абсолютного» государства, в котором религия являлась
одним из департаментов политики.
Когда цивилизация третьего поколения прокладывает свой путь
сквозь церковную систему, является ли возрождение «материнской» цивилизации
второго поколения неизбежным и обязательным средством для его осуществления?
Если мы посмотрим на историю индусской цивилизации, то не найдем там
аналогичного оживления империи Маурьев или империи Гуптов. Однако когда мы
обратимся от Индии к Китаю и взглянем на историю дальневосточной цивилизации на
ее родине, то мы, в самом деле, найдем здесь несомненное и поразительное
подобие возрождения Римской империи в суйском и танском возрождении империи
Хань. Различие будет заключаться в том обстоятельстве, что это древнекитайское
возрождение империализма было гораздо более успешным, чем эллинское возрождение
«Священной» Римской империи, и даже более успешным, чем параллельное эллинское
возрождение Византийской империи во владениях восточно‑христианского
православного общества. В целях нашего настоящего исследования важно то, что
цивилизация третьего поколения, в истории которой возрождение ее
предшественницы продолжалось дольше всего, также более других преуспела в
освобождении от сетей церкви, порожденной своей предшественницей. Махаянский
буддизм, который подавал надежды на завоевание умершего древнекитайского мира в
столь же полной мере, в какой умерший эллинский мир был завоеван христианством,
достиг своего зенита на Дальнем Востоке в надир пост‑древнекитайского
междуцарствия, однако после этого он быстро склонился к упадку. Исходя из
этого, мы должны сделать вывод о том, что возрождение умершей цивилизации
означает регресс относительно существующей высшей религии и что чем дальше
зайдет это возрождение, тем сильнее будет откат назад.
XXVIII.
Вызов воинственности на земле
В предшествующей главе мы отметили, что обмирщенная
цивилизация, которая прорывается сквозь церковную систему, вероятно, пробьет
себе дорогу при помощи элементов, заимствованных из жизни предшествующей
цивилизации. Однако мы еще должны рассмотреть, как возникает возможность для
этого отрыва. Очевидно, что это «начало зол» следует искать в некоем слабом
месте церкви или же в сделанном ею неверном шаге, из‑за которого происходит
прорыв [новой цивилизации].
Одно из значительных затруднений для церкви содержится уже в
тех целях, которые она ставит перед собою. Церковь воинствует на земле,
поскольку она хочет завоевать сей мир для Града Божьего. А это означает, что
церкви приходится заниматься не только духовными, но и светскими делами и
организовывать себя на земле в качестве института. Плотная институциональная
оболочка, которой церковь оказалась вынуждена покрыть свою бесплотную наготу,
чтобы совершать Божье дело в непокорном окружении, несовместима с духовной
природой церкви. Поэтому не удивляет та катастрофа, которая постигает земной
авангард «общества святых», неспособного совершать в мире сем свой духовный
труд и избежать столкновения с мирскими проблемами, за решение которых ему
приходится браться при помощи институциональных средств.
Наиболее известной трагедией этого рода является история
папства Гильдебранда. Ранее в данном «Исследовании» мы уже видели, как
Гильдебранд был увлечен в пропасть из‑за, по‑видимому, неизбежного сцепления
причин и следствий. Он не был бы истинным слугой Бога, если бы не ринулся в
борьбу за исцеление клира от половой развращенности и коррупции; не смог бы
реформировать клир до тех пор, пока не подтянул бы церковную дисциплину, а
подтянуть церковную дисциплину он не смог бы, не достигнув разделения юрисдикции
церкви и государства. Но поскольку функции церкви и государства в феодальную
эпоху были необычайно запутаны, он не смог бы достичь разделения,
удовлетворительного для церкви, без вторжения в сферу государства, так, чтобы
при этом у государства не было оснований для возмущения. Следовательно,
конфликт, начинавшийся как война манифестов, быстро выродился в войну сил, в
которой средствами ведения войны и с той и с другой стороны были «деньги и
пушки».
Трагедия гильдебрандовской церкви представляет собой выдающийся
пример духовного регресса, вызванного тем, что церковь впуталась в земные дела
и стала действовать светскими методами, что явилось побочным следствием ее
попытки делать свое собственное дело. Тем не менее существует еще одна широкая
дорога, которая также ведет к разрушительному в духовном плане обмирщению.
Церковь рискует впасть в духовный регресс, пытаясь жить согласно своим
собственным нормам. Ибо воля Божья частично выражается и в праведных социальных
целях земных обществ, и воплощения этих земных идеалов могут достичь гораздо
успешнее те, кто не стремится к этим идеалам как к самоцели, а стремится к чему‑то
более высокому. Двумя классическими примерами действия этого закона являются
достижения св. Бенедикта и папы Григория Великого[472]. Эти два
святых человека устремились к духовной цели распространения монашеского образа
жизни на Западе. Однако в качестве побочного продукта своей духовной
деятельности эти два человека не от мира сего совершали такие экономические
чудеса, которые оказались не под силу светским государственным деятелям. Их
экономические достижения удостоились похвалы как христианских, так и
марксистских историков. Однако если бы эти похвалы достигли слуха Бенедикта и
Григория в мире ином, то эти святые несомненно с опаской вспомнили бы слова
своего Учителя: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!»{113}
И их опасение, без сомнения, превратилось бы в муку, когда бы они вновь смогли
посетить сей мир и увидеть своими глазами конечные нравственные последствия
временного экономического эффекта тех непосредственных духовных усилий, которые
они прикладывали в своей земной жизни.
Горькая истина заключается в том, что побочные материальные
плоды духовных трудов Civitas Dei (Града Божьего) свидетельствуют не
только об их духовном успехе. Они также являются ловушками, в которые духовный
атлет может быть вовлечен более дьявольски, чем был погублен импульсивный
Гильдебранд, впутавшись в политику и войну. Тысячелетняя история монашества,
прошедшая между временем св. Бенедикта и разграблением церковных институтов в
период так называемой Реформации, хорошо известна, и нет никакой необходимости
верить всем заявлениям протестантских и антихристианских авторов. Цитата,
которую мы приводим ниже, взята из работы современного автора, которого трудно
заподозрить в антимонашеских пристрастиях, и можно отметить, что его
характеристика не имеет никакого отношения к тому, что обычно рассматривают в
качестве позднейшего и наихудшего периода дореформационного монашества.
«Пропасть, которая возникла между аббатом и монастырем, в
значительной степени была вызвана накоплением богатства. По прошествии времени
имения монастырей выросли до таких громадных размеров, что аббат оказался почти
полностью занятым управлением своими землями и исполнением различных
обязанностей, вытекавших отсюда. Схожий процесс разделения имений и
обязанностей в то же самое время происходил и среди самих монахов… Каждый
монастырь подразделялся на то, что практически являлось отдельными
департаментами, каждый со своим собственным доходом и со своими особыми обязанностями…
Как пишет Дом Дэвид Ноулз[473], “За
исключением таких монастырей, как Винчестер, Кентербери и Сент‑Олбани, гле
существовала сильная интеллектуальная и художественная заинтересованность,
бизнес этого рода стал деятельностью, которая поглотила всех талантливых людей
в доме…”. Для тех, кто обладал административными дарами, но не был наделен
никакой собственностью, к которой он мог бы прикладывать свои усилия, монастыри
со своими обширными имениями предоставляли большие возможности»{114}.
Однако монах, выродившийся в преуспевающего бизнесмена,
представляет собой еще не самую ужасную форму духовного регресса. Наихудшим
соблазном, поджидающим граждан Civitas Dei (Града Божьего) в сем мире,
является не погружение в политику и не скатывание в сферу бизнеса, но
идолизация того земного института, в котором несовершенно, хотя и неизбежно,
воплощена воинствующая на земле Церковь. Если corruptio optimi pessima[474] , то в таком случае идолизированная церковь –
это единственный идол, более вредный, чем идолизированный человеческий
муравейник, которому люди поклоняются как Левиафану.
Церковь находится в опасности впасть в идолопоклонство, пока
считает себя не просто хранительницей истины, но единственной хранительницей всей
истины в полной и окончательной ее непотаенности. Она больше всего склонна
ступать на этот путь, ведущий к Авернскому озеру[475], после того
как испытала тяжелый удар, и в особенности если этот удар был нанесен ей ее
собственными домочадцами. Классическим примером была контрреформационная римско‑католическая
Церковь после Тридентского собора[476] в глазах некатоликов. Ко времени написания
этих строк она уже в течение четырех столетий стояла на страже в позиции,
которая была столь же непреклонна, сколь неослабной была ее бдительность,
покрытая массивной броней, с шлемом папства и нагрудником иерархии, постоянно
беря на караул перед Богом в периодическом ритме изнуряющей литургии. Подсознательной
целью всех этих тяжелых институциональных доспехов было пережить самый стойкий
из современных светских институтов мира сего. В XX в. христианской эры
католический критик – в свете четырех столетий истории протестантизма – мог бы
убедительно доказать, что протестантская нетерпимость даже к еще более легкому
снаряжению католицизма до Тридентского собора была необдуманной. Однако этот
приговор, даже если бы он был неоспорим, не означал бы ни того, что этот отказ
от войскового снаряжения всегда был ошибкой, ни того, что тридентское
увеличение его также не было заблуждением[477].
Теперь мы указали на одну из причин регресса высших религий
в сторону тщетных повторений светских цивилизаций. В каждом случае мы
обнаруживали, что катастрофа была ускорена не saeva necessitas (жестокой
необходимостью) или любой другой внешней силой, но «первородным грехом»,
врожденным для земной человеческой природы. Однако если регрессы высших религий
– это последствия первородного греха, то не вынуждены ли мы сделать вывод, что
подобные регрессы неизбежны? Если так, то это означало бы, что вызов
воинственности на земле настолько суров, что ни одна церковь не способна была
бы противостоять ему долгое время. Этот вывод, в свою очередь, привел бы нас
снова к той точке зрения, согласно которой церкви хороши лишь для того, чтобы
служить в качестве куколок для тщетно повторяющихся цивилизаций. Является ли
это последним словом? Прежде чем мы согласимся с утверждением, что божественный
свет обречен постоянно исчезать во мраке непонимания, давайте бросим свой взор
назад и снова посмотрим на ряд духовных озарений, принесенных в мир явлениями
высших религий. Эти главы из прошлой духовной истории могут оказаться
предзнаменованиями духовного возрождения и выхода из состояния регресса, к
которому склонна Церковь воинствующая.
Мы уже говорили, что последовательные вехи на пути духовного
прогресса человечества, отмеченные именами Авраама, Моисея, пророков и Христа,
все находятся в таких точках, где наблюдатель за ходом истории светской
цивилизации обнаружил бы разрыв на дороге и нарушение движения. Эмпирические
данные дают нам повод полагать, что это совпадение высших точек религиозной
истории человечества с низшими точками его светской истории, возможно, является
одним из «законов» земной жизни человека. Если это так, то нам следует ожидать
также, что высшие точки светской истории совпадут с низшими точками религиозной
истории, и, следовательно, те религиозные достижения, которыми сопровождается земной
упадок, – не просто духовный успех, но также и духовное возрождение. Они,
конечно же, предстают как возрождение в традиционной версии истории.
Призвание Авраама, например, предстает в еврейской легенде
как последствие вызова, брошенного Богу самоуверенными строителями Вавилонской
башни. Миссия Моисея предстает как избавление избранного народа Божьего из
духовно неблагоприятного состояния наслаждения котлами египетскими[478]. Пророки
Израиля и Иудеи были вдохновляемы на проповедь покаяния в духовном отпадении, в
состоянии которого оказался Израиль, когда достиг материального успеха,
используя ту «землю, где течет молоко и мед»[479], которую дал
ему Яхве. Пастырская деятельность Христа, Чьи Страсти, с точки зрения светского
историка, преисполнены всеми муками эллинского «смутного времени», предстают в
Евангелиях как вмешательство Самого Бога в целях распространения на все
человечество Завета, прежде заключенного Богом с Израилем, потомки которого
подмешали к своему духовному наследию фарисейский формализм, саддукейский
материализм, иродианский оппортунизм и зелотский фанатизм.
Исходя из этого, можно сказать следующее. Кроме того, что
четыре вспышки духовного озарения сопровождали светские катастрофы, они были
последствиями духовных затмений, и мы можем предположить, что эта глава
неслучайна. Мы отмечали ранее в данном «Исследовании», что физически суровое окружение
может стать инкубатором светских достижений. По этой аналогии можно было бы
ожидать, что духовно суровое окружение окажет стимулирующее воздействие на
религиозные попытки. Духовно суровое окружение является окружением, в котором
стремления Души удушаются материальным процветанием. Миазмы мирового
процветания, которые отупляют массы, могли бы привести духовно чувствительные и
деятельные души к пренебрежению чарами мира сего.
Будет ли возврат к религии в мире XX столетия христианской
эры признаком духовного прогресса или же окажется жалкой попыткой невозможного
бегства от суровых фактов знакомой нам жизни? Наш ответ на этот вопрос частично
будет зависеть от нашей оценки возможностей духовного роста.
Мы уже затрагивали возможность того, что мировая экспансия
светской современной западной цивилизации преобразуется в политическую форму не
в столь далекое время благодаря установлению универсального государства,
которое наконец осуществит идеал государственного устройства такого рода,
охватив собою всю поверхность планеты в единой федерации, не имеющей физических
границ. В определенном контексте мы рассматривали ту возможность, что внутри
подобной структуры соответствующие адепты четырех ныне существующих высших
религий могут прийти к осознанию того, что их соперничающие системы были одними
из многих альтернативных подходов к единому истинному Богу по путям, дававшим
лишь частичные проблески блаженного видения. Мы отвергли идею о том, что в этом
свете исторические церкви могли бы в конечном счете дать выражение этому
единству во множестве, слившись вместе в одну воинствующую Церковь. Допустив,
что это могло бы произойти, не означало бы это, что Царствие Небесное
установилось таким образом на земле? В западном мире XX столетия христианской
эры это неизбежный вопрос, потому что некоего рода земной рай был целью
большинства светских идеологий. По мнению автора, ответ был отрицательным.
Явная причина отрицательного ответа проявляется самой
природой общества и природой человека. Ибо общество – не что иное, как общая основа
для полей действия личностей, а человеческая личность обладает врожденной
расположенностью как к добру, так и ко злу. Утверждение такой единственной
воинствующей Церкви, какую мы себе вообразили, не очистило бы человека от его
первородного греха. Сей мир – это область Царствия Божьего, однако это мятежная
область, и по природе вещей она останется таковой навсегда.

VIII.
Героические
века
XXIX.
Ход трагедии
1. Социальное заграждение
Когда растущая цивилизация надламывается в результате
превращения привлекательного творческого меньшинства в ненавистное правящее
меньшинство, одним из результатов является отчуждение ее бывших прозелитов в
некогда примитивных окружающих обществах, на которые цивилизация на стадии
своего роста оказывала влияние на различных уровнях благодаря воздействию
культурного излучения. Отношение бывших прозелитов менялось от восхищения,
выражавшегося в мимесисе, до враждебности, переходившей в войну, и эта война
могла иметь два альтернативных исхода. На том фронте, где местность
предоставляет агрессивной цивилизации возможность продвижения вперед вплоть до
естественной границы в виде несудоходного моря, или непроходимой пустыни, или
непреодолимой горной цепи, варвары могли быть решительным образом покорены.
Однако там, где такая естественная граница отсутствует, географическое
положение, скорее, будет расположено в пользу варваров. Там, где для
отступающего варвара открыто в его тылу безграничное поле для маневра,
подвижный фронт раньше или позже неизбежно подойдет к черте, за которой военное
превосходство агрессивной цивилизации будет нейтрализовано помехой в виде
постоянно удаляющегося от базы агрессора фронта.
Вдоль этой черты подвижная война перейдет в войну
позиционную, так и не получив какого‑либо военного решения, и обе партии
окажутся в стационарном положении, живя бок о бок друг с другом, как жили
творческое меньшинство цивилизации и ее будущие прозелиты до надлома
цивилизации, приведшего их к столкновению. Однако психологические отношения
между сторонами уже не вернутся от состояния враждебности к прежнему
творческому взаимодействию и не произойдет восстановления тех географических
условий, при которых имели место эти культурные связи. На стадии роста
цивилизация постепенно переходила в окружающее ее варварство посредством того
широкого преддверия, которое обеспечивало аутсайдеру легкий успех при вступлении
в ее ряды. Перемена дружбы на вражду превратила это служившее проводником
культурное преддверие (limen) в строго разделяющий военный фронт (limes).
Эта перемена является географическим выражением тех условий, которые породили
героический век.
Героический век фактически представляет собой социальное и
психологическое следствие процесса кристаллизации limes. Наша текущая
задача заключается в том, чтобы проследить эту последовательность событий.
Необходимым условием для этого предприятия, конечно же, является обзор
варварских военных отрядов, которые восставали на разных участках военной
границы различных универсальных государств. Обзор такого рода мы уже пытались
предпринять ранее в данном «Исследовании», в ходе которого мы отметили особые
достижения этих военных отрядов в области сектантской религии и эпической
поэзии. В нынешнем нашем исследовании мы можем, не повторяясь, привлечь этот
предшествующий обзор в качестве иллюстрации.
Военные границы можно уподобить неприступной плотине,
преграждающей путь в долину – внушительному памятнику человеческого мастерства
и мощи в борьбе с Природой и одновременно – опасности, поскольку борьба с
Природой – это подвиг, на который человек не может отважиться безнаказанно.
«Арабо‑мусульманское предание рассказывает, что некогда в
Йемене можно было увидеть колоссальное произведение гидроинженерного искусства,
известное как Магрибская плотина, или дамба, где воды, падающие с восточных гор
Йемена, собирались в огромный резервуар, а затем орошали огромный район страны,
давая жизнь интенсивной системе возделывания и тем самым поддерживая плотность
населения. По прошествии времени, рассказывает предание, эта плотина
разрушилась, а разрушившись, затопила все и привела жителей страны в состояние
ужасной нищеты, так что многие племена были вынуждены эмигрировать»{115}.
Эта история послужила объяснением того первоначального
импульса арабского Völkerwanderung 'а (переселения народов), который в
конечном итоге очистил Аравийский полуостров со стремительностью, перенесшей
арабов через Тянь‑Шань и Пиренеи. Взятая в качестве сравнения, эта история
становится историей каждой военной границы каждого универсального государства.
Является ли эта социальная катастрофа прорыва военной плотины неизбежной
трагедией или же ее можно избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны
проанализировать социальные и психологические последствия вмешательства
строителей преграды в естественный ход отношений между цивилизацией и ее
внешним пролетариатом.
Первым следствием возведения преграды является, конечно же,
создание резервуара, находящегося вверх по течению. Однако этот резервуар,
каким бы он ни был огромным, имеет свои границы. Будет существовать отчетливое
различие между «затопленным» участком, находящимся непосредственно над оградой,
и отдаленной областью, которая находится на возвышенности и остается
незатопленной. Выше мы уже отмечали контраст между воздействием военной границы
на жизнь варваров в пределах ее распространения и невозмутимую онемелость
примитивных народов, живущих в более удаленных внутренних районах. Славяне
продолжали безмятежно вести свой примитивный образ жизни на Припятских болотах
на протяжении двух тысячелетий, пока впервые не увидели ахейских варваров,
беспокоивших своей близостью европейскую сухопутную границу «талассократии Миноса»,
а затем увидели тевтонских варваров, прошедших через такой же опыт в результате
своей близости к европейской сухопутной границе Римской империи. Почему
варвары, находившиеся в «резервуаре», были таким исключительным образом
выведены из равновесия? В чем источник последующей вспышки энергии, сделавшей
их способными постоянно прорываться через военную границу? Мы найдем ответы на
эти вопросы, если перенесем нашу аналогию на географическое окружение Восточной
Азии.
Давайте представим себе, что воображаемая плотина,
символизирующая военную границу в нашем сравнении, была построена над какой‑нибудь
высокой долиной в районе, фактически пересекаемом Великой стеной в современных
китайских провинциях Шинси и Шанси. Что является конечным источником постоянно
усиливающегося давления этого огромного количества воды на поверхность плотины?
Хотя вода явно должна устремляться вниз с высоты плотины, ее конечный источник
не может находиться в этом направлении, ибо дистанция между плотиной и
водоразделом невелика и за водоразделом простирается засушливое Монгольское
нагорье. Конечный источник водоснабжения фактически можно найти не выше
плотины, но ниже ее, не на Монгольском нагорье, но в Тихом океане, воды
которого превращаются под воздействием солнца в пар, переносимый восточным
ветром, до тех пор пока под воздействием холодного воздуха он не выпадет в виде
дождя в водосборный бассейн. Психическая энергия, накапливающаяся на варварской
стороне военной границы, извлекается лишь из незначительного количества
собственного скудного социального наследия живущих за этой границей варваров.
Основная же масса привлекается из обширных запасов самой цивилизации,
воздвигшей для своей защиты эту преграду.
Как осуществляется эта трансформация психической энергии?
Процесс трансформации – это разложение культуры на составляющие части и их
последующее соединение в новой модели. В другом месте в данном «Исследовании»
мы сравнивали социальное излучение культуры с физическим излучением света, и
здесь мы должны вспомнить те «законы», которые мы открыли в этой связи.
Первый закон заключается в том, что цельный луч культурного
влияния, подобно цельному лучу света, преломляется на спектр составляющих его
элементов в ходе проникновения внутрь упорствующего объекта.
Второй закон заключается в том, что преломление может также
произойти без всякого воздействия на чуждую социальную систему, если излучающее
общество уже надломилось и входит в фазу распада. Растущую цивилизацию можно
определить как цивилизацию, в которой компоненты ее культуры – экономический,
политический и «культурный» в собственном смысле слова – находятся в гармонии
друг с другом. Исходя из этого, распадающуюся цивилизацию можно определить как
цивилизацию, в которой эти три элемента находятся в разногласии.
Третий наш закон заключается в том, что быстрота и сила
проникновения цельного луча культуры – это средняя величина тех быстроты и силы
проникновения, которые проявляют его экономические, политические и «культурные»
компоненты, когда в результате преломления они распространяются независимо друг
от друга. Экономический и политический компоненты распространяются быстрее, чем
непреломленная культура, «культурный» компонент распространяется медленнее.
Таким образом, в социальных отношениях между распадающейся
цивилизацией и отчужденным от нее внешним пролетариатом, находящимся по ту
сторону военной границы, разложенное на компоненты излучение цивилизации в
сильной степени становится беднее. Практически уничтожаются все связи, за
исключением экономических и политических – торговли и войны. Из них торговля по
различным причинам становится все более и более ограниченной, а война – все
более и более затягивающейся. В этих мрачных условиях тот избирательный
мимесис, который имеет место, происходит по собственной инициативе варваров.
Они проявляют свою инициативу в подражании тем элементам, которые принимают в
той мере, какая будет маскировать неприятный источник подражания. Примеры как
распознаваемого приспособления, так и действительно новых созданий уже
приводились ранее в данном «Исследовании». Здесь нам нужно лишь напомнить о
том, что находящиеся в «резервуаре» склонны заимствовать высшую религию
соседней цивилизации в форме ереси (например, арианское еретическое
христианство готов), а также цезаризм соседнего универсального государства в
форме неограниченной королевской власти, основывающейся не на родовом законе, а
на военном авторитете. В то же время способность варваров к оригинальному
творчеству проявляется в героической поэзии.
2. Накопление давлений
Социальная преграда, созданная установлением военной
границы, подчиняется тому же самому закону природы, что и физическая преграда,
созданная в результате строительства плотины. Вода, скапливающаяся над
плотиной, стремится снова достичь обычного уровня с водой, находящейся внизу. В
структуре физической плотины инженер применяет предохранительные клапаны в
форме шлюзов, которые можно открывать и закрывать в зависимости от
обстоятельств. Это защитное приспособление, как мы с вами увидим, не упускается
из виду и политическими инженерами военной границы. Однако в этом случае данное
приспособление лишь ускоряет катастрофу. В эксплуатации социальной плотины
ослабление давления при помощи регулируемого спускания воды практически
невозможно. Нельзя осуществить слив воды из резервуара, не разрушив дамбы, ибо
вода, находящаяся над дамбой, вместо того чтобы подниматься и падать в
зависимости от перемены влажной и сухой погоды, все время поднимается. В
состязании между нападающими и защищающимися нападающие не могут в конце концов
не одержать победу. Время оказывается на стороне варваров. Однако может пройти
много времени, прежде чем варвары с той стороны границы осуществят свой прорыв
и ворвутся в желанные владения распадающейся цивилизации. Этот долгий период, в
течение которого дух варваров глубоко задевается и искажается под влиянием
цивилизации, в которую им не давали проникнуть, является необходимой прелюдией
к «героическому веку», когда военные границы рушатся и варвары предпринимают
свой бросок.
Установление военной границы приводит в действие социальные
силы, которые обрекают создателей на гибель. Политика необщения с внешними
варварами практически неосуществима. Какое бы решение ни приняло имперское
правительство, интересы торговцев, первопроходцев, авантюристов и т. д.
неизбежно увлекут их по ту сторону границы. Замечательную иллюстрацию этой
тенденции, существующей среди жителей приграничной территории универсального
государства, действовать сообща с варварами дает нам история отношений между
Римской империей и евразийскими кочевниками гуннами, явившимися из Евразийской
степи к концу IV столетия христианской эры. Хотя гунны были необычайно
свирепыми варварами и хотя их доминирующее влияние вдоль европейской военной
границы Римской империи было недолговечным, среди фрагментарных отрывков
современных свидетельств этого кратковременного периода сохранились записи о
трех выдающихся случаях братания. Самым удивительным из этих случаев был случай
римского гражданина из Паннонии по имени Орест, чей сын Ромул Августул[480] достиг позорной славы в качестве последнего
римского императора на Западе. Этот самый Орест некоторое время был секретарем
знаменитого вождя гуннов Аттилы.
Из всех товаров, которые проникают за пределы напрасно
пытающейся служить преградой военной границы, оружие, возможно, является самым
значительным. Варвары никогда не смогли бы нападать эффективно, не используя
вооружение, выкованное в арсеналах цивилизации. На северо‑западной границе
Британской империи, в Индии, начиная с 1890 г. «наплыв винтовок и военного
снаряжения на территорию племен… полностью изменил природу военной границы»{116}.
И хотя первоначальным источником обеспечения современным западным стрелковым
оружием живущих по ту сторону границы патанов и белуджей[481] были систематические ограбления британских
отрядов, «это дает нам мало что для понимания того огромного роста перевозок
оружия в Персидском заливе, которые и в Бушире, и в Маскате с самого начала
находились в руках британских торговцев»{117}. Это замечательный
пример того, как частные интересы подданных империи, ведущих бизнес с
пограничными варварами, борются против общественных интересов имперского
правительства, отчаянно защищающегося от варваров.
Пограничные варвары, тем не менее, не довольствуются простым
использованием превосходящей тактики, которой они научились у соседней
цивилизации. Часто они совершенствуют ее. Например, на морских границах империи
Каролингов и королевства Уэссекса скандинавские пираты с таким успехом для себя
использовали технологию кораблестроения и мореходства, приобретенную, вероятно,
у фризских моряков – соседей нарождающегося западно‑христианского мира, что
добились владычества на море, а вместе с тем и инициативы в наступательной
войне, которую они начали вести вдоль морского побережья и вверх по рекам
западноевропейских стран, ставших их жертвами. Когда, достигнув верховьев рек,
они исчерпывали возможности мореплавания, то сменяли одно заимствованное оружие
на другое и продолжали свою деятельность верхом на награбленных лошадях, ибо
они научились франкскому искусству конного боя, как научились фризскому
искусству мореплавания.
В долгой истории использования боевых коней самый
драматический эпизод, в котором это оружие было обращено варварами против цивилизации,
можно найти в Новом Свете, где лошадь была неизвестна до тех пор, пока ее не
ввезли вторгшиеся после Колумба захватчики из западно‑христианского мира.
Благодаря отсутствию этого прирученного животного, которое в Старом Свете было
созданием кочевнического животноводческого образа жизни, Великие равнины
бассейна Миссисипи, которые могли бы стать скотоводческим раем, оставались
местом для охоты племен, тщательно выслеживавших свою дичь пешком. Запоздалое
появление лошади в этой идеальной для охоты стране повлекло за собой такое
влияние на жизнь иммигрантов и местных жителей, которое хотя и было в обоих
случаях революционным, однако же для каждого из случаев совершенно различным.
Разведение лошадей на равнинах Техаса, Венесуэлы и Аргентины превратило
потомков 150 поколений землепашцев в кочевников‑скотоводов и в то же самое
время превратило в мобильные конные военные отряды индейские племена Великих
равнин по ту сторону границ испанского вице‑королевства Новая Испания и
английских колоний, которые со временем стали Соединенными Штатами.
Заимствованное вооружение не доставило этим пограничным варварам окончательной
победы, однако дало им возможность оттянуть свое окончательное поражение.
Если XIX столетие христианской эры видело, как индейцы
прерии Северной Америки обратили одно из орудий европейских захватчиков против
его первоначальных владельцев, борясь с ними за обладание равнинами при помощи
завезенной на континент лошади, то XVIII столетие уже видело, как лесные
индейцы использовали европейский мушкет для снайперской стрельбы и при
устройстве засад. Эти засады в лесах, являвшихся естественными союзниками
индейцев, оказывались гораздо эффективнее, чем современная европейская военная
тактика открытого боя, в которой плотные ряды, точные маневры и непрерывные
залпы огня приводили к гибели, когда нетворчески применялись против
противников, приспособивших европейский мушкет к условиям американского леса.
До изобретения огнестрельного оружия соответствующее приспособление
современного вооружения агрессивной цивилизации к лесным условиям дало
возможность варварским обитателям североевропейских лесов с той стороны Рейна
сохранить еще покрытую в то время лесами Германию от римского завоевания,
поглотившего частично расчищенную и возделанную Галлию, и нанести римлянам
решительное и устрашающее поражение в Тевтобургском лесу в 9 в. н. э.[482]
Объяснение той линии, в которую утыкалась военная граница
между Римской империей и североевропейскими варварами в течение следующих
четырех столетий, лежит на поверхности. Это была линия, за которой лес,
господствовавший здесь с последнего наступления ледника, все еще решительно
преобладал над трудами homo agricola[483] – трудами, открывшими для римских легионов
путь от Средиземного моря до Рейна и Дуная. Вдоль этой линии, оказавшейся, к
несчастью для Рихмской империи, почти самой длинной линией, которую можно
провести через континентальную Европу, римская имперская армия вынуждена была
впредь постепенно увеличивать численную силу, чтобы сбалансировать постепенное
возрастание военной эффективности пограничных варваров, которых была обязана
сдерживать.
На местных антиварварских границах еще существующих местных
государств вестернизированного мира, который ко времени написания этой книги
охватывал собою за небольшим исключением почти всю обитаемую и доступную
поверхность планеты, современная западная индустриальная техника уже
перехитрила двух непокорных нечеловеческих союзников варваров. Лес давно уже
пал жертвой холодного оружия, а степь завоевана автомобилями и аэропланами.
Союзник варваров в виде гор, однако же, оказался твердым орешком, и горный
арьергард варварства в последних предпринимаемых им безнадежных попытках
проявил впечатляющую изобретательность, используя в своих интересах в
собственной местности некоторые из современных средств западной военной
техники. Благодаря этому tour de force (большому усилию) рифы, живущие в
горах, на теоретической границе между испанской и французской зонами Марокко,
нанесли испанцам в 1921 г. при Анвале поражение, сравнимое с уничтожением
херусками[484] и их соседями трех легионов Вара[485] в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э., и заставили
французское правительство в Северо‑Западной Африке зашататься на своих
основаниях в 1925 г. При помощи той же самой ловкости рук махсуды Вазиристана[486] расстроили многократные попытки британцев
подчинить их себе в течение девяноста восьми лет между 1849 г., когда британцы
унаследовали эту антиварварскую границу от сикхов, и 1947 г., когда они
освободились от так и нерешенной проблемы индийской северо‑западной границы,
завещав это страшное наследство Пакистану.
В 1925 г. рифское наступление едва не перерезало коридор, соединявший
оккупированную часть Французской зоны Марокко с основным ядром Французской
Северо‑Западной Африки. И если бы рифы добились успеха в своей едва не
удавшейся попытке, то они бы поставили под угрозу существование всей
Французской империи на южном побережье Средиземного моря. Интересы сравнимой
величины оказались поставленными на карту при испытании силы между махсудскими
варварами и вооруженными силами Британской империи в Индии во время
Вазиристанской кампании 1919‑1920 гг. В этой кампании, так же как и в Рифской
войне, сила варварской стороны заключалась в умелом приспособлении современного
западного оружия и тактики к местным условиям, несоразмерным с условиями,
которые были обычны для западных изобретателей этого оружия.
Усовершенствованное и дорогое снаряжение, изобретенное на полях европейских
сражений Первой мировой войны 1914‑1918 гг., для операций на горизонтальной
местности между регулярными армиями, было гораздо менее эффективным против
отрядов племен, скрывающихся в засаде в горах.
Чтобы нанести поражение, пусть даже и неокончательное,
пограничным варварам, достигшим уровня военных экспертов, проявленного
махсудами в 1919 г. и рифами в 1925 г., держава, военные границы которой
находятся под угрозой, должна предпринять попытку, и в человеческой силе, и в
оснащении, и в деньгах несоразмерно превышающую скудные ресурсы ее надоедливых
противников, для которых эта тяжелая контратака будет представлять собой
минимум эффективного ответа. Действительно, г‑н Гладстон в 1881 г. считал, что
«ресурсы цивилизации»[487] могли бы послужить почти такой же серьезной
помехой, как и помощь в войне такого рода, ибо мобильность британских сил в
Индии снижалась из‑за множества приспособлений, от которых зависели ее
претензии на превосходство. С другой стороны, если британским силам в Индии
препятствовала чрезмерность их быстроты и эффективности в борьбе, то махсуды
предоставляли слишком небольшую возможность для нападения. Целью карательной
экспедиции является наказание, однако как можно наказать такой народ, как эти?
Довести его до нищеты? Он уже доведен до нищеты. Он принимает свой уровень
жизни как должное, даже если и не доволен им. Жизнь этих народов уже (используя
характеристику «естественного состояния», данную Томасом Гоббсом) уединенна,
бедна, отвратительна, груба и недолговечна. Вряд ли можно было бы сделать их
еще более уединенными, бедными, отвратительными, грубыми и недолговечными. Но
даже если бы это и было возможно, то кто может быть уверенным в том, что они
будут сильно озабочены? Здесь мы подходим к тому положению, которое ранее в
данном «Исследовании», хотя и в ином контексте, уже было нами доказано, а
именно к положению о том, что примитивная социальная система восстанавливается
легче и быстрее, чем социальная система высоко развитой в материальном
отношении цивилизации. Она подобна примитивному червяку, который, когда его
разрежешь пополам, не обращает на это внимания и продолжает жить, как жил
прежде. Однако мы должны вернуться от рифов и махсудов, которым не удалось –
пока – дойти до конца, к успешному завершению их нападений на цивилизации, и
резюмировать наши наблюдения за ходом трагедии в тех случаях, когда она дошла
до своего пятого акта.
Нарастание пограничной войны, породившей этот постепенный
перевес в равновесии военной силы, постепенно ослабляет цивилизацию и влечет за
собой напряжение ее денежной экономики под все возрастающей тяжестью
налогообложения. С другой стороны, оно лишь стимулирует военные аппетиты
варваров. Если бы пограничный варвар так и остался примитивным человеком, каким
был раньше, то гораздо большая доля всей его энергии была бы посвящена мирным
искусствам и, соответственно, больший насильственный эффект порождали бы у него
карательные разрушения плодов его мирной деятельности. Трагедия морального
отчуждения от соседней цивилизации остающегося примитивным общества состоит в
том, что варвар пренебрегает своей бывшей мирной продуктивностью, чтобы
специализироваться в искусстве пограничной войны – сначала для самообороны, а
впоследствии – в качестве альтернативного и более захватывающего средства
зарабатывания на жизнь, чтобы пахать и жать при помощи меча и копья.
Это поразительное неравенство материальных последствий
пограничной войны для двух воюющих сторон отражается и в значительном и все
возрастающем неравенстве между ними в их моральном состоянии. Для детей
распадающейся цивилизации нескончаемая пограничная война означает тяжелое бремя
все возрастающих финансовых расходов. Для варварской стороны та же самая война
– не бремя и не повод для беспокойства, а повод для оживления. В этой ситуации
неудивительно, что та сторона, которая одновременно является и создателем, и
жертвой военной границы, не смирится со своей гибелью, пока не попытается
использовать последнее средство и привлечь на свою сторону своих варварских
противников. Мы уже рассматривали последствия этой политики ранее в данном
«Исследовании». Здесь же мы только напомним наш предыдущий вывод о том, что
данное средство по предотвращению разрушения военной границы в действительности
лишь ускоряет катастрофу, которую пыталась предупредить.
В истории борьбы Римской империи, пытавшейся задержать
неумолимый перевес весов в пользу пограничных варваров, политика по привлечению
варваров для охраны от их же собратьев потерпела поражение (если мы можем
верить враждебно настроенному критику правления императора Феодосия I[488]) по причине
посвящения варваров в тайны римского военного искусства и в то же время
оповещения их о слабости Империи.
«В римских войсках дисциплина теперь пришла в упадок, и
различие между римлянином и варваром исчезло. Войска обоих видов полностью
смешались друг с другом. Даже официальные списки солдат перестали
соответствовать действительности. Варвары‑дезертиры, пришедшие в римскую армию
из заграничных военных отрядов, освобождались, после того как были внесены в
списки римских подразделений, и вновь уходили домой когда им вздумается,
присылая вместо себя замену. Они могли сами назначать сроки своей службы у
римлян. Эта крайняя дезорганизация, ставшая ныне преобладающей в римских
военных формированиях, не была тайной для варваров, поскольку дверь для общения
была распахнута настежь, и дезертиры могли передавать им все сведения. Варвары
сделали вывод, что римская политическая система настолько сильно
дезорганизована, что можно уверенно нападать на нее»{118}.
Когда подобные хорошо осведомленные наемники стали в
массовом порядке переходить на другую сторону, неудивительно, что они часто
оказывались способными нанести coup de grace (смертельный удар) гибнущей
империи. Однако нам еще придется объяснить, почему они, как это часто случается,
начинают действовать против своих нанимателей. Разве их личный интерес не
совпадает с их профессиональным долгом? Регулярное жалованье, которое они
получают, и более выгодно, и более надежно, чем добыча, которую они могут
захватить во время случайных набегов. Почему же в таком случае они становятся
изменниками? Ответ заключается в том, что, выступая против империи, которую они
взялись защищать, варварские наемники в самом деле действуют против своих
собственных материальных интересов, однако поступая так, они не делают что‑то
странное. Человек редко ведет себя изначально как homo economicus[489],
и поведение наемника‑предателя определяется более сильным импульсом, нежели
какие‑либо материальные соображения. Очевидно, что он ненавидит империю, от
которой получает жалованье. Моральная пропасть между двумя сторонами не может
быть преодолена с помощью делового соглашения, которое со стороны варвара не
закреплено никаким реальным желанием участвовать в охраняемой им цивилизации.
Отношение варвара к цивилизации уже более не является почтительным, и он уже не
подражает ей, как делали его предки в более счастливые времена, когда та же
самая цивилизация еще находилась на привлекательной стадии роста. Направление
нынешнего мимесиса уже давно изменилось, и если цивилизация уже утратила
престиж в глазах варваров, то варвары, наоборот, начинают приобретать престиж в
глазах представителей цивилизации.
«Ранняя римская история была описана как история обычного
народа, совершающего необычные дела. В поздней Империи она приучила необычного
человека делать все что угодно, только не заниматься рутиной. А когда Империя
на протяжении веков посвящала себя выведению и воспитанию обычного человека, то
необычные люди этого времени – Стилихон[490], Аэций[491] и им подобные – все больше и больше
привлекались из варварского мира»{119}.
3. Катаклизм и его последствия
Когда преграда прорвана, то вся масса воды, накопленная
наверху плотины, с силой устремляется вниз через затопленную местность в море,
и это освобождение долго сдерживаемых сил порождает тройную катастрофу. Во‑первых,
поток уничтожает труды человека на возделанных землях, находящихся ниже
прорванной преграды. Во‑вторых, потенциально живительная вода выливается в море
и уже никогда не сможет служить человеку в его целях. В‑третьих, спуск воды
опустошает резервуар, делая его берега высокими и засушливыми и тем самым
обрекая на гибель растительность, которая могла там произрастать. Короче
говоря, вода, которая оплодотворяла, пока была сдерживаема преградой, произвела
опустошение повсюду – и на землях, которые обнажила, и на землях, которые
затопила, как только разрушение преграды освободило воду из‑под контроля,
осуществлявшегося при помощи этой преграды.
Этот эпизод в истории соперничества человека и физической
природы можно сравнить с тем, что происходит при разрушении военной границы.
Проистекающий в результате этого разрушения социальный катаклизм является
бедствием для всех имеющих к нему отношение. Однако сфера действия опустошения
неодинакова и результат прямо противоположен тому, которого можно было бы
ожидать. Основными пострадавшими являются не бывшие подданные исчезнувшего
универсального государства, а сами варвары, являющиеся явными победителями. Их
победа оказывается их поражением.
Как можно объяснить этот парадокс? Объяснение заключается в
том, что военная граница (limes) служит не только в качестве бастиона
цивилизации, но также и в качестве провиденциальной защиты самих агрессивных
варваров от демонических сил саморазрушения, скрывающихся внутри них самих. Мы
уже видели, что близость военной границы пагубно сказывается на близ живущих
пограничных варварах, поскольку их прежнее примитивное хозяйство и институты
распадаются под градом психической энергии, вырабатываемой цивилизацией,
находящейся внутри военной границы. Эта энергия доходит до варваров через
границу, которая сама по себе является препятствием для более полного и более
плодотворного общения, характерного для отношений между растущей цивилизацией и
примитивными прозелитами, живущими за пределами ее открытой и привлекательной
границы (limen). Мы видели также, что пока варвар сдерживается оградой,
он достигает определенного успеха в превращении наплыва этой чуждой психической
энергии в продукты культуры – политические, художественные и религиозные, –
которые частично являются приспособлением цивилизованных институтов, а частично
– новыми созданиями самих варваров. Фактически, пока преграда сдерживает,
психологическое беспокойство, которому подвержены варвары, сохраняется в
определенных рамках, могущих порождать не только деморализующее воздействие.
Эта спасительная узда существует благодаря наличию самой военной границы,
которую варвар стремится уничтожить. Военная граница, пока она удерживает, в
некоторой степени является заменителем дисциплины, отсутствующей у примитивного
человека, когда раздробление его примитивного «кристалла обычая» превращает его
в пограничного варвара. Военная граница дисциплинирует его, ставя перед ним
задачи для выполнения, цели для достижения и трудности для преодоления,
постоянно удерживая его попытки на должной высоте.
Когда неожиданное разрушение военной границы уничтожает эту
защиту, устраняется и дисциплина, и в то же самое время варвар вынужден
выполнять задачи, которые оказываются слишком трудными для него. Если
пограничный варвар представляет собой более жестокое, равно как и более
искушенное существо, чем его примитивный предок, то новейший варвар,
прорвавшийся через границу и создавший государство‑наследник из опустошенных владений
исчезнувшей империи, оказывается гораздо более деморализованным, чем был
раньше. Пока военная граница еще сохраняется, за разгул его праздности в
потреблении добычи, награбленной в результате успешного набега, приходится
платить лишениями и суровостью, связанными с защитой от карательных экспедиций,
вызванных его набегами. С падением военной границы разгул и праздность могут
продолжаться безнаказанно. Как мы отмечали ранее в данном «Исследовании»,
варвары in partibus civilium[492] осуждают себя на жалкую роль стервятников,
пожирающих мертвечину, или личинок, копошащихся в трупе. Если эти сравнения
покажутся слишком грубыми, то мы уподобим орды победивших варваров,
неистовствующих на развалинах цивилизации, которую они не могут понять, шайке
порочных подростков, оказавшихся вне контроля дома и школы и столкнувшихся с
проблемами растущих городских сообществ в XX столетии христианской эры.
«Качества, проявленные этими обществами, – как их
добродетели, так и их пороки, – говорят о том, что это юношеские качества…
Характерной чертой… является эмансипация – социальная, политическая и
религиозная – от обязательств, которые накладывал на них племенной закон…
Характерными чертами героических веков в общем являются не черты младенчества
или зрелости… Типичного человека героического века, скорее, можно сравнить с
юношей… Чтобы убедиться в истинности этой аналогии, мы должны обратиться к
случаю юноши, для которого идеи и контроль родителей оказались тесными. В этом
случае, часто встречающемся среди детей простых родителей, дети, выйдя из‑под
родительского влияния в школе или где‑то в другом месте, приобрели знания,
которые поставили их в положение превосходства над своим окружением»{120}.
Одним из результатов упадка примитивного обычая среди
вернувшихся в примитивное варварское состояние народов является то, что власть,
прежде осуществлявшаяся семейными кланами, теперь переходит к comicatus[493] – группе отдельных авантюристов, связанных
личной преданностью своему вождю. Пока цивилизация сохраняла внутри своего
универсального государства хоть какое‑то подобие власти, такие варварские
военачальники и их comitatus могли иногда с успехом служить в качестве
буферных государств. Историю салических франков[494], охранявших
границу Римской империи на Нижнем Рейне с середины IV по середину V в.
христианской эры, можно привести в качестве одного из множества примеров
подобного положения дел. Однако судьбы государств‑наследников, основанных
варварскими завоевателями внутри бывших владений исчезнувших универсальных
государств, показывают, что этот грубый продукт скудного политического гения
варваров совершенно не соответствовал задаче по несению тягот и решению
проблем, оказавшихся непосильными уже для правителей экуменической державы.
Варварские государства‑наследники слепо бросаются в дело в силу подорванного
доверия обанкротившегося универсального государства, и эти мужланы у власти
ускоряют пришествие своей неизбежной гибели, вызывая против себя восстание,
вспыхивающее под давлением морального вызова против того, что роковым образом
оказалось ошибочным внутри этих государств. Ибо политическая система,
основанная единственно на ненадежной преданности группы вооруженных головорезов
своему безответственному военному вождю, совершенно неприемлема для управления
обществом потерпевшей неудачу цивилизации. За распадением примитивной племенной
группы на варварские comitatus стремительно следует распадение самих comitatus
на чуждое подвластное население.
Варвары, вторгающиеся in partibus civilium (в
цивилизованную страну), фактически обрекают себя на моральный надлом как на
неизбежное следствие своего вторжения. Однако они не уступят своей судьбе без
духовной борьбы, которая оставляет свои следы в их литературных мифологических
памятниках, обрядах и нормах поведения. Повсеместно встречающийся основной миф
варваров повествует о победоносной борьбе героя с чудовищем за обладание
сокровищем, которое было утаено от людей таинственным врагом. Это обычный мотив
рассказов о борьбе Беовульфа с Гренделем[495] и его матерью, о борьбе Зигфрида[496] с драконом, о подвиге Персея[497],
обезглавившего Горгону и впоследствии освободившего Андромеду после уничтожения
морского чудовища, угрожавшего ее поглотить. Тот же мотив вновь появляется в
мифе о Ясоне, перехитрившем змея, охранявшего Золотое Руно[498], и в мифе о
Геракле, похитившем Кербера[499]. Этот миф
представляется проекцией во внешний мир той психологической борьбы, которая
происходила в душе варвара. Это была борьба за освобождение высшего духовного
сокровища человека – его разумной воли – от той демонической силы, которая
высвободилась в подсознательных глубинах его души в результате разрушительного
опыта, вызванного внезапным переходом из обычной внешней «ничейной земли» в
волшебный мир, открытый из‑за разрушения границы. Миф может представлять собой
перевод в область литературного повествования ритуального акта заклинания, в
котором победивший в войне, но духовно встревоженный варвар пытается найти
практическое средство от своей опустошительной душевной болезни.
В появлении особых норм поведения, соответствующих
специфическим условиям героического века, мы можем увидеть дальнейшую попытку
установить моральные ограничения для того демона опустошения, который
высвободился в душах варварских хозяев и господ поверженной цивилизации с падением
физических ограничений военной границы. Выдающимися примерами являются ахейские
гомеровские Aidôs и Nemesis («стыд» и «негодование») и
исторический омейядский Hilm («намеренное воздержание»).
«Основной особенностью Aidôs и Nemesis, как
вообще относящихся к сфере чести, является то, что они начинают действовать,
когда человек свободен – когда отсутствует принуждение. Если вы возьмете народ…
освободившийся от всех прежних репрессий, и выберете из его числа сильного и
неистового вождя, который никого не боится, то сначала вы подумаете, что такой
человек свободен делать все, что ему придет в голову. А затем вы фактически
обнаружите, что среди его беззакония неожиданно обнаружится некое возможное
действие, которое почему‑то заставит его чувствовать неудобство. Если он
действительно его совершил, то он “раскаивается” в совершенном и его преследуют
мысли об этом. Если не совершил, то тогда он “избегает” поступать таким
образом. И это не потому, что кто‑то заставляет его, и не потому, что
следствием этого поступка будет какой‑то особый результат, но просто потому,
что он чувствует Aidôs…
Aidôs – это то, что вы испытываете от своего
собственного поступка. Nemesis – это то, что вы испытываете от поступка
другого. Или (что гораздо чаще) то, что, как вы воображаете, испытают от вашего
поступка другие… Однако предполагаемого не видит никто. Поступок, как вам
хорошо известно, остается νεμεσητόν – предметом, по поводу которого
испытывают Nemesis. Только в данном случае нет никого, кто бы мог
испытывать это чувство. Однако если вы сами чувствуете неприязнь к тому, что
сделали, и испытываете Aidôs за этот поступок, вы неизбежно осознаете,
что что‑то или кто‑то чувствует неприязнь или неодобрительно относится к вам…
Земля, вода и воздух полны живых глаз: theoi, daimones, kêres[500]…
И это именно они глядят на вас и гневаются на вас за ваш поступок, который вы
совершили»{121}.
В постминойский героический век, как он изображен в
гомеровском эпосе, к поступкам, которые могли вызвать чувства Aidôs и Nemesis,
относились трусость, ложь, нарушение клятвы, отсутствие почтения к старшим,
жестокость или вероломство по отношению к беспомощным.
«Не говоря уже о дурных поступках, совершенных ими,
существуют определенные классы людей более albahi, способных испытывать Aidôs
более, чем другие. Есть люди, в присутствии которых человек чувствует стыд,
неловкость, трепет, более сильное, чем обычно, чувство того, как важно
совершать хорошие поступки. Какого рода люди особенно склонны испытывать этот Aidôs?
Конечно же, существуют короли, старейшины и мудрецы, князья и посланники: αίδαϊοι
βασιλήες, γέροντος и тому подобные. Все это люди, к которым вы естественным
образом будете испытывать почтение и чье хорошее или плохое мнение будет важным
в этом мире. Однако… вы обнаружите, что совсем не эти, а другие люди вызывают
более глубокое чувство Aidôs… перед которыми вы еще более остро
испытываете свое недостоинство и чье хорошее или плохое мнение в конечном счете
необъяснимым образом перевешивает. Это лишенные земли, оскорбленные,
беспомощные и среди них самые беспомощные – мертвецы»{122}.
В отличие от Aidôs и Nemesis, которые
пронизывают все аспекты социальной жизни, Hilm является vertu des
politiques (добродетелью политиков){123}. Это нечто более
изощренное, чем Aidôs и Nemesis, и, следовательно, менее
привлекательное. Hilm не является выражением покорности.
«Его цель состоит, скорее, в том, чтобы покорить противника
– привести его в смущение, продемонстрировав его ничтожность по сравнению с
собой, удивить его проявлением чувства собственного достоинства и своим
невозмутимым отношением… В сущности, Hilm, подобно большинству арабских
качеств, это добродетель бравады и хвастовства, в котором больше показного, чем
реального содержания… Приобрести славу Hilm можно недорогой ценой,
сделав изысканный жест или сказав высокопарное слово… что уместно прежде всего
в анархической среде – такой, как арабское общество, где каждое насильственное
действие вызывает жестокое возмездие… Hilm, практиковавшийся омеиядскими
последователями Муавии, содействовал задаче политического образования арабов.
Он подслащивал их ученикам горечь, вызванную необходимостью жертвовать своей
анархической свободой в пустыне в пользу правителей, которые были достаточно
снисходительны, чтобы в управлении своей империей надевать на свою железную
руку мягкую перчатку»{124}.
Эти мастерские характеристики сущности Hilm, Aidôs и Nemesis
показывают, как хорошо адаптированы эти нормы поведения к специфическим
обстоятельствам героического века. И если, как мы уже намекали, героический век
по сути своей представляет собой мимолетную фазу в истории, то несомненными
признаками его наступлечия и ухода выступают явление и исчезновение его
специфических идеалов. Как только Aidôs и Nemesis постепенно
исчезают из виду, их исчезновение вызывает вопль отчаяния.
…Лишь одни жесточайшие, тяжкие
беды
Людям останутся в жизни.
От зла избавленья не будет{125}.
Гесиод терзается от своей иллюзорной убежденности в том, что
уход этих мерцающих огней, поддерживавших детей «темного века», является
предвестием начала вечной темноты. Он не подозревает о том, что это гашение
ночных огней – предвестие возвращения дня. Истина заключается в том, что Aidôs
и Nemesis вновь поднимаются на небо, как только незаметное появление
новой нарождающейся цивилизации делает их пребывание на земле излишним, вызывая
к жизни иные добродетели, в социальном плане более созидательные, хотя
эстетически, возможно, и менее привлекательные. Железный век, в котором, как
горько жалуется Гесиод, он был рожден, фактически был веком, в котором живая
эллинская цивилизация возникала из руин умершей минойской цивилизации. А
Аббасиды, которые не нуждались в Hilm, являвшемся arcanum imperii
(государственной тайной) их предшественников из династии Омейядов, были государственными
деятелями, которые одобрили омейядское усилие по извлечению выгоды из
уничтожения сирийской военной границы Римской империи, чтобы вновь создать
сирийское универсальное государство.
Демона, который овладевает душой варвара, как только варварская
нога переступает павшую военную границу, действительно трудно изгнать,
поскольку он ухищряется испортить сами добродетели, которыми его жертва была
вооружена. Об Aidôs вполне можно было бы сказать те же слова, которые
мадам Ролан[501] сказала о свободе: «Каких только преступлений
не совершалось во имя тебя!» Массовые зверства являются отличительными чертами
героического века – как в истории, так и в легендах. Для деморализованного
варварского общества, в котором совершаются эти черные дела, их присутствие
настолько привычно, а страх перед ними настолько приглушен, что барды, чьей
задачей является увековечивать память о военачальниках, не колеблясь,
взваливают на плечи своих героев и героинь грехи, в которых те неповинны, когда
очернение их характеров начинает преобладать над их героизмом. Герои совершают
свои ужасающие зверства не только по отношению к своим официальным врагам.
Ужасы семейной вражды дома Атрея[502] превосходят ужасы разграбления Трои. «Дома»,
разделенные внутри себя подобным образом, вряд ли просуществуют долго.
Сенсационно неожиданное падение мнимого всемогущества –
такова характерная участь варварской державы героического века. Замечательными
историческими примерами являются закат гуннов после смерти Аттилы и закат
вандалов после смерти Гензериха[503]. Эти и другие
исторически засвидетельствованные примеры вызывают доверие к преданию,
повествующему о том, что волна ахейского завоевания подобным же образом
разрушила и уничтожила поглощенную ею Трою и что убитый Агамемнон был последним
всеахейским военачальником. Как бы широко не распространялись завоевания этих
военачальников, они были неспособны создавать социальные институты. Судьба
империи даже такого изощренного и сравнительно цивилизованного военачальника,
каким был Карл Великий, является драматической иллюстрацией этой неспособности.
4. Фантазии и реальность
Если картина, представленная в предыдущей главе, истинна, то
приговор, который можно вынести героическому веку, будет суровым. Самым мягким
приговором будет признание его бесполезной выходкой, а самым строгим –
осуждение его как уголовного преступления. Приговор о его бесполезности можно
услышать в зрелой поэзии викторианского литератора, еще продолжавшего ощущать
мороз неоварварского века.
Последуем пути тех белокурых
завоевателей, высоких готов,
Со дня, когда они выводили свои
голубоглазые семейства
С холодных пастбищ Вислы, со своей
мрачной родины
У богатых янтарем берегов
Балтийского моря.
В незамутненной силе своей
мужественности
Они нащупывали лишь понаслышке
известный путь к неведомой земле обетования.
Набрасывались на разорванные края
порфирной державы,
Топча ее широкий подол, побеждая
ее армии,
Убивая ее императора и сжигая ее
города –
Разграбленные Афины и Рим. Заняв
место Цезаря,
Они правили миром, где прежде
правили римляне.
Однако эти три столетия грабежа и
крови,
Бесчеловечности и беспричинной
жестокости
Вскоре проходят… Те готы были
сильны, но они погибли.
Они не писали, не работали, не
мыслили и не творили.
Однако поскольку поле заросло
плевелами и заплесневелой пшеницей,
Их жатва заслужила некую похвалу –
иначе они бы не оставили следа{126}.
Этот умеренный приговор, вынесенный по прошествии пятнадцати
столетий, вряд ли мог бы удовлетворить эллинского поэта, с горечью осознающего,
что он все еще живет в тех моральных трущобах, в которые варварские наследники
превратили «талассократию Миноса». Преступность, а не бесполезность – таков
тяжелый приговор, вынесенный Гесиодом постминойскому героическому веку, который
в его времена все еще посещал нарождающуюся эллинскую цивилизацию. Его приговор
безжалостен.
Третье родитель Кронид поколенье
людей говорящих,
Медное создал, ни в чем с
поколеньем несхожее прежним.
С копьями. Были те люди могучи и
страшны. Любили
Грозное дело Арея, насилыцину.
Хлеба не ели.
Крепче железа был дух их могучий.
Никто приближаться
К ним не решался: великою силой
они обладали,
И необорные руки росли на плечах
многомощных.
Были из меди доспехи у них и из
меди жилища,
Медью работы свершали: никто о
железе не ведал.
Сила ужасная собственных рук
принесла им погибель.
Все низошли безыменно: и как ни
страшны они были,
Черная смерть их взяла и лишила
сияния солнца{127}.
В приговоре потомства, вынесенном тому переполнившему чашу
страданию, которое варвары приносят своим преступным безумием, этот отрывок из
поэмы Гесиода мог бы стать последним словом, если бы сам поэт не продолжил
дальше:
После того как земля поколенье и
это покрыла,
Снова еще поколенье, четвертое,
создал Кронион
На многодарной земле, справедливее
прежних и лучше, –
Славных героев божественный род.
Называют их люди
Полубогами: они на земле обитали
пред нами.
Грозная их погубила война и
ужасная битва.
В Кадмовой области славной они
свою жизнь положили,
Из‑за Эдиповых стад подвизаясь у
Фив семивратных;
В Трое другие погибли, на черных
судах переплывши
Ради прекрасноволосой Елены чрез
бездны морские.
Многих в кровавых боях исполнение
смерти покрыло;
Прочих к границам земли перенес
громовержец Кронион,
Дав пропитание им и жилища
отдельно от смертных.
Сердцем ни дум, ни заботы не зная,
они безмятежно
Близ океанских пучин острова
населяют блаженных.
Трижды в году хлебодарная почва
героям счастливым
Сладостью равные меду плоды в
изобилье приносит{128}.
Какое отношение имеет этот отрывок к тому отрывку, который
непосредственно ему предшествует, и ко всему каталогу поколений, в который он
вставлен? Данный эпизод нарушает последовательность каталога в двух отношениях.
В первую очередь, это поколение проходит здесь торжественным маршем, не
отождествляясь – в отличие от предшествующих золотого, серебряного, бронзового
и последующего железного поколений, ни с каким металлом. А во вторую очередь,
все другие четыре поколения должны следовать друг за другом в убывающем порядке
их качества. Кроме того, судьбы трех предшествующих поколений после смерти
соответствуют течению их жизни на земле. Что касается людей золотого поколенья,
то
В благостных демонов все превратились
они наземельных
Волей великого Зевса: людей на
земле охраняют,
Зорко на правые наши дела и
неправые смотрят.
Тьмою туманной одевшись, обходят
всю землю, давая
Людям богатство. Такая им царская
почесть досталась{129}.
Серебряное поколение, хотя и похуже,
но все же
Дали им люди названье подземных
смертных блаженных,
Хоть и на месте втором, но в
почете у смертных и эти{130}.
Однако когда мы подходим к бронзовому поколению, то
обнаруживаем, что их посмертная участь обойдена зловещим молчанием. В каталоге,
созданном по этой модели, нам следовало бы ожидать, что четвертое поколение
будет осуждено после смерти на вечные муки. Однако вопреки нашим ожиданиям мы
обнаруживаем, что, по крайней мере, несколько избранных из этого поколения
переносятся после смерти в Элизиум, где они живут над землей той же самой
жизнью, которую вело золотое поколенье.
Очевидно, вставка поколения героев между бронзовым
поколением и железным является поздней выдумкой, нарушающей последовательность
поэмы, ее симметричность и смысл. Чем руководствовался поэт, когда делал эту
грубую вставку? Ответ, должно быть, заключается в том, что картина,
представленная здесь поколением героев, столь живо воздействовала на
воображение поэта и его публику, что надо было найти место для нее. Поколение
героев в действительности представляет собой бронзовое поколение, описанное еще
раз не на языке мрачной гесиодовской фактичности, а на языке очаровательной
гомеровской фантазии.
С социальной точки зрения, героический век – безумие и
преступление. Однако, с эмоциональной точки зрения это – великий опыт,
захватывающий опыт разрушения границы, на протяжении многих поколений
препятствовавшей проникновению предков варварских захватчиков, и опыт вторжения
в явно безграничный мир, предлагавший, казалось бы, неограниченные возможности.
За одним известным исключением, все эти возможности оказались плодами
красивыми, но гнилыми внутри. Однако поразительная полнота поражения варваров в
социальном и политическом планах парадоксальным образом способствует успеху
творческой деятельности их бардов, ибо в искусстве гораздо больше значит
неудача, чем успех. «История со счастливым концом» не может достичь положения
трагедии. Оживление, порожденное Völkerwanderung’ом (переселением
народов), которое оборачивается деморализацией в опьяненных душах людей
действия, вдохновляет варварского поэта на то, чтобы преобразить память о
злобности и глупости его героев в бессмертную песнь. В волшебном царстве этой
поэзии варварские конкистадоры достигают такой не присущей им славы, которой не
обладали при своей жизни. Мертвая история расцветает в бессмертный рыцарский
роман. Очарование, которое оказывает героическая поэзия на своих позднейших
почитателей, вводит их в заблуждение, заставляя считать фактически
отвратительную интерлюдию между смертью одной цивилизации и рождением ее
наследницы тем, что мы назвали безо всякой умышленной иронии в терминологии
данного «Исследования» героическим веком, веком героев.
Самой первой жертвой этой иллюзии, как мы уже видели,
становится поэт «темных веков», которые есть следствие «героического века». Как
выясняется в ретроспективе, у этого последующего века нет причин стыдиться
темноты, которая означает, что костры варварских поджигателей в конце концов
сожгли их самих. И хотя слой пепла покрывает поверхность выжженной земли,
«темные века» оказываются созидательными, каковым, конечно же, не был
героический век. В полноте времен должным образом возникает новая жизнь, чтобы
покрыть плодородные поля, засыпанные золой, побегами нежной зелени. Поэзия Гесиода,
столь скучная в сравнении с поэзией Гомера, является одной из предвестниц
возвращения весны. Однако этот честный летописец тьмы перед рассветом еще
настолько ослеплен поэзией, вдохновленной недавним ночным поджогом, что
принимает на веру в качестве исторической правды воображаемую картину поколения
героев, изображенную Гомером.
Иллюзия Гесиода кажется странной, если учесть, что в его
картине бронзового поколения он сохранил для нас рядом с воспроизведением
гомеровской фантазии беспощадное изображение варвара, каким тот был в
действительности. Однако даже без этой улики героический миф может быть разбит
вдребезги «взрывом» внутренних данных. Оказывается, что герои вели дурную жизнь
и умерли мучительной смертью бронзового поколения. Подобным же образом и
Валгалла[504] оказывается трущобами, когда мы гасим всё
искусственное освещение и внимательно рассматриваем при обычном дневном свете
поэтическую идеализацию бурной борьбы и пышных пиршеств. Воины, которые
получают право доступа в Валгаллу, в действительности идентичны с демонами, в
борьбе с которыми они проявляли свой героизм. Исчезнув с лица земли в
результате взаимного уничтожения, они освободили мир демонов от своих деяний и
привели историю к счастливому концу для всех, кроме себя.
Гесиод, возможно, был первым, однако ни в коем случае не
последним, кто был введен в заблуждение блеском варварского эпоса. В
считающееся просвещенным XIX столетие мы находим, что философ‑шарлатан
запускает свой миф о благотворной варварскои «нордической расе», чья кровь
действует как эликсир молодости, когда вливается в вены «истощенного общества».
Мы, возможно, заденем за живое, если заметим, что политическая feu d'esprit
(игра ума) веселого французского аристократа побудила пророков демонического
германского неоварварства на создание расового мифа. Настойчивое требование
Платона о том, чтобы поэты были изгнаны из его государства, становится ясным,
когда мы прослеживаем причинно‑следственную связь между авторами саг и
основателями Третьего рейха.
Однако были случаи, когда варварский интервент оказывал все
же скромные услуги будущим поколениям. При переходе от цивилизаций первого
поколения к цивилизациям второго поколения вторгшиеся варвары в некоторых
случаях действительно обеспечивали связь между исчезнувшей цивилизацией и ее
новорожденной наследницей, как при последующем переходе от второго поколения к
третьему подобную связь осуществляли куколки‑церкви. Сирийская и эллинская
цивилизации, например, таким образом были связаны с предшествующей минойской
цивилизацией посредством внешнего пролетариата этого минойского общества.
Хеттская цивилизация стояла в таком же отношении к предшествующей шумерской
цивилизации, а индийская цивилизация – к предшествующей индской культуре (если
эта последняя, конечно же, жила своей собственной жизнью, а не зависела от
шумерской цивилизации). Скромность этой оказанной варварами услуги выявляется в
сравнении с ролью куколок‑церквей. Хотя внутренний пролетариат, создающий
церкви, подобно внешнему пролетариату, порождающему военные отряды, является
продуктом раскола в душе распадающейся цивилизацией, внутренний пролетариат,
очевидно, овладевает и передает будущим поколениям гораздо более богатое
наследство прошлого. Это становится очевидным, если сравнить то, чем обязана
западно‑христианская цивилизация эллинской, с тем, чем обязана эллинская
цивилизация минойской. Христианская церковь была эллинизирована до предела.
Гомеровские поэты почти ничего не знали о минойском обществе. Они представляли
свой героический век in vacuo[505],
лишь случайно упоминая о том некогда могущественном трупе, на котором герои‑стервятники
бардов – «разорители городов», как они гордо называли себя, – устраивали свои
пиршества.
В свете сказанного может показаться, что услуги ахейцев и
других варваров их поколения, сыгравших передаточную роль, почти полностью
утрачивают свое значение. Какое же значение они имели в действительности? Их
реальность становится очевидной, когда мы сравниваем судьбу тех цивилизаций
второго поколения, которые вошли в дочерние отношения со своими предшественницами
посредством тонкой варварской связи, с судьбой остальных цивилизаций второго
поколения. Всякая цивилизация второго поколения, не аффилированная посредством
внешнего пролетариата своей предшественницы, должна быть аффилирована
посредством правящего меньшинства своей предшественницы. Это единственная
альтернатива, поскольку отсутствуют куколкицеркви, вышедшие из зачаточных
высших религий внутреннего пролетариата цивилизаций первого поколения.
В таком случае у нас есть две группы цивилизаций второго
поколения: цивилизации, оказавшиеся в дочерних отношениях к своим
предшественницам посредством внешнего пролетариата, и цивилизации, оказавшиеся
в дочерних отношениях к своим предшественницам посредством правящего
меньшинства. В других отношениях две эти группы также находятся на
противоположных полюсах. Первая из этих групп настолько отлична от своих
предшественниц, что сам факт родственности становится сомнительным. Вторая
настолько тесно связана со своими предшественницами, что можно спорить об их претензии
на раздельное существование. Тремя известными примерами второй группы являются
вавилонская цивилизация, которую можно рассматривать или как отдельную
цивилизацию, или как развитие шумерской, далее юкатанская и мексиканская,
которые подобным же образом относятся к майянской. Рассортировав две эти
группы, мы можем продолжить обзор иных различий между ними. Вся группа супра‑аффилированных
цивилизаций второго поколения терпит поражение там, где цивилизации другой
группы – эллинская, сирийская и индская – добиваются успеха. Ни одна из супра‑аффилированных
цивилизаций не порождает до истечения срока своей жизни Вселенскую церковь.
Если мы вспомним сделанный прежде вывод о том, что наш
последовательный ряд хронологически сменяющих друг друга типов общества
является в то же время восходящим рядом ценностей, где высшие религии – это
высочайший предел, которого очень трудно достичь, то теперь мы обнаружим, что
варварские куколки цивилизаций второго поколения (но не третьего) удостоились
чести участвовать в развитии высших религий. Это предположение можно наиболее
ясно выразить посредством следующей схемы:

* * *
Примечание: «Чудовищное правление женщин» [506]
Героический век, как и можно было бы ожидать, был веком
мужественным par excellence (по преимуществу). Не говорят ли фактические
данные в пользу того, что он был веком грубой силы? А когда господствует сила,
то есть ли у женщин хоть какой‑то шанс противостоять физически доминирующему
полу? Эта априорная логика опровергается не только идеализированной картиной,
представленной в героической поэзии, но и реальными историческими фактами.
В героический век великие катастрофы являются делом рук
женщин, даже когда женская роль на вид кажется пассивной. Если
неудовлетворенная страсть Альбоина[507] к Розамунде явилась причиной истребления
гепидов[508], то вполне
вероятно, что разграбление Трои было спровоцировано удовлетворением страсти
Париса к Елене. Чаще женщины выступают откровенными интриганками, злоба которых
приводит героев к взаимному уничтожению. Легендарная ссора между Брунгильдой и
Кримхильдой[509], которая в
конце концов вылилась в резню в дунайском чертоге Этцеля, вполне согласуется с
подлинными событиями ссоры между исторической Брунгильдой[510] и ее антагонисткой Фредегондой[511]. Эта ссора
стоила Меровингскому государству – наследнику Римской империи – сорока лет
гражданской войны.
Влияние женщин на мужчин в героический век, конечно же,
подтверждается не только той злобой, с какой они побуждали своих мужчин к
братоубийственной борьбе. Нет женщин, оставивших более глубокий след в истории,
чем мать Александра Македонского Олимпиада и мать Муавии Хинд, обессмертившие
себя пожизненным нравственным влиянием на своих доблестных сыновей. Однако
список Гонерилий, Реган и леди Макбет[512], отобранный
из записей достоверной истории, можно было бы продолжать без конца. Вероятно,
есть два способа объяснить это явление – один социологический, а другой –
психологический.
Социологическое объяснение состоит в том факте, что
героический век – это социальное междуцарствие, в котором традиционные обычаи
примитивной жизни ослабевают, в то время как никакой новый «кристалл обычая»
еще не выкристаллизовался нарождающейся цивилизацией или высшей религией. В
этой недолговечной ситуации социальный вакуум заполняется индивидуализмом
настолько полно, что он не принимает во внимание врожденные различия между
полами. Удивительно наблюдать, как этот необузданный индивидуализм приносит
плоды, которые с трудом отличимы от тех, что приносит доктринерский феминизм,
всецело находящийся за пределами эмоционального уровня и интеллектуального
горизонта женщин и мужчин подобных периодов. Подходя к проблеме с
психологической стороны, можно сказать о том, что козырными картами в
междоусобной борьбе варваров за существование является не грубая сила, но
упорство, мстительность, неумолимость, коварство и предательство. Всеми этими
качествами грешная человеческая природа столь же богато одарена как в женщине,
так и в мужчине. Если мы зададимся вопросом, являются ли эти женщины, которые
осуществляют «чудовищное правление» в аду героического века, героинями,
злодейками или жертвами, то мы не дадим однозначного ответа. Ясно одно: их
трагическая моральная раздвоенность делает их предметом поэзии. Неудивительно,
что в эпическом наследии постминойского героического века одним из любимых
жанров становится «каталог женщин», в котором перечисление одного из легендарных
преступлений женщины и его последствий вызывает в памяти легенду о другом в
почти бесконечной цепи поэтических реминисценций. Исторические женщины, чьи
страшные приключения отдаются в поэзии, усмехнулись бы криво, если бы могли
знать наперед, что воспоминание о воспоминании однажды вызовет в воображении
викторианского поэта «Грезу о прекрасных женщинах». Они почувствовали бы себя
решительно удобнее в атмосфере третьей сцены первого акта «Макбета»[513].

IX.
Контакты
между цивилизациями в пространстве
XXX.
Расширение поля исследования
Первоначальная рабочая гипотеза данного «Исследования
истории» состояла в том, что исторические цивилизации – это не более чем
умопостигаемые поля исследования. И если бы это положение оставалось в силе для
всех фаз их истории, то наша задача теперь была бы завершена. На самом деле,
однако же, мы обнаруживаем, что хотя цивилизация и является умопостигаемой
единицей, пока мы рассматриваем ее возникновение, рост и надлом, она перестает
быть таковой в фазе своего распада. Мы не сможем понять эту последнюю фазу
истории цивилизации, не расширив наш мысленный кругозор за ее пределы и не
приняв в расчет воздействие внешних сил. Упомянем лишь об одном‑единственном
выдающемся примере – о том, что Римская империя послужила эллинской колыбелью
для вдохновленного сирийской цивилизацией христианства.
Важность роли, сыгранной в возникновении высших религий
столкновениями между различными цивилизациями, можно проиллюстрировать одним из
общих мест исторической географии. Когда мы отметим на карте места рождения
высших религий, то обнаружим, что они собираются вокруг двух сравнительно
небольших клочков земли в Старом Свете – с одной стороны, бассейн Окса‑Яксарта,
а с другой – Сирия, учитывая, что граница в более широком смысле охватывает
территорию между Североаравийской степью, Средиземным морем и южными
оконечностями Анатолийского и Армянского плоскогорий. Бассейн Окса‑Яксарта стал
местом рождения махаяны в той форме, в какой она распространялась в
дальневосточном мире, а до того, возможно, – и зороастризма. В Сирии
христианство приобрело в Антиохии ту форму, в какой оно распространялось в
эллинском мире, после того как впервые появилось в качестве разновидности
фарисейского иудаизма в Галилее. Иудаизм и сестринская религия самаритян
возникли в Южной Сирии. Монофелитское христианство маронитов[514] и шиитский культ аль‑Хакима друзов появились в
Центральной Сирии. Эта географическая концентрация мест рождения высших религий
становится еще более выпуклой, когда мы расширяем наш горизонт и рассматриваем
соседние регионы. Расширение границ Сирии в Хиджазе на юг вдоль горной
оконечности Красного моря включает в себя место рождения христианской ереси,
которая стала новой религией ислама, а когда мы подобным же образом расширим
радиус нашего исследования в районе бассейна Окса‑Яксарта, то увидим место
рождения махаяны в ее первоначальном виде в бассейне Инда, место рождения
первоначального буддизма, а также место рождения постбуддийского индуизма – в
центральном бассейне Ганга.
Как это можно объяснить? Когда мы рассмотрим характерные
черты бассейна Окса‑Яксарта и Сирии и сравним их друг с другом, то обнаружим,
что каждая из этих областей была одарена природой способностью служить в
качестве «перекрестка», где пути, идущие из какой‑нибудь точки окружности, могут
быть направлены в любую другую точку окружности в любом количестве
альтернативных комбинаций. На сирийском перекрестке сходились пути, ведущие из
бассейна Нила, из Средиземноморья, из Анатолии с ее юго‑восточными европейскими
внутренними районами, из бассейна Тигра и Евфрата и из Аравийской степи. На
центрально‑азиатском перекрестке подобным же образом сходились пути, ведущие из
бассейна Тигра и Евфрата через Иранское нагорье, из Индии – через Гиндукуш, с
Дальнего Востока – через бассейн реки Тарим и из соседней Евразийской степи,
занявшей место и унаследовавшей кондуктивность ныне высохшего «второго
Средиземного моря», существование которого в прошлом подтверждается его
частично сохранившимися остатками в виде Каспийского и Аральского морей и озера
Балхаш.
Роль, которую природа предназначала двум этим потенциальным
перекресткам, в действительности была сыграна каждым из них не раз на
протяжении пяти‑шести тысячелетий со времени появления самых первых
цивилизаций. Сирия последовательно была сценой столкновений между шумерской и
египетской цивилизациями; между египетской, хеттской и минойской цивилизациями;
между сирийской, вавилонской, египетской и эллинской цивилизациями; между
сирийской, православно‑христианской и западно‑христианской цивилизациями; и, наконец,
между арабской, иранской и западной цивилизациями. Бассейн Окса‑Яксарта
подобным же образом последовательно был сценой столкновений между сирийской и
индийской цивилизациями; между сирийской, индийской, эллинской и
древнекитайской цивилизациями; и между сирийской и дальневосточной
цивилизациями. В результате этих столкновений каждый из двух необыкновенно
«богоносных» («религионосных») регионов был включаем в универсальные
государства множества различных цивилизаций, и особенно активные отношения между
цивилизациями в двух этих областях объясняют чрезвычайную концентрированность в
них мест рождения высших религий.
В силу этих фактов мы можем рискнуть выдвинуть «закон»
относительно того, что при изучении высших религий минимальное умопостигаемое
поле должно быть расширено за пределы какой‑либо отдельной цивилизации,
поскольку оно должно быть полем, в котором сталкиваются друг с другом две или
более цивилизации. Нашим следующим шагом будет еще более широкий обзор тех
столкновений, которые в определенных исторических случаях привели к появлению
на свет высших религий.
Данные столкновения представляют собой контакты в
пространстве между цивилизациями, которые ex hypothesi (гипотетически)
должны быть современницами друг друга. Однако прежде чем перейти к этому
предмету настоящей части данного «Исследования», мы можем заметить, что
цивилизации вступали в контакт друг с другом также и во времени, и эти контакты
могут быть двух видов. Один вид контактов во времени – это сыновне‑отеческие
отношения между сменяющими друг друга цивилизациями, тема, которой мы
занимались на протяжении всего «Исследования». Другим видом является отношение
между растущей цивилизацией и «призраком» ее давно умершей предшественницы. Мы
можем назвать столкновения этого типа ренессансами, от названия, введенного в
оборот французским писателем XIX столетия для описания отдельного примера – ни
в коем случае не единственного примера – этого исторического явления. Эти
столкновения цивилизаций во времени будут оставлены для следующей части «Исследования».
XXXI.
Обзор столкновений между современными цивилизациями
1. План действий
Намереваясь сделать обзор столкновений между современными
друг другу цивилизациями, мы оказываемся перед необычайно запутанным лабиринтом
истории. И нам можно было бы посоветовать: прежде чем погружаться в его чащу,
лучше поискать удобное место для выхода из него. Количество цивилизаций,
первоначально располагавшихся на нашей культурной карте, равнялось двадцати
одной. И если последние достижения в археологии подтверждают наше мнение о
культуре долины реки Инд как об обществе, отличном от шумерской цивилизации, а
о культуре династии Шан[515] как о цивилизации, предшествовавшей
древнекитайской, то эти коррективы в наших вычислениях приведут к тому, что
общее число цивилизаций достигнет двадцати трех. Однако даже если мы допустим
тот факт, что две цивилизации, не пересекающиеся друг с другом во времени, не
могут иметь контакт такого рода, о каком здесь идет речь, очевидно, что
количество столкновений между современными друг другу цивилизациями может
превысить, и фактически значительно превышает, число самих цивилизаций. У нас
есть, как мы уже не раз отмечали, три поколения цивилизаций. Если бы первое
поколение вымерло одновременно, а второе – также, то переплетение столкновений
в пространстве значительно бы упростилось. Мы должны были бы рассматривать,
скажем, взаимные столкновения цивилизаций первого поколения А, В, С, D и Е, не
допуская возможности того, что какая‑либо из них может столкнуться с
цивилизациями второго поколения F, G, Н, I и J. Однако, конечно же, это совсем
не так. Хотя и можно утверждать, что шумерская цивилизация уже давно была
похоронена, прежде чем могла столкнуться с каким‑либо здоровым юнцом второго
поколения, однако же Тифон[516] первого поколения – египетская цивилизация –
повела себя совершенно по‑другому.
Вплоть до «нового» времени существовал один фактор, который
являлся причиной того, что действительные столкновения между современными друг
другу цивилизациями в пространстве не достигали своего возможного
математического максимума. Само пространство было настолько велико или было
такого рода, что не допускало возможности подобных взаимных столкновений. Не
было, например, столкновений между цивилизациями Старого и Нового Света –
вплоть до овладения техникой океанской навигации западно‑христианской
цивилизацией в «современной» главе ее истории (примерно 1475‑1875 гг.). Это
достижение явилось исторической вехой и может дать нам ключ для нахождения
точки входа в исторический лабиринт, который мы взялись изучить.
Когда в ходе XV столетия христианской эры западноевропейские
моряки овладели техникой океанской навигации, они тем самым приобрели средство
физического доступа ко всем обитаемым и необитаемым землям на планете. В жизни
всех остальных обществ влияние Запада постепенно стало основной социальной
силой. По мере того как западное давление усиливалось, их жизнь переворачивалась
вверх дном. Казалось, одно западное общество осталось не подверженным в своей
жизни тому опустошению, которое коснулось всего остального мира. Однако уже на
памяти автора данного «Исследования» одно из столкновений между Западом и его
современниками привело к помрачению горизонта самого западного общества.
Главенствующая роль в западных делах, которую стало играть
столкновение между Западом и иностранной социальной системой, явилась новой
чертой в современной западной истории. Начиная с окончившейся неудачей второй
осады турками Вены в 1683 г.[517] вплоть до поражения Германии во Второй мировой
войне 1939‑1945 гг. Запад как целое настолько превзошел в своей власти весь
остальной мир, что фактически не осталось никого, с кем западные державы могли
бы считаться за пределами своего круга. Эта западная монополия на власть,
однако же, закончилась в 1945 г., ибо с этой даты впервые с 1683 г. одним из
соперников в борьбе за политическую власть снова оказалась неевропейская
держава.
Правда, существовала двусмысленность в отношении Советского
Союза и коммунистической идеологии к западной цивилизации. Советский Союз стал
политическим наследником петровской Российской империи, которая явилась
добровольным обращением к западному образу жизни на рубеже XVII–XVIII столетий
христианской эры и с этого времени участвовала в европейской игре по негласной
договоренности о том, что новообращенный останется верен принятым на Западе
правилам. С другой стороны, коммунизм, подобно либерализму и фашизму, по своему
происхождению был одной из секулярных идеологий, возникших на современном
Западе в качестве заменителей христианства. Таким образом, с одной точки
зрения, соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами за
господство над миром и соперничество между коммунизмом и либерализмом за
человечество можно рассматривать и как внутреннее разногласие между домочадцами
единого западного общества. С другой точки зрения, однако, Советский Союз можно
было бы рассматривать, подобно его петровской предшественнице, в качестве
русско‑православного универсального государства, старающегося сохранить свое
европейское платье, которое он усвоил для удобства и для маскировки. Под этим
же углом зрения можно рассматривать и коммунизм в качестве идеологического
заменителя восточно‑православного христианства, который предпочли либерализму,
поскольку либерализм был западной ортодоксией, тогда как коммунизм, хотя и имел
западное происхождение, в глазах европейцев был отвратительной ересью.
Как бы то ни было, несомненным остается то, что резкое
усиление антизападных тенденций в русском чувствовании и мысли было одним из
последствий Русской коммунистической революции 1917 г. и что появление
Советского Союза в качестве одной из двух оставшихся в живых конкурирующих
мировых держав вновь выводит культурный конфликт на политическую арену, которая
примерно 250 предшествующих лет оставалась открытой для внутренних политических
ссор между державами одного культурного вида. Можно также заметить, что в таком
новом вступлении в борьбу против вестернизации после казавшейся долгое время
проигранной битвы русские показали пример, которому спустя 31 год последовали
китайцы и которому в свое время вполне могут последовать японцы, индусы,
мусульмане и даже те общества, которые уже давно прониклись европейским
влиянием, как основной ствол православного христианства в Юго‑Восточной Европе
и три исчезнувшие доколумбовы цивилизации Нового Света.
Эти соображения наводят на мысль о том, что внимательное
исследование столкновений между современным Западом и другими ныне живущими
цивилизациями может оказаться удобной отправной точкой. Следующей группой
столкновений, которые необходимо исследовать, естественно, окажутся
столкновения западного христианства в его более ранний, так называемый
средневековый период с его соседями в эту эпоху. После этого по нашему плану
нужно было бы выбрать среди ныне исчезнувших цивилизаций те, которые оказывали
на своих соседей влияние, сравнимое с влиянием Запада на своих современников.
При этом мы не будем связывать себя проверкой каждого отдельного столкновения,
которое может быть открыто в результате дотошного исследования истории.
Прежде чем начать действовать в соответствии с намеченным
планом, мы должны определить дату, с которой начинается «современная» глава
западной истории.
Исследователи‑неевропейцы датировали бы ее начало тем
моментом, когда первые европейские корабли подошли к их берегам, ибо в глазах
неевропейца homo occidentalism[518],
подобно самой жизни, согласно одной научной гипотезе, являлся созданием
морского происхождения. Дальневосточные книжники, например, когда увидели
первых представителей западного человечества в правление династии Мин,
прикрепили к вновь прибывшим ярлык «варваров Южного моря» на основании их
непосредственного происхождения и их очевидного уровня культуры. В этом и
других столкновениях вездесущие западные моряки прошли через ряд стремительных
превращений в глазах своих сконфуженных жертв. При своей первой высадке они
выглядели словно безобидные морские микроскопические животные прежде неизвестного
рода. Вскоре они показывали себя дикими морскими чудовищами. Наконец, они
оказывались хищными амфибиями, столь же подвижными на суше, как и в своей
собственной стихии.
С собственной точки зрения современного Запада, его
современность началась в тот момент, когда западный человек возблагодарил не
Бога, а самого себя за то, что перерос свою «средневековую» христианскую
дисцилину. Это многообещающее открытие сначала произошло в Италии, и получилось
так, что поколение, явившееся свидетелем итальянизации трансальпийского
большинства западных народов, в то же самое время явилось свидетелем завоевания
океана западными народами Атлантического побережья. Принимая во внимание две
эти вехи, мы можем уверенно поместить начало современной главы западной истории
в последней четверти XV столетия.
Когда мы начнем рассматривать результаты столкновений между
современным Западом и остальным миром, то обнаружим, тем не менее, что период в
четыре с половиной столетия, истекший с начала этой драмы, слишком короток и
что мы имеем дело с неоконченной историей. Это сразу станет очевидным, если мы
обратим наше внимание на более раннюю историю того же рода. Если мы сравним
историю влияния современного Запада на его современников вплоть до времени
написания этой книги с историей влияния эллинской цивилизации на хеттское,
сирийское, египетское, вавилонское, индское и древнекитайское общества и если в
целях хронологического сравнения приравняем переход Александра Македонского
через Геллеспонт в 334 г. до н. э. к пересечению Колумбом Атлантического океана
в 1492 г., то 460 лет, которые доведут нас в современном западном летописании
до 1952 г., доведут нас в другом летописании лишь до 126 г. н. э. Это всего
лишь на несколько лет позже того времени, которым датируется переписка между императором
Траяном и его наместником Плинием[519] по поводу отношения к неизвестной секте христиан
в провинции Вифиния и Понт. Кто в то время мог бы предугадать последующую
победу христианства? Эта историческая параллель указывает на то, до какой
степени в 1952 г. может быть скрыто будущее от мысленного взора западного
исследователя влияния Запада на остальной мир.
Ко времени написания этой книги в XX столетии христианской
эры столкновение между эллинизмом и его современниками уже давно закончилось,
так что историк может проследить эту историю с начала до конца. Однако где
следует искать этот конец? Ищущий его должен нащупывать его во времени не ранее
XII в. христианской эры, когда и дальневосточный, и сирийский мир стали
противодействовать влиянию эллинизма с решимостью, которая не оставляла места
для сомнений. В дальневосточном мире изобразительные искусства в то время все
еще вдохновлялись эллинскими влияниями, а в сирийском мире аристотелевская
философия и наука стимулировали восточных мыслителей уже посредством арабского
языка.
Подобные суждения, которые можно было бы неограниченно
разрабатывать и подтверждать примерами из иных источников, являются
напоминанием о мудрой пословице, говорящей о том, что написание современной
истории невозможно. Тем не менее в то же самое время это одна из тех
невозможных вещей, от повторения которой историки вполне справедливо
отказываются воздерживаться. Вследствие этого, с открытыми глазами и будучи
должным образом предупреждены, мы входим в особое поле этого «невозможного»
предприятия, которое является задачей, непосредственно стоящей перед нами.
2. Действия по плану
а) Столкновения с современной западной цивилизацией
i) Современный Запад и Россия
Установление русского православно‑христианского
универсального государства в результате включения Новгородской республики в
состав великого княжества Московского произошло в 80‑е гг. XV столетия и
практически совпадает с началом «современной» главы западной истории. «Западный
вопрос», тем не менее, был знаком русским умам еще до этого времени, поскольку
в XIV‑XV столетиях польское и литовское правление распространилось на большие
пространства первоначальных владений русского православно‑христианского мира. В
ходе XVI, XVII и XVIII столетий власть западной цивилизации над русским
населением в Польше и Литве (два этих королевства объединились в 1569 г.) была
усилена за счет церковного союза части людей, принадлежавших к русской
православной общине, с римско‑католической Церковью. Землевладельческая аристократия
по большей части была обращена иезуитскими миссионерами[520], в то время
как значительная часть крестьянства стали членами униатской Церкви, которая
разрешала сохранять большинство из традиционных обрядов и правил. «Неудержимый конфликт»
между Московией и Западом по поводу преданности этого белорусского и
украинского населения, отделенного от своих собратьев – русских православных
христиан, продолжался вплоть до конца Второй мировой войны 1939‑1945 гг., когда
волей‑неволей последние остатки их снова были приведены в ряды русской паствы.
Эти первоначально русские, а впоследствии
полувестернизированные пограничные земли, тем не менее, не были основным полем
столкновения между Россией и современным Западом. Польское отражение современной
западной культуры было слишком тусклым, чтобы глубоко влиять на русские души. В
решающем столкновении наиболее значительную роль с западной стороны сыграли те
морские народы Атлантического побережья, которые захватили у итальянцев
лидерство в западном мире. В эту господствующую группу стали входить
непосредственные соседи России вдоль восточного побережья Балтийского моря.
Однако хотя немецкие бароны и бюргеры балтийских провинций оказывали влияние на
русскую жизнь, несоизмеримое с их численностью, влияние атлантических народов,
просачивавшихся через порты, умышленно открывавшиеся русским имперским
правительством для ввоза, оказывалось значительно более сильным.
В этой связи сюжет драмы диктовался постоянным
взаимодействием между технологическими достижениями Запада и решимостью русских
душ сохранить свою духовную независимость. Убежденность русских в уникальности
судьбы России выразилась в вере в то, что мантия Константинополя – «Второго
Рима» – упала на плечи России. Принятие на себя Москвой роли единственной
хранительницы и оплота Православия достигло своей кульминационной точки в
учреждении Московского патриархата в 1589 г., в тот самый момент, когда русским
владениям, уже сильно сократившимся в результате захватов со стороны
средневекового Запада, начали угрожать первые победы современной западной
техники.
На этот вызов последовало три различных ответа русских.
Одним явилась тоталитарная «зелотская» реакция, типичными представителями
которой явилась фанатичная секта староверов[521]. Вторым
ответом было радикальное «иродианство», нашедшее своего гениального
представителя в Петре Великом. Петровская политика состояла в обращении
Российской империи из православно‑христианского универсального государства в
одно из национальных государств современного западного мира. Согласившись с
петровской политикой, русские прежде всего согласились быть как все другие
нации и косвенным образом отказались от претензии Москвы на уникальную судьбу в
качестве оплота Православия – единственного общества, с которым, как утверждали
староверы, связаны будущие надежды всего человечества. Хотя петровская политика
принималась с видимым успехом в течение более двухсот лет, она никогда не
получала искренней поддержки русского народа. Позорный крах военных усилий
России в Первой мировой войне 1914‑1918 гг. выявил страшную реальность,
показав, что проводившаяся в течение более чем двух веков петровская политика
вестернизации оказалась не только нерусской, но также и безуспешной. Она не
выполнила взятые на себя обязательства, и в этих обстоятельствах долго
подавлявшаяся претензия на уникальность судьбы России вновь заявила о себе в
коммунистической революции.
Русский коммунизм был попыткой примирить это неудержимое
чувство русской судьбы с неизбежной необходимостью копировать современные
западные технические изобретения. Это усвоение современной западной идеологии,
хотя бы и идеологии восстания против существующего западного либерализма,
явилось парадоксальным способом заявить в пику современному Западу о претензии
России на уникальное наследие. Ленин и его наследники предсказывали, что
политика борьбы с Западом с выбором его собственного оружия не может увенчаться
успехом, если оружие будет пониматься чисто в материальном смысле. Секрет
ошеломляющего успеха современного Запада состоял в мастерской кооперации
духовного и светского оружия. Проломы, произведенные взрывом современной
западной технологии, открыли путь для духа современного западного либерализма.
Чтобы реакция России на Запад была успешной, она должна выступить в качестве
поборника веры, которая могла бы на равных состязаться с либерализмом.
Вооруженная этой верой, Россия должна состязаться с Западом за духовную
преданность все живущих ныне обществ, по своим местным культурным традициям не
являющихся ни западными, ни русскими. Не довольствуясь этим, она должна иметь
смелость вести войну против вражеского лагеря, проповедуя русскую веру на
собственной родине западной цивилизации. Это тема, к которой мы неизбежно
вернемся в последующей части данного «Исследования».
* * *
ii) Современный Запад и основной ствол православного
христианства
Принятие современной западной культуры в основном стволе
православного христианства произошло одновременно с ее принятием в России. В
обоих случаях движение в сторону вестернизации началось к концу XVII столетия
христианской эры. В обоих случаях это движение было отмечено отходом от
существовавшего долгое время прежде враждебного отношения. Наконец, в обоих
случаях единственной причиной этой перемены отношения в душах православных
христиан было предшествовавшее ему психологическое изменение на Западе – смена
религиозного фанатизма безрелигиозной терпимостью, отражающей то глубочайшее
разочарование в западных душах, которое явилось последствием так называемых
религиозных войн на Западе. Однако в политическом плане два этих отдельных
православно‑христианских движения в сторону вестернизации следовали различными
путями.
Оба православно‑христианских общества были к данному времени
втиснуты в рамки универсальных государств. Однако если русское универсальное
государство было местным созданием, то универсальное государство основного
ствола православного христианства было навязано ему извне оттоманскими турками.
Так, в России движение вестернизации задумывалось для того, чтобы усилить
существующее имперское правительство, и было запущено сверху революционным
гением, который был к тому же царем, в то время как в Оттоманской империи
движение вестернизации стремилось в конечном итоге вернуть политическую
независимость сербам, грекам и другим подвластным православным народам путем
свержения оттоманской власти и было запущено снизу – не государями,
занимающимися государственными делами, но по инициативе частных лиц.
Революция XVII в. в отношении православных христиан к Западу
для сербов и греков означала даже еще большую перемену, чем для русских сердец,
если сравнить соответствующую степень их прежней враждебности по отношению к
Западу. В XIII в. христианской эры греки яростно противодействовали так
называемой Латинской империи[522], навязанной
им на полстолетия «франками» – участниками Четвертого крестового похода. В XV
столетии они отвергли унию Православной и Католической церквей, достигнутую на
бумаге на Флорентийском соборе 1439 г., хотя эта уния, казалось бы, давала им
единственный шанс западной поддержки против турецких захватчиков. Они предпочли
падишаха римскому папе. Не далее как в 1798 г. греческая пресса в
Константинополе опубликовала официальное заявление патриарха Иерусалимского, в
котором он сказал своим читателям, что:
«Когда последние императоры Константинополя начали подчинять
Восточную Церковь папскому рабству, особая благосклонность Небес воздвигла
Оттоманскую империю, чтобы защитить греков от ереси, в качестве барьера против
политической власти западных наций и в качестве защитницы Православной Церкви»{131}.
Это изложение традиционного «зелотского» тезиса, тем не
менее, было прощальным выстрелом в проигранной культурной битве, события в
которой приняли свой решительный оборот более столетия до того. О дате начала
этого переноса культурной преданности православных христиан со своих
оттоманских хозяев на западных соседей свидетельствует психологически значимый
указатель изменений в модах и одежде. Это «портновское свидетельство»
подтверждается данными из сферы культуры. В 70‑е гг. XVII столетия
оттоманизация все еще являлась целью социальных амбиций подвластного населения
(райя), как замечал в то время проницательный секретарь английского посольства
в Константинополе сэр Пол Рикаут:
«Мудрому человеку стоит понаблюдать, с каким удовольствием
греки и армянские христиане подражают турецким обычаям и приближаются к ним
настолько близко, насколько осмеливаются; как гордятся они, когда им дают право
по какому‑либо чрезвычайному случаю не носить своих христианских отличий»{132}.
С другой стороны, Дмитрий Кантемир[523], румынский
вельможа, православный христианин, который был назначен Портой в 1710 г.
господарем Молдавии и дезертировавший к русским в следующем году, представлен
на портрете того времени в пышном парике, мундире, камзоле и со шпагой.
Подобные перемены в одежде были, конечно же, внешними знаками соответствующих
перемен в складе ума. Например, Кантемир умел читать и писать по‑латыни, по‑итальянски
и по‑французски, а православные греки‑фанариоты, состоявшие на турецкой службе,
ценились своими турецкими нанимателями в XVIII в. как знатоки западного образа
жизни в эпоху, когда оттоманское правительство оказалось вынужденным нанимать
хитроумных дипломатов для переговоров с западными державами, которых уже не
могло победить на поле битвы.
Страдания православных подданных Оттоманской Порты в XVIII
в. были в значительной степени вызваны плохим управлением, к которому скатилась
империя на своем пути к падению. Наоборот, начало религиозного скептицизма в
западно‑христианском мире сопровождалось там успехом в административной
эффективности и зарождением политического просвещения. Габсбургская
католическая монархия теперь перестала преследовать своих подданных‑некатоликов,
а ее православные подданные‑сербы – беженцы из Оттоманской империи, осевшие на
бывших оттоманских территориях, отвоеванных Габсбургской монархией в Венгрии, –
стали психологическими проводниками, посредством которых современная западная
культура проникала в сербский народ в целом. Другой канал влияния западной
культуры проходил через Венецию, которая на протяжении четырех с половиной
столетий, предшествовавших 1669 г., владела населенным греческими православными
христианами островом Критом и управляла на протяжении более коротких периодов
частями континентальной Греции. Другой силой вестернизации служил западный
дипломатический корпус в Константинополе, который воспользовался классическим
оттоманским принципом экстерриториальной автономии для всех общин внутри
империи, чтобы создать миниатюрную imperia in imperia[524],
в которой бы они властвовали не только над своими соотечественниками, живущими
в Оттоманской империи, но также и над оттоманскими подданными, ставшими их
официальными протеже. Еще один канал был открыт греческими торговыми
объединениями, которые начали основываться в западном мире – вплоть до Лондона,
Ливерпуля и Нью‑Йорка.
Современное западное влияние, распространявшееся таким
образом на основной ствол православно‑христианского мира посредством сухопутных
и морских каналов, было направлено на общество, жившее под властью чуждого
универсального государства. Тем самым, попытка усвоить современный западный
образ жизни в сфере образовательной была предпринята раньше, чем
распространилась на сферу политическую. Академическая деятельность Адамандиоса
Кораиса[525] и Вука Караджича[526] в Вене предшествовала восстаниям Карагеоргия[527] и Милоша Обреновича[528].
К началу XIX столетия христианской эры можно было с
уверенностью предсказать, что европейские территории Оттоманской империи
подвергнутся некоего рода вестернизирующей трансформации, однако форма, которую
эта трансформация примет, все еще оставалась тогда неясной. В это столетие к
1821 г. греческое фанариотское окружение Вселенского патриарха преобразовало
свою прежнюю мечту о восстановлении восточно‑римского призрака Римской империи
в новую мечту – решить западный вопрос в политическом плане, переделав
Оттоманскую империю, как Петр Великий переделал Российскую империю, в точную
копию такой современной западной многонациональной «просвещенной монархии», как
Дунайская монархия Габсбургов. И этому амбициозному стремлению греков‑фанариотов
благоприятствовал ряд обнадеживающих политических успехов.
Сделав Вселенского патриарха официальным главой всех православных
подданных расширяющейся Оттоманской империи, султан дал константинопольскому
прелату политическую власть над христианскими народами, которой никогда не было
ни при одном константинопольском императоре со времен арабского завоевания
Сирии и Египта в VII в. христианской эры. В XVII‑XVIII вв. политическая власть
Фанара распространилась еще дальше за счет действия свободных подданных‑мусульман.
В течение ста лет, последовавших за смертью в 1566 г. Сулеймана Великолепного,
свободные мусульмане заставили рабов‑домочадцев падишаха принять их в качестве
партнеров в управлении Оттоманской империи и довели эту политическую победу до
конца, взяв себе в сотрудники греческое подвластное население (райя). Вслед за
созданием должностей драгомана Порты и драгомана флота, учитывая использование
способностей оттоманских греков на службе империи, последовали дальнейшие меры,
направленные в пользу греков и в ущерб другим православным подданным‑негрекам.
В предшествовавшее 1821 г. полстолетия греки‑фанариоты могли
вообразить, что они уже достигли почти такого же доминирующего влияния в
Оттоманской империи, какое стремился обеспечить для немцев в Дунайской
Габсбургской монархии их современник король‑император Иосиф II. Однако к этому
времени господство фанариотов было уничтожено последствиями революционных
событий на Западе. Просвещенная монархия была внезапно вытеснена национализмом
в качестве доминирующей идеи западной политики. Негреческие православные
подданные Оттоманской империи не нашли удовлетворения своим собственным
пробудившимся националистическим стремлениям в замене греками‑фанариотами
господства турков‑мусульман. Это показало румынское население Дунайских
княжеств. Когда в 1821 г. управлявшие здесь в течение 110 лет греки‑фанариоты
потерпели фиаско в рейде Ипсиланти, румыны остались глухи к взываниям к ним
греков, пытавшихся поднять их в качестве собратьев, членов православно‑христианского
общества, которое должно освободить себя от оттоманского правления, взяв в руки
оружие под руководством греков‑фанариотов.
Крах «великой идеи» фанариотов указывает на то, что
многонациональное православно‑христианское население Оттоманской империи,
страстно желавшее усвоить западный образ жизни, должно было быть рассортировано
на лоскутное одеяло национальных государств – греческое, румынское, сербское,
болгарское, албанское и грузинское – по модели Франции, Испании, Португалии и
Голландии, в каждом из которых особый язык вместо особой религии явился бы
тайным паролем, объединяющим «сограждан» и отделяющим их от «иностранцев». Однако
в начале XIX в. очертания этой экзотической современной западной модели были
еще различимы с трудом. К этому времени в Оттоманской империи существовало
немного районов, население которых было почти однородно по своему языковому
единству и которые к тому же обладали хотя бы зачатками государственности.
Радикальная перестройка политической карты, направленная на то, чтобы
приспособить ее к революционному замыслу современного Запада, повлекла за собой
несчастье для миллионов людей. Причиненные ей страдания становились все шире и
интенсивнее по мере того, как эта прокрустова операция постепенно
распространялась на территории и народы, которые все в меньшей степени могли
быть политически организованы на националистической основе. Эта страшная
история продлилась от уничтожения оттоманского мусульманского меньшинства в
Морее греческими националистами в 1821 г. до массового бегства греческого
православного меньшинства из Западной Анатолии в 1922 г.
Православно‑христианские национальные государства, которые
появились в этих неблагоприятных обстоятельствах и в таких незначительных
размерах, конечно же, не могли, подобно вестернизированной Российской империи,
дать волю своим амбициям и играть vis‑a‑vis[529] современному Западу ту же роль, которую играла
Восточная Римская империя vis‑a‑vis средневековому западному
христианству. Их слабая энергия поглощалась в местных спорах по поводу
небольших участков территории, а наибольшей враждебности они достигали в
отношениях друг с другом. В отношении к внешнему миру они оказывались в
ситуации, не столь далекой от положения их предшественников в столетия,
непосредственно предшествовавшие установлению Pax Ottomanica. В ту эпоху
греки, сербы, болгары и румыны столкнулись с выбором между господством их
собратьев, средневековых западных христиан, и господством османов. В
постоттоманскую эпоху альтернатива, с которой они.столкнулись, состояла во
включении их в секулярную социальную систему современного Запада или в
подчинении сначала петровской, а впоследствии – коммунистической России.
В 1952 г. большинство этих нерусских православных народов
фактически находились под военно‑политическим контролем России. Единственными
исключениями были Греция, где русские потерпели поражение в необъявленной
«войне‑после‑войны» между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки,
участниками которой с каждой стороны были греческие уполномоченные иностранных
воюющих сторон, и Югославия, свергнувшая послевоенное господство России и
получившая американскую поддержку. В государствах, находившихся под господством
России, тем не менее, было очевидно, что даже непрямое осуществление русской
власти было ненавистно для всех, за исключением немногочисленного меньшинства
коммунистов, управлявшего этими странами в качестве агентов советского правительства.
Это сопротивление русскому влиянию имеет давнюю историю,
которую можно проиллюстрировать отношениями России с Румынией, Болгарией и
Сербией в XIX в. – задолго до коммунистической революции в России. Например, по
окончании Русско‑турецкой войны 1877‑1878 гг.[530] Россия предвкушала, что окажет основное
влияние на Сербию, которую спасла от турецких войск, на Румынию, которой
передала Добруджу, а кроме того, на Болгарию, которую только что создала ex
nihilo[531] одной только силой русского оружия. Однако
последствия показали, как неоднократно показывали уже в истории во многих
других местах, что в международной политике не существует такого понятия, как
благодарность.
Антирусские настроения в нерусских православных странах
могут на первый взгляд показаться удивительными в то время, когда православное
христианство все еще было государственной религией Русского государства и когда
«церковно‑славянский» язык был еще общим богослужебным языком Русской, Румынской,
Болгарской и Сербской Православных церквей. Почему же панславизм и
панправославие оказались столь малопригодны для России в ее отношениях с этими
народами, которым она оказала такую эффективную помощь в их борьбе за
освобождение от оттоманского рабства?
Ответ, по‑видимому, состоит в том, что православные
христиане Оттоманской империи подпали под чары Запада и что если их вообще
привлекала Россия, то совсем не потому, что была славянской или православной,
но потому, что явилась первой в деле вестернизации, которой они так страстно
желали. Однако чем ближе они знакомились с Россией, тем более ясной становилась
для этих нерусских вестернизированных народов поверхностность западного лоска
петровской России. «Поскоблите русского, и вы найдете татарина»[532]. Можно было
бы предъявить множество документальных свидетельств, показывающих, что
культурный престиж России среди христиан Оттоманской империи был самым высоким
в век Екатерины Великой (правила в 1762‑1796 гг.) и что впоследствии он стал
падать, по мере того как вмешательство русских в дела Оттоманской империи
возрастало и характерные черты русских становились ближе знакомы «угнетенным
христианским народам», защитницей которых стремилась себя утвердить Россия.
* * *
iii) Современный Запад и индусский мир
Обстоятельства, в которых индусский мир столкнулся с
современным Западом, во многом удивительно похожи на те, в которых тому же
самому опыту подвергся основной ствол православного христианства. Каждая из
этих цивилизаций уже вошла в фазу универсального государства, и в обоих случаях
государственный строй был навязан иностранными строителями империи, которые
были выходцами из ирано‑мусульманской цивилизации. В Индии Великих Моголов, так
же как и в православно‑христианском мире Оттоманской империи, подданные этих
мусульманских правителей стали ощущать на себе привлекательность культуры своих
господ в то самое время, когда на их горизонте появился современный Запад.
Жители обоих регионов впоследствии перенесли свою преданность на эту поздно
взошедшую звезду, как только Запад явно стал набирать свою силу, а исламское
общество – ее утрачивать. Однако эти черты сходства резко контрастируют с не
менее поразительными чертами различия.
Например, когда православные христиане Оттоманской империи
обратились к Западу, они должны были преодолеть традиционную антипатию,
являвшуюся результатом их неудачного опыта столкновения с этой цивилизацией в
предшествующую средневековую фазу. С другой стороны, индусам в их культурной
переориентации не нужно было заглаживать столь печальные воспоминания.
Столкновение между индусским миром и Западом, которое началось, когда да Гама[533] высадился в Калькутте в 1498 г., фактически
было первым контактом, когда‑либо имевшим место между двумя этими обществами.
Кроме того, эту разницу в прошлой жизни затмевает гораздо
более важное различие в жизни последующей. В истории православно‑христианского
мира чуждое универсальное государство оставалось в руках мусульманских
основателей вплоть до его распада. В то же время империя, которую не удалось
сплотить ничтожным наследникам монгольских военачальников‑Тимуридов, была
восстановлена шедшими по стопам Акбара британскими дельцами, когда они
осознали, что структура закона и порядка в Индии, без которой европеец не
сможет вести свой бизнес, будет восстановлена французами, если британцы не
опередят своих конкурентов, проделав эту работу сами. Таким образом,
вестернизация индусского мира вступила в свою критическую стадию в тот период,
когда Индия оказалась под западным управлением. Вследствие этого принятие
современной западной культуры произошло в Индии, как и в России, сверху вниз, а
не снизу вверх, как у православных христиан Оттоманской империи.
В этой ситуации индусские касты брахманов и банья[534] успешно сыграли в индусской истории ту роль,
на которую безуспешно претендовали в истории нерусских православных народов
греки‑фанариоты. При всех политических режимах в Индии одной из прерогатив
брахманов была служба в качестве государственных министров. Они играли эту роль
в индском мире еще до того, как стали ее играть в аффилированном индусском
обществе. Мусульманские предшественники Моголов и сами Моголы, в свою очередь,
нашли выгодным для себя последовать примеру индусских государств, которые они
подчинили себе. Министры и менее крупные чиновники из брахманов, состоявшие на
службе мусульманских правителей, делали это иностранное правление менее
одиозным для индусов, чем оно было бы в ином случае. Британская империя, в свою
очередь, последовала примеру Могольской, в то время как британские
экономические предприятия предоставляли соответствующие возможности для
представителей касты банья.
Вследствие перехода управления Индией в руки британцев
британская политика по превращению английского вместо персидского в официальный
язык имперской администрации и предпочтению западной литературы литературе на
персидском и на санскрите в системе высшего образования оказала на историю
индийской культуры столь же большое влияние, какое на историю русской культуры
оказала вестернизаторская политика Петра Великого. В обоих случаях внешний
налет западной жизни вошел в моду посредством указов экуменического
самодержавного правительства. Высшие касты индусов получали западное
образование, поскольку правительство постановило, чтобы это образование стало
условием доступа к государственной службе в Британской Индии. Вестернизация
индийского бизнеса и правительства породила в Индии две западные свободные
профессии – преподавателя университета и адвоката, а в вестернизированном мире
бизнеса, основанном на частном предпринимательстве, самые выгодные вакансии не
могли стать монополией лишь европейских подданных Британии.
Неизбежно эти новые элементы в индусском обществе
стремились, как в православно‑христианском мире Оттоманской империи стремились
греки‑фанариоты, вырвать власть над экуменической империей, в которой они жили,
из рук иностранцев, построивших ее, и превратить империю в одно из национальных
государств вестернизированного мира по конституционной модели, преобладавшей в
то время. На рубеже XVIII и XIX столетий фанариоты мечтали о превращении
Оттоманской империи в просвещенную монархию. На рубеже XIX и XX столетий
вестернизированные политические лидеры индусского мира отдали должное перемене
в западных политических идеалах, поставив перед собой гораздо более сложную
задачу по превращению Британской империи в Индии в демократическое национальное
государство западного типа. К тому времени, когда прошло менее пяти лет после
завершения передачи правления Индией из британских рук в индийские 15 августа
1947 г., было еще слишком рано прогнозировать исход этого предприятия. Однако
уже можно сказать, что индусское государственное искусство управления
государством оказалось более успешным, чем смели надеяться иностранные
доброжелатели, в своих попытках спасти, насколько это было возможным,
политическое единство, являвшееся, возможно, самым драгоценным даром британцев
Индийскому субконтиненту. Многие британские обозреватели этих событий
прогнозировали, что падение Британской империи в Индии повлечет за собой
«балканизацию» всего субконтинента. Прогноз оказался ошибочным, хотя единство
было нарушено, с точки зрения индусов, в результате отделения Пакистана.
Мотивом, побуждавшим индийских мусульман настаивать на
создании Пакистана, был страх, проистекавший из осознания своей слабости. Они
не забыли, как в XVIII в. христианской эры Империи Великих Моголов не удалось
отстоять с мечом в руках владений, которые были завоеваны только мечом. Они
осознавали, что при таком решении вопроса большая часть бывших владений Моголов
стала бы добычей государств‑наследников Маратхи и сикхов, если бы британская
военная интервенция не направила развитие индийской политической истории в
другое русло. Они также знали, что при Британской империи они снова позволили
индусам обойти себя на фазе непрерывного конфликта между этими двумя общинами,
в котором британский арбитр постановил, чтобы перо в качестве инструмента
соревнования заменило меч.
По этим причинам индийские мусульмане настояли в 1947 г. на
учреждении отдельного, собственного государства‑наследника, и дальнейшее
расчленение угрожало породить те же трагические последствия, которые явились результатом
расчленения Оттоманской империи в предшествующее столетие. Попытка выделить из
географически смешанных общин территориально обособленные национальные
государства приводила к проведению границ, которые с административной и
экономической точек зрения были отвратительны. Даже при таком разделении
огромное количество представителей национальных меньшинств оставалось по другую
сторону проведенной линии. Началось паническое бегство эмигрантов, которые,
оставив свои дома и имущество, были ограблены озлобленными врагами в ходе
своего страшного переселения и прибыли совершенно нищими в незнакомую страну,
где им приходилось начинать жизнь с нуля. Еще хуже оказалась ситуация на одном
участке границы между Индией и Пакистаном, где началась необъявленная война за
обладание Кашмиром. Однако к 1952 г. индийскими государственными деятелями –
как в Дели, так и в Карачи, – были предприняты эффективные усилия по спасению
Индии от страшной судьбы Оттоманской империи. Таким образом, ко времени
написания данной книги перспективы Индии с текущей политической точки зрения в
целом были обнадеживающими. И если воздействие современного Запада все еще
угрожает индусскому миру серьезными опасностями, то их нужно искать не столько
на политической поверхности жизни, сколько в экономической подпочве и в
духовных глубинах, и, возможно, потребуется некоторое время, чтобы они назрели.
Индусскому миру следует бояться двух очевидных опасностей
вестернизации. Во‑первых, индусская и западная цивилизации едва ли имеют общие
культурные корни. А во‑вторых, индусы, которые овладели интеллектуальным
содержанием экзотической культуры современного Запада, составляют
незначительное меньшинство, сидящее на спинах огромной массы невежественных и
разоренных крестьян. Нет причины предполагать, что процесс проникновения
западной культуры остановится на этом уровне. Имеется гораздо больше причин
прогнозировать, что когда это влияние начнет распространяться вниз, на
крестьянские массы, то оно начнет также производить в них новые, революционные
последствия.
Культурная пропасть между индусским обществом и современным
Западом состоит не просто в их несходстве. Они прямо противоречат друг другу,
поскольку современный Запад выработал секулярную версию своего культурного
наследия, из которого религия была исключена, в то время как индусское общество
было и осталось насквозь религиозным – настолько, насколько оно открыто для
предписаний «религиозности», если, как подразумевает это уничижительное слово,
действительно может существовать такая вещь, как чрезмерная концентрация на
самых важных поисках человека. Эта противоположность между страстно религиозным
и осмотрительно светским взглядом на жизнь глубже, чем любое различие между
одной религией и другой. В этом пункте индусская, исламская и средневековая
западно‑христианская культуры находятся между собой в гораздо большем согласии,
чем любая из них с секулярнои культурой современного Запада. В силу этой общей
религиозности индус может обратиться в ислам и в католичество, не подвергая
себя невыносимому духовному напряжению, доказательством чему служат мусульмане
Восточной Бенгалии и католики Гоа.
Эта доказанная способность индусов становиться на чужую
культурную почву благодаря религиозному подходу знаменательна. Но если
религиозность была главной отличительной чертой их цивилизации, то еще одной
самой значительной ее чертой было равнодушие. Это равнодушие, несомненно,
преодолели в интеллектуальном отделении своей духовной жизни те индусы, которые
получили светское западное образование и тем самым стали способны играть роль в
реконструкции политической и экономической сторон индийской жизни на
современной западной основе. Однако рекруты этой несчастной интеллигенции
выполняли свои полезные услуги ценой раскола в своих душах. Эта индусская
интеллигенция, порожденная Британской империей, осталась равнодушной в своем
сердце к тем западным путям, с которыми ознакомились их умы. И это разногласие
порождало глубокое душевное недомогание, которое нельзя было исцелить при
помощи политической панацеи достижения независимости для индийского
национального государства, организованного по западной модели.
Упорное духовное равнодушие получивших западное образование
индусских умов было под стать обострившемуся духовному равнодушию в душах
европейских правителей, с которыми индусской интеллигенции пришлось иметь дело
при Британской империи. Между 1786 г., когда Корнвалис[535] вступил в должность генерал‑губернатора с
наказом реформировать управление, и 1858 г., который явился свидетелем
завершения перехода британской политической власти от Ост‑Индской компании к
короне, произошло глубокая и в целом неблагоприятная перемена в отношении
британского правящего класса в Индии к его индусским подданным.
В XVIII в. англичане в Индии следовали обычаям этой страны,
не исключая обычая злоупотребления властью, и состояли в отношениях личного
общения с индийцами, которых они обманывали и угнетали. В ходе XIX столетия они
достигли заметного нравственного оживления. Над опьянением от неожиданно
приобретенной власти, которое легло позорным пятном на первое поколение
английских правителей в Бенгалии, взял верх новый идеал нравственной честности,
которая требовала от английского чиновника в Индии относиться к своей власти
как к общественному долгу, а не как к личной благоприятной возможности. Однако
нравственное искупление британской администрации сопровождалось сокращением
личных связей между английскими жителями Индии и их индийскими соседями. Это
продолжалось до тех пор, пока все слишком по‑человечески относившиеся к
индийцам английские «набобы»[536] недоброго старого времени не превратились в
профессионально безупречных и лично недоступных британских чиновников,
попрощавшихся в 1947 г. с Индией, которой посвятили свою трудовую жизнь и
которая так и не стала для них родиной.
Почему случилось так, что бывшие непринужденные личные
отношения прекратились столь неудачно в век, когда утрата их благотворного
влияния могла оказаться менее всего позволительной? Несомненно, эта перемена
была вызвана множеством причин. В первую очередь, новейший британский чиновник
на индийской службе мог бы справедливо оправдать себя тем, что его равнодушие
явилось неизбежной ценой за нравственную честность в исполнении своих
обязанностей. Как можно ожидать от человека, что он будет действовать
профессионально как бог, не сохраняя при этом божественного равнодушия в своих
социальных связях? Другой, менее достойной уважения причиной данной перемены,
возможно, была гордость, вызванная завоеванием. К 1849 г., а возможно, даже к
1803‑му, военная и политическая мощь британцев в Индии сильно возросла в
сравнении с XVIII столетием. Действие двух этих причин подробно разобрал живший
в XX в. английский исследователь истории индийско‑британских общественных и
культурных связей.
«По мере того как [XVIII] столетие подходило к концу, в
социальной атмосфере происходила постепенная перемена. Частота… “взаимных
приемов” падала, образование близких дружеских отношений с индийцами
сокращалось… Высшие посты в правительстве занимались назначенными из Англии
людьми. Замыслы Англии становились все более имперскими, а ее отношение – более
надменным и равнодушным. Пропасть между мусульманскими навабами[537] и английскими bon viveurs[538],
дипломатичными браминами и английскими учеными, которая на какое‑то время была
преодолена, начала снова угрожающе расширяться… Формировался “комплекс
превосходства”, который рассматривал Индию не просто как страну, чьи институты
были дурными, а люди – испорченными, но как такую страну, которая по самой
своей сути неспособна когда‑либо стать лучше…
Одним из парадоксов индийско‑европейских отношений в Индии
явилось то, что нравственное очищение администрации совпало с расширением
расовой пропасти… Время развращенных чиновников [Ост‑Индской компании, дурно
нажитых состояний, угнетения индийских крестьян, женщин и незаконных половых
связей было также временем, когда англичане интересовались индийской культурой,
писали персидские стихи и встречались с учеными браминами, муллами и навабами
на правах социального равенства и личной дружбы. Трагедия Корнвалиса… состояла
в том, что, искореняя признанное зло коррупции, он разрушил социальное
равновесие, без которого взаимопонимание было невозможно… Корнвалис… создал
новый правящий класс, сняв всех индийцев с высших правительственных постов.
Коррупция была уничтожена за счет уничтожения равенства и взаимодействия. В его
сознании, как и в повсеместно распространенном мнении, существовала необходимая
связь между двумя этими мерами. “Я глубоко уверен, – сказал он, – что каждый
коренной житель Индостана продажен”… Он думал, что вопрос об английской
коррупции можно разрешить за счет разумного жалования и не переставал
утверждать, что преимущество индийской доброй воли сделает, по крайней мере,
достойной его попытку в качестве средства для исцеления также и от индийской
коррупции. Он никогда не думал создавать индийскую имперскую бюрократию по
модели мансабдаров[539] Акбара, которые благодаря специальному
обучению, надлежащему жалованию, отношению на равных, поощрению и почестям
могли бы быть привязаны к [Ост‑Индской] компании так же, как могольские
чиновники были привязаны к императору»{133}.
Третьей причиной отчуждения явилось более быстрое сообщение
между Индией и Англией, которое сделало Индию доступной для британцев, свободно
путешествующих взад и вперед и в психологическом плане ощущающих своей родиной
английскую почву. Однако, возможно, существовала и четвертая причина, более
важная, чем все остальные. И англичанин в Индии был ее жертвой, а не
виновником. Индиец, который возмущался равнодушием новейших английских жителей,
мог бы быть снисходительнее к присвоившим чужие права, если бы вспомнил о том,
что еще 300 лет назад, до прибытия англичан в Индию, субконтинент нес на себе бремя
института кастовой системы, что индусское общество усугубляло то зло, которое
унаследовало от своего индского предшественника, и что после ухода англичан,
как и до их прихода, народ Индии все еще страдает от социального зла,
созданного им самим. Если равнодушие, которое англичане развивали в течение 150
лет своего правления, рассматривать в долгой перспективе индийской истории, то
можно поставить ему диагноз как слабому приступу эндемического индийского
заболевания.
Хотя от досадного воздействия новейшего английского
равнодушия можно было бы освободиться после прекращения существования
Британской империи, благотворное влияние британского управления на положение и
ожидания индийских крестьян явилось тем наследием, которое могло оказаться
жерновом на шеях индусских наследников британских чиновников.
При Pax Britannica природные ресурсы субконтинента
пополнялись различными путями: за счет строительства железных дорог, за счет
ирригации, а прежде всего за счет квалифицированной и добросовестной
администрации. Ко времени ухода своих английских правителей индийские крестьяне
стали, возможно, достаточно чуткими к материальным достижениям современной
западной технологии и политическим идеалам современной западной демократии,
чтобы начать сомневаться в справедливости и необходимости своем наследственной
бедности. Однако в то же самое время индийские крестьяне, начавшие грезить
этими грезами, делали все самое худшее, чтобы воспрепятствовать их реализации,
продолжая непомерно размножаться. Результатом явилось то, что добавка к
пищевому снабжению Индии, производимая британскими предприятиями, привела не к
улучшению личного благосостояния крестьян, а к их численному росту.
Население неразделенной Индии выросло с 206 млн. человек в
1872 г. до 338 119 154 человек в 1931 г. и до 388 997 955 человек в 1941 г., и
этот поток все возрастает. Как управятся индусские наследники британцев с тем
политическим наследием, которому они позволили безгранично расшириться по
причине некомпетентности в управлении, взятом ими на себя?
Традиционными средствами от перенаселенности были голод,
эпидемии, гражданские беспорядки и война, в результате которых население снова
уменьшалось до той цифры, при которой оставшиеся в живых могли бы опять
оказаться способными вести традиционный образ жизни на обычном низком уровне.
Махатма Ганди в своих целеустремленных поисках независимости для Индии завещал
ей такой же мальтузианский конец, не желая необходимых варварских средств. Он
предсказал, что чисто политическая независимость может оказаться иллюзорной эмансипацией,
если Индия будет оставаться запутанной в экономических сетях
вестернизированного мира. Он безошибочно подрубал технологический корень этого
экономического баньянового дерева, запуская в ход кампанию по отказу от
сотканных на машинах хлопковых товаров. Полный провал его кампании явился
доказательством того, что к этому времени Индия оказалась полностью запутанной
с экономической жизнью вестернизированного мира.
Когда проблема перенаселенности Индии достигнет своей
критической точки, которую даже политики не смогут игнорировать, индусские
государственные деятели, ответственные за управление Индией, окажутся вынуждены
в нравственной атмосфере вестернизированного мира стремиться найти, скорее,
человеческое, нежели гандиевско‑мальтузианское решение. Если политика,
проводимая такими западно‑мыслящими индусскими государственными деятелями,
потерпит неудачу, то весьма вероятно, что альтернативная русская панацея может
проложить себе дорогу к индийской национальной ситуации. Ведь коммунистическая
Россия, подобно вестернизированной Индии, унаследовала проблему угнетенного
крестьянства от своего культурного прошлого, но в отличие от Индии она уже дала
ответ на этот вызов на своих собственных условиях. Эти коммунистические условия
могли бы оказаться слишком жестокими и слишком революционными как для
индийского крестьянства, так и для индийской интеллигенции, чтобы они с жаром
последовали за ними. Однако в качестве альтернативы еще более мрачной судьбы –
депопуляции по старому сценарию – существует возможность того, что в недоброе
время коммунистическая программа сможет проложить себе путь в правительство
современной Индии.
* * *
iv) Современный Запад и исламский мир
В начале современной главы западной истории два сестринских
исламских общества, стоящих спиною друг к другу, заградили все сухопутные
подступы западного и русского обществ к другим частям Старого Света. Арабо‑мусульманская
цивилизация в конце XV в. все еще удерживала атлантическое побережье Африки от
Гибралтарского пролива до Сенегала. Западно‑христианский мир был тем самым
отрезан от внутренних районов Тропической Африки. В то же время волны арабского
влияния обрушивались на «черный континент» не только вдоль его северной границы
в Судане через Сахару, но также и вдоль его восточной границы – «суахильской»[540] – через Индийский океан. Этот океан в
действительности стал арабским озером, в которое венецианские торговые партнеры
египетских посредников не имели доступа, в то время как арабский флот не только
курсировал вдоль всего африканского побережья от Суэца до Софалы, но также и
проложил свой путь в Индонезию, завоевав этот архипелаг у индуизма для ислама,
и продвинулся в восточном направлении, основав свой аванпост в западной части
Тихого океана и обратив в ислам язычников‑малайцев, населявших Южные Филиппины.
В то же время ирано‑мусульманская цивилизация занимала,
казалось бы, еще более сильную стратегическую позицию. Основатели Османской
империи заняли Константинополь, Морею, Караман и Трапезунд. Они превратили
Черное море в оттоманское озеро путем захвата генуэзских колоний в Крыму.
Другие тюркоязычные мусульманские народы расширили владения ислама от Черного
моря до среднего течения Волги. По ту сторону этого западного фронта иранский
мир расширил свои границы в юго‑восточном направлении до северо‑западных китайских
провинций Кансю и Шенси и через Иран и Индостан до Бенгалии и Декана[541].
Эта огромная исламская дорожная застава была вызовом,
который породил соответствующий энергичный ответ со стороны первопроходцев двух
оказавшихся в блокаде христианских обществ.
В западно‑христианском мире народы атлантического побережья
изобрели в XV в. новый тип океанского парусного судна, трехмачтового, с прямым
парусным вооружением, с первым латинским и последним косым парусами, которое
могло находиться в море месяцами, не заходя в порт. На таких кораблях
португальским морякам, которые предприняли свой испытательный пробег в
глубоководной навигации, открыв остров Мадейру около 1420 г. и Азорские острова
в 1432 г., удалось обойти с фланга арабский морской фронт в Атлантическом
океане, обогнув острова Зеленого Мыса в 1445 г., достигнув экватора в 1471 г.,
обогнув мыс Доброй Надежды в 1487‑1488 гг., высадившись в Калькутте на западном
побережье Индии в 1498 г., овладев Малаккским проливом в 1511 г. и выйдя в
Тихий океан, чтобы поднять свой флаг в Кантоне в 1516 г. и на побережье Японии
в 1542‑1543 гг. В мгновение ока португальцы вырвали из рук арабов
«талассократию» в Индийском океане.
В то время как продвигавшиеся на восток португальские
первопроходцы в своем неожиданном расширении морских границ западного мира
обходили таким образом с фланга арабо‑мусульманский мир на юге, продвигавшиеся
на восток на речных лодках казаки столь же неожиданно и стремительно расширяли
границы русского мира, обходя с флангов ирано‑мусульманский мир на севере. Путь
для них был открыт московским царем Иваном IV, когда он завоевал Казань в 1552
г. Казань была северо‑восточным бастионом ирано‑мусульманского мира, и после ее
падения не оставалось никаких препятствий, кроме леса и мороза, ставших уже
привычными союзниками кочующих казаков, которые бы могли помешать этим
первопроходцам русского православно‑христианского мира в их переходе через Урал
и дальнейшему продвижению на восток вдоль сибирских водных путей, пока они не
были остановлены, дойдя в 1638 г. до Тихого океана и 24 марта 1652 г. до северо‑восточных
границ Маньчжурской империи.
Достигнув этих новых границ, расширяющийся русский мир
обошел с фланга не только иранский мир, но и всю Евразийскую степь.
Таким образом, менее чем за столетие исламский мир, в
котором объединились иранское и арабское общества, не только был обойден с
флангов, но и полностью окружен. К рубежу XVI‑XVII столетий петля оказалась на
шее жертвы. Однако неожиданность, с которой исламский мир потенциально был
схвачен мертвой хваткой, была не столь чрезвычайной, сколь продолжительность во
времени, которое истекло, прежде чем одна или другая сторона смогла достаточно
ясно понять эту ситуацию, чтобы начать действовать – западная и русская стороны
наброситься на казавшуюся беспомощной добычу, а исламская сторона – выходить из
казавшегося безнадежным положения. В 1952 г. исламский мир был, по сути,
нетронутым, лишившись лишь нескольких отдаленных провинций. Центральное ядро –
от Египта до Афганистана и от Турции до Йемена – было свободно от иностранного
политического правления или хотя бы контроля. К этому времени Египет, Иордания,
Ливан, Сирия и Ирак вновь появились со дна потока британского и французского
империализма, затопившего их последовательно в 1882 г. и в ходе Первой мировой
войны 1914‑1918 гг., и опасность исходила теперь не от западных держав, но со
стороны сионистов, оказавшихся в самом сердце арабского мира.
Ключ к пониманию подхода мусульманских народов к «западному
вопросу» можно найти в трех обстоятельствах. Ко времени, когда влияние
современной западной культуры стало главенствующей проблемой их жизни,
мусульманские народы, подобно русским и в отличие от оттоманских православных
христиан в соответствующие моменты их истории, в политическом отношении были
своими собственными господами. Они явились также наследниками великой военной
традиции, которая была гарантией ценности исламской цивилизации в глазах ее собственных
детей. И неожиданное обнаружение их нынешнего упадка в военной области по
непреложной логике военного поражения оказалось для них столь же неожиданным,
сколь и унизительным.
Самодовольство мусульман своим историческим военным
героизмом было настолько глубоко укоренившимся, что урок, вытекавший из их
военного поражения у стен Вены в 1683 г., еще не произвел заметного влияния на
них, когда примерно столетие спустя этот урок попытались внедрять в сознание.
Когда после начала войны между Оттоманской империей и Россией в 1768 г.[542] туркам говорили, что русские собираются
задействовать против них флот, построенный на Балтике, они упрямо отказывались
верить в то, что существует путь, соединяющий Балтийское море и Средиземное,
пока этот флот действительно не прибыл. Точно так же 30 лет спустя, когда
мамлюкского военачальника Мурад‑бея предупреждали венецианские торговцы, что
захват Наполеоном Мальты может явиться прелюдией к внезапному нападению на
Египет, тот лишь рассмеялся над абсурдностью этой идеи[543].
В оттоманском мире на рубеже XVII‑XIX вв., так же как в
русском мире веком раньше, последствием поражения, нанесенного современной
западной военной машиной, стало движение вестернизации сверху, начавшееся с
преобразования вооруженных сил. Однако был один основной пункт, в котором
оттоманская и петровская политики существенно расходились. Петр Великий
предсказывал с проницательностью гения, что политика вестернизации должна быть
«всем или ничем». Он понимал, что для успеха этой политики он должен проводить
ее не только в военной, но и во всех других сферах жизни. И хотя, как мы видим,
петровскому режиму в России никогда не удалось в процессе вестернизации выйти
за рамки городской надстройки и в конце концов расплатиться за свою
неспособность повлиять на сельские массы, лишившись мандата в пользу
коммунизма, окончательная приостановка петровского культурного наступления, не
достигшего полного осуществления своих задач, была вызвана не столько
недостаточностью видения своей роли, сколько недостатком необходимой мощности
русской административной системы. С другой стороны, в Турции в течение полутора
столетий, истекших с начала Русско‑турецкой войны в 1768 г. до окончания Первой
мировой войны в 1918 г., не расположенные к политике вестернизации оттоманские
силы, несмотря на ряд последовательных мучительных выявлений их ошибок,
продолжали держаться той иллюзии, что в принятии элементов чуждой культуры
возможно выбирать. Можно вынести один убийственный вердикт всем тем
последовательным дозам вестернизации, которые османы назначали самим себе,
делая кислую мину, в ходе данного периода: «Каждый раз слишком мало и слишком
поздно». Вплоть до 1919 г. Мустафа Кемаль и его соратники не решались запускать
в ход открыто, по петровскому образцу, политику откровенной вестернизации.
Вестернизированное турецкое национальное государство,
созданное Мустафой Кемалем, ко времени написания этой книги выглядело вполне
успешным достижением. Тем не менее, ничего подобного пока не было создано в
других частях исламского мира. Вестернизация Египта, проводившаяся во второй
четверти XIX в. албанским авантюристом Мухаммедом Али, хотя и была гораздо
более полной, чем все попытки и достижения турецких султанов в то же самое
столетие, окончилась неудачей при его наследниках и оказалась в конце концов
западно‑исламским гибридом, включающим в себя все худшие черты как исходной,
так и заимствованной цивилизации. Попытка Амануллы‑хана Афганского подражать
Мустафе Кемалю на еще более неподатливой почве своего полуварварского
королевства была экспериментом, который можно рассматривать – в зависимости от
желания – как трагедию или как комедию, но который в любом случае не мог
избежать неудачи.
В мире, каким он видится в середине XX столетия христианской
эры, успех или неудача таких местных экспериментов, как эксперимент Амануллы‑хана,
не может решить будущее исламского мира. В ближайшем будущем, по крайней мере,
перспективы исламского мира будут зависеть от исхода испытания силы между
западным и русским мирами, окружившими исламский мир. С изобретением двигателя
внутреннего сгорания для этих борющихся сторон значение исламского мира
увеличивается – одновременно в качестве источника основных нефтепродуктов и в
качестве канала ключевых коммуникаций.
Исламский мир охватывает родину трех из четырех цивилизаций
первого поколения в Старом Свете. Те сельскохозяйственные богатства, которые
эти ныне исчезнувшие общества некогда вырывали у труднообрабатываемых долин
Нила, Тиграевфрата и Инда, увеличились в Египте и Пенджабе, а частично
восстановились и в Ираке при помощи применения современных западных методов
водного контроля. Однако главное добавление к хозяйственным ресурсам исламского
мира было сделано благодаря открытию и использованию подземных месторождений
нефти в регионах, которые никогда не представляли сколько‑нибудь значительной
ценности для сельского хозяйства. Естественные нефтяные скважины, из которых в
доисламскую эпоху извлекало религиозную пользу зороастрийское благочестие,
сохраняя зажженным вечный огонь в честь святости Огня, были отмечены в 1723 г.
зорким глазом шпиона Петра Великого в качестве потенциального экономического
капитала. И хотя около 150 лет еще должно было пройти, прежде чем гениальная
интуиция нашла подтверждение в коммерческой эксплуатации бакинских нефтяных
месторождений, новые открытия, стремительно последовавшие одно за другим,
впоследствии показали, что Баку был лишь одним звеном в золотой цепи,
протянувшейся в юго‑восточном направлении через иракский Курдистан и персидский
Бахтияристан в некогда считавшиеся бесполезными территории на Аравийском
полуострове. Результаты последующей борьбы за нефть порождали напряженную
политическую ситуацию, поскольку российская часть пирога на Кавказе и части западных
держав в Персии и арабских странах находились в непосредственной близости друг
от друга.
Эта напряженность возрастала из‑за восстановления важности
исламского мира в качестве узла экуменических связей. Кратчайшие пути между
Россией и атлантическими странами западного мира, с одной стороны, и Индией,
Юго‑Восточной Азией, Китаем и Японией – с другой, проходят по исламской земле,
воде и воздуху. И на карте путей сообщения, так же как и на карте нефтяных
месторождений, Советский Союз и Запад находятся в опасной близости друг к
другу.
* * *
v) Современный Запад и евреи
Какой бы окончательный приговор ни был вынесен человечеством
западной цивилизации в современной главе ее истории, очевидно, что современный
западный человек запятнал себя совершением двух несмываемых преступлений. Одним
преступлением был вывоз из Африки негров, которых на кораблях перевозили в
Новый Свет, чтобы они там работали на плантациях. Другим преступлением было
истребление еврейской диаспоры на ее европейской родине. Трагический исход
столкновения между западным миром и еврейством явился следствием взаимодействия
«первородного греха» и особого стечения социальных обстоятельств. Нашей задачей
является разъяснение последнего.
Еврейство в той форме, в какой оно столкнулось с западно‑христианским
миром, было исключительным социальным явлением. Оно представляло собой
окаменевший реликт цивилизации, которая исчезла во всех других своих формах.
Сирийское местное государство Иудея, из которого происходят евреи, было одним
из множества древнееврейских, финикийских, арамейских и филистимских общин.
Однако если сестринские общины Иудеи утратили свою идентичность, равно как и
государственность, в результате оказавшегося фатальным поражения, нанесенного
сирийскому обществу последовательными столкновениями с его вавилонскими и
эллинскими соседями, то те же самые вызовы стимулировали евреев на создание для
себя новой формы совместного существования, в которой они сумели пережить
потерю своего государства и своей страны, сохранив свою идентичность в качестве
диаспоры (рассеяния) среди чуждого большинства и при чуждом правлении. Эта
исключительно успешная еврейская реакция не была, тем не менее, уникальной,
поскольку еврейская диаспора в исламском и христианском мирах имела
исторические прецеденты в диаспоре парсов в Индии, которые представляют собой
другой окаменевший реликт того же самого сирийского общества.
Парсы – это оставшиеся в живых иранские новообращенные
сирийской цивилизации, которые создали для этого общества универсальное
государство в виде империи Ахеменидов. Община парсов, подобно еврейской, стала
памятником победоносной воли пережить потерю государства и страны. Парсы
аналогичным образом пережили эту потерю в результате ряда столкновений между
сирийским миром и соседними обществами. Подобно евреям на протяжении трех
столетий, предшествовавших 135 г., зороастрийские предки парсов принесли себя в
жертву в безуспешной попытке сбросить навязанный им эллинизм. Наказание за
неудачу, какое понесли евреи со стороны Римской империи, зороастрийские иранцы
понесли в VII в. христианской эры со стороны примитивных арабо‑мусульманских
захватчиков. В этих сходных критических моментах своей истории евреи и парсы
сохранили свою идентичность, наскоро устроив новые институты и сосредоточившись
на новой деятельности. В развитии своего религиозного закона они нашли новый
социальный цемент и пережили гибельные последствия отрыва от отеческой земли,
развив в изгнании особое умение в торговле и в другой городской деятельности
вместо земледелия, которым эти безземельные изгнанники уже более не могли
заниматься.
Эти еврейские и парсские диаспоры были не единственными
окаменелостями, которые угасшее сирийское общество оставило после себя.
Антиэллинские христианские ереси периода между возникновением христианства и
возникновением ислама породили «окаменелости» в виде несторианской и
монофизитской церквей. Сирийское общество не было и единственным обществом,
общинам которого, утратившим свою государственность и оторванным от своей
почвы, удалось сохраниться благодаря соединению церковной дисциплины и деловой
предприимчивости. При чуждом оттоманском режиме покоренная греческая
православно‑христианская община частично была оторвана от своей почвы и
отреагировала изменениями в своей социальной организации и экономической деятельности,
которые увели ее далеко по пути превращения в диаспору того же типа, какой мы
уже упоминали.
В самом деле, система millet в Оттоманской империи
была просто организованной разновидностью общинной структуры общества, которое
неожиданно возникло в сирийском мире после того, как сирийская государственная
система была разрушена, а сирийские народы совершенно перемешались в результате
нападений ассирийского милитаризма. Последующее разделение общества на сеть
географически перемешанных общин вместо лоскутного одеяла географически
отделенных друг от друга местных государств унаследовали от сирийского общества
его иранские и арабо‑мусульманские наследники, а впоследствии это же разделение
было навязано поверженному православно‑христианскому миру османскими ирано‑мусульманскими
строителями империи.
В этой исторической перспективе становится очевидным, что
еврейская диаспора, столкнувшаяся с западно‑христианским миром, была далеко не
уникальным социальным явлением. Наоборот, это был экземпляр того типа общин,
которые стали обычными во всем исламском мире, в котором, так же как и в
западно‑христианском мире, распространилась еврейская диаспора. Так что вполне
можно задаться вопросом: а не окажется ли, что особый социальный фон
трагического столкновения между еврейством и западным христианством состоял в
особенностях западной стороны, по крайней мере, не в меньшей степени, чем и в
особенностях еврейской стороны? Когда же мы зададимся этим вопросом, то увидим,
что развитие западной истории было действительно особым в трех аспектах,
которые касаются истории еврейско‑западных отношений. Во‑первых, западное
общество разделилось на лоскутное одеяло географически отделенных друг от друга
государств. Во‑вторых, оно постепенно превратилось из ультрааграрного общества
крестьян и помещиков в ультраурбанизированное общество ремесленников и буржуа.
В‑третьих, это националистически и буржуазно мыслящее новоевропейское общество
возникло из относительного мрака своей средневековой главы и быстро затмило
весь остальной мир.
Внутренняя связь между антисемитизмом и западно‑христианским
идеалом однородного общества, охватывающего всех жителей отдельной территории,
обнаруживается в истории еврейской диаспоры на Иберийском полуострове.
Как только пропасть между римскими и вестготскими общинами
была преодолена благодаря обращению последних из арианства в православие в 587
г., в Вестготии начало возникать напряжение между объединившейся христианской
общиной и ставшими впоследствии более заметными приверженцами иудаизма.
Усиление этого напряжения запечатлено в ряде антииудейских законов, которые
неприятно контрастируют с одновременно возраставшей гуманностью вестготского
законодательства по поводу защиты рабов от своих хозяев. Как нравственно
восходящий, так и нравственно нисходящий ряд законов являются свидетельствами
влияния Церкви на государство. В этих обстоятельствах евреи в конечном счете
сговорились со своими единоверцами из Северной Африки и подготовили вторжение
мусульман‑арабов. Несомненно, арабы могли прийти и без этого приглашения. Но
как бы то ни было, они пришли, и результатом явилось 500‑летнее мусульманское
правление (с 711 по 1212 г.), при котором автономная еврейская диаспора не была
«избранным народом».
Социальным последствием арабского завоевания Иберийского
полуострова явилось то, что еврейская община снова там обжилась благодаря
восстановлению горизонтально расчлененной структуры общества, которую
завоеватели принесли с собой из сирийского мира. Однако благосостояние
еврейской диаспоры на полуострове не пережило гибели мусульманской державы,
поскольку средневековые католические варвары‑завоеватели владений Андалусского
халифата Омейядов были преданы идеалу однородного христианского общества, и
между 1391 и 1497 гг. евреи были вынуждены или отправиться в изгнание, или
обратиться в христианство.
Идеал однородности общества, который явился политическим
мотивом особой негостеприимности западно‑христианского мира по отношению к
еврейским чужакам в своей среде, с течением времени усиливался за счет
экономического и социального развития.
Местом рождения западного общества был удаленный участок
эллинского мира, где городской культуре эллинизма не удалось пустить свои
корни. Надстройка городской жизни, воздвигнутая в западных провинциях Римской
империи на примитивном сельском фундаменте, оказалась тяжелым грузом, вместо
того чтобы стать стимулом. После того как эта экзотическая надстройка,
построенная римлянами, развалилась под своим собственным весом, Запад опять
вернулся к тому же самому низкому экономическому уровню, на котором находился
до попытки эллинизма посеять свои семена по ту сторону Апеннин или по ту
сторону Тирренского моря. Это необычное экономическое затруднение имело два
последствия. В первую очередь, западно‑христианский мир был завоеван еврейской
диаспорой, которая воспользовалась благоприятной возможностью для добывания
жизненных средств на Западе, предоставляя деревенскому обществу тот минимум
торгового опыта и организации, без которого Руритания[544] не смогла бы жить, но который она пока еще не
могла обеспечить за счет собственных ресурсов. Во вторую очередь, западно‑христианские
неевреи стали вдохновляться стремлением самим стать как евреи, овладев
прибыльными еврейскими искусствами.
По прошествии веков все более демоническая концентрация силы
воли жителей Запада на этой еврейской экономической цели начала приносить
поразительные плоды. К XX в. христианской эры даже восточный арьергард колонны
народов Запада в своем долгом марше на пути к цели экономической эффективности
проходили через такие метаморфозы, какие тысячелетие назад миновали северо‑итальянские
и фламандские первопроходцы движения, которое с одинаковым успехом может быть
названо и модернизацией, и «иудаизацией». В западной истории признаком
достижения этой социальной современности было появление класса «Антонио»[545],
представители которого были способны сами делать всю работу Шейлока, а
впоследствии стремились изгнать его.
Эта экономическая вражда между евреями и жителями Запада
состояла из трех актов. В первом акте евреи были настолько же непопулярны,
насколько необходимы, но дурное отношение, которому они подвергались,
сохранялось в определенных рамках благодаря неспособности их преследователей‑неевреев
экономически развиваться без них. Второй акт начинался в одной западной стране
за другой, как только нарождающаяся нееврейская буржуазия приобретала
достаточное количество собственного опыта, умения и капитала, чтобы
почувствовать себя способной занять место евреев. На этой стадии, которой
Англия достигла в XIII в., Испания – в XV в., а Польша и Венгрия – в XX в.
христианской эры, нееврейская буржуазия использовала свою новоприобретенную
силу для того, чтобы изгнать своих еврейских конкурентов. В третьем акте твердо
теперь вставшая на ноги нееврейская буржуазия стала настолько непревзойденным
мастером в еврейских экономических искусствах, что ее традиционный страх стать
жертвой соревнования с евреями больше не заставлял ее отказываться от
экономических выгод, связанных с новым привлечением еврейской способности на
службу своей нееврейской национальной экономики. В этом духе тосканское
правительство позволило тайно исповедовавшим иудаизм беженцам из Испании и
Португалии селиться в Ливорно начиная с 1593 г. Голландия открыла свои двери
для них уже в 1579 г. А Англия, почувствовавшая себя достаточно сильной, чтобы
изгнать своих евреев в 1290 г., в 1655 г. почувствовала себя достаточно
сильной, чтобы впустить их снова.
За этим экономическим освобождением евреев в Новое время
западной истории последовало социальное и политическое освобождение, которое
явилось следствием современных религиозных и идеологических революций в западно‑христианском
мире. Протестантская Реформация прорвала враждебный фронт объединенной
католической Церкви, и в XVII в. Англия и Голландия принимали евреев‑беженцев в
качестве жертв римско‑католических врагов этих протестантских стран.
Впоследствии евреи вообще воспользовались благами роста терпимости как в
католических, так и в протестантских странах. К 1914 г. официальная эмансипация
евреев во всех сферах человеческой деятельности уже давным‑давно стала
свершившимся фактом во всех областях современного западного мира, кроме тех
территорий уже не существовавшего к этому времени объединенного королевства
Польши и Литвы, которые были присоединены к Российской империи[546]. На этом
этапе можно было бы подумать, что еврейская проблема получила решение в слиянии
еврейских и христианских общин друг с другом в результате союза, который был
добровольным с обеих сторон. Однако подобные надежды не оправдались. То, что
казалось похожим на драму в трех актах со счастливым концом, вскоре вступило в
свой четвертый акт, который был еще более ужасающим, чем любой из
предшествующих. Почему же произошел сбой?
Одной из причин поражения было сохранение психологического
барьера между жителями Запада и евреями после того, как юридические барьеры
между ними официально были устранены. Все еще сохранялось невидимое гетто, в
котором жители Запада продолжали держать евреев взаперти, а евреи, в свою
очередь, продолжали отделять себя от жителей Запада. Внутри официально единого
общества евреи различными трудноуловимыми способами все еще оказывались людьми
исключенными, тогда как жителям Запада все еще приходилось сталкиваться с
франкмасонством среди евреев, которые, не желая реального единства, нетерпеливо
требовали выгод, которыми должны пользоваться все без различия члены единого
общества. Обе партии продолжали проявлять двойной стандарт в поведении: более
высокий стандарт по отношению к членам собственной тайной общины и более низкий
– по отношению к номинальным согражданам, находившимся по ту сторону уже не
существовавшей, по общему мнению, социальной черты оседлости. И этот новый
покров лицемерия, под которым сохранился старый грех несправедливости, делал и
ту и другую сторону более презираемыми, равно как и менее грозными, в глазах
противоположной партии и тем самым приводил к тому, что ситуация становилась
более невыносимой и в то же время менее тягостной для обеих сторон.
Ненадежность в отношениях между двумя общинами обнаружилась
в новой вспышке антисемитизма в тех местах, где имел место заметный прирост
числа евреев по отношению к нееврейской составной части местного населения. Эта
тенденция стала заметна к 1914 г. в Лондоне и Нью‑Йорке в результате еврейской
иммиграции с бывших польско‑литовских территорий Российской империи, начавшейся
с 1881 г. под давлением гонений со стороны русских. После 1918 г. эта тенденция
стала угрожающей в немецкой Австрии и в Германском Рейхе в результате
дальнейшей еврейской иммиграции из Галиции, «Королевства Польского»[547] и восточных областей «черты оседлости» во
время Первой мировой войны. Этот немецкий антисемитизм был далеко не последней
силой, приведшей национал‑социалистов к власти. О последовавшем «геноциде»
евреев, осуществлявшемся немецкими национал‑социалистами, здесь нет нужды
распространяться. Факты настолько общеизвестны, насколько отталкивающи, и
выражают проявление злобности в национальном масштабе, которая, вероятно, не
имеет аналога в новейшей истории.
Современный западный национализм атаковал еврейскую диаспору
в западном мире одновременно с двух флангов. Благодаря своей привлекательности
и в то же самое время своему давлению он приводил западных евреев к тому, что
они создали свой собственный национализм, который можно описать как коллективную
форму вестернизации в противоположность индивидуальной форме вестернизации,
связанную для евреев с предшествующей эпохой либерализма XIX в. Подобно
вестернизаторскому идеалу превращения отдельного еврея в западного буржуа,
придерживающегося иудейской религии, альтернативный идеал концентрации
еврейской диаспоры или ее части в форме местного национального государства
исключительно с однородным еврейским населением стал свидетельством того, что
произошла достаточно реальная эмансипация западного еврейства, чтобы оно
оказалось под влиянием текущих западных идеалов. В то же время сионизм, по
утверждению самого его основателя Теодора Герцля[548], был
свидетельством боязни, как бы путь индивидуальной ассимиляции не оказался
закрытым для них снова из‑за национализма, который среди жителей Запада теперь
быстро следовал по пятам либерализма. Возможно, далеко не случайно еврейский
сионизм и немецкий антисемитизм возникли в одной и той же географической зоне,
а именно на германо‑язычных территориях Австрийской империи до 1918 г.
Из всех фактов, произошедших по мрачной иронии истории, ни
один не бросает более зловещий свет на человеческую природу, чем тот факт, что
новоиспеченные еврейские националисты по окончании самых страшных
преследований, которым только подвергался их род, сразу же начали за счет
палестинских арабов (чей единственный проступок против евреев состоял в том,
что Палестина была родиной их предков) демонстрировать урок, вынесенный
сионистами из страданий, которым они подверглись со стороны нацистов. Этот урок
заключался не в том, чтобы воздержаться от преступления, жертвой которого сами
они стали, но в том, чтобы преследовать, в свою очередь, народ еще более
слабый, чем они. Израильские евреи не последовали по стопам нацистов до такой
степени, чтобы уничтожать палестинских арабов в концентрационных лагерях и
газовых камерах, однако лишили большинство из них – более чем полмиллиона людей
– прав владения землями, которые палестинские арабы и их отцы занимали и
обрабатывали на протяжении поколений, а также лишили их собственности, которую
они не могли унести с собой во время бегства и тем самым оказались доведенными
до нищеты, став «перемещенными лицами».
Один из результатов сионистского эксперимента еще раз
доказывает положение, обоснованное нами ранее в данном «Исследовании», а именно
положение о том, что «еврейские» характерные черты, которые у жителей Запада
долгое время ассоциировались с евреями, жившими в их среде, явились результатом
особого положения еврейской диаспоры в западном мире, а не были унаследованы в
качестве расового признака. Парадокс сионизма состоит в том, что в своем
демоническом усилии построить общество, которое было бы исключительно
еврейским, он работал столь же эффективно как на ассимиляцию еврейства в мире
западных гоев, так и на ассимиляцию того отдельного еврея, который предпочел
стать западным буржуа «иудейского вероисповедания» или западным буржуазным
агностиком. Историческое еврейство было диаспорой, и отличительные еврейские
этос и институты (мелочная преданность Моисеевому закону и непревзойденная
виртуозность в торговле и финансах) были тем, что диаспора с течением веков
превратила в социальные талисманы, одарив эту географически рассеянную общину
магической способностью выживания. Современные еврейские вестернизаторы как
либеральной, так и сионистской школ порвали с этим историческим прошлым. И разрыв
сионизма был гораздо более решительным. В своем коллективном оставлении
диаспоры ради создания новой нации, осевшей на земле, по образцу современных
западных протестантских первопроходцев, создавших Соединенные Штаты, Южно‑Африканский
Союз и Австралийский Союз, сионисты растворялись в нееврейской социальной
среде. И поскольку они вдохновлялись Писаниями, то вдохновение теперь уже
исходило не из Закона и Пророков, а из рассказов книг Исхода и Иисуса Навина.
В этом духе они начали вызывающе и увлеченно превращаться из
работников умственного труда в работников физического труда, из городских
дельцов – в сельских жителей, из посредников – в производителей, из финансистов
– в земледельцев, из лавочников – в воинов, из мучеников – в террористов. В
своих новых ролях, как и в старых, они проявили удивительные стойкость и
гибкость. Однако, что впереди ожидает израильтян (как стали называть себя
палестинские евреи) – покажет только будущее. Соседние арабские народы, по‑видимому,
вынуждены будут изгнать захватчика из своей среды, и эти арабские народы
«Благодатного полумесяца» численно значительно превосходят израильтян. Однако
какое‑то время, по крайней мере, их численное превосходство будет сдерживаться
их более низкой энергией и эффективностью.
Кроме того, все вопросы теперь стали вопросами мировыми. На
чьей стороне в конечном итоге окажутся ближневосточные интересы Советского
Союза и Соединенных Штатов? Вот вопрос. Что касается Советского Союза, то ответ
было трудно предугадать. Что касается Соединенных Штатов, то решающим фактором
в их палестинской политике вплоть до нынешнего времени являлась огромная
диспропорция в численности, богатстве и влиянии между еврейским и арабским
элементами их населения. По сравнению с американскими евреями американские
арабы составляют количество, которое почти можно не принимать в расчет, даже
если к ним добавить потомков ливанских христиан. Соответствующим образом
представленные среди американских граждан евреи обладают политической властью,
непропорциональной их численности. Они сосредоточены в Нью‑Йорке, а в
состязании за голоса в американской внутренней политике это главный город
главного штата. Однако расчеты циничных американских политиков‑неевреев не
дают, как пытаются уверить одинаково циничные обозреватели, полного объяснения
той далеко идущей поддержке, которую правительство Соединенных Штатов оказывало
Израилю в его критические годы сразу после окончания Второй мировой войны. Эта
политика была отражением не просто холодных внутриполитических расчетов, но
также и незаинтересованного идеалистического, хотя, возможно, и
неосведомленного, общественного настроения. Американцы оказались способны
посочувствовать страданиям европейских евреев от рук нацистов, потому что
другие евреи были знакомыми людьми в их повседневной жизни. У них нет знакомых
арабов, чтобы они могли убедить их в страданиях палестинских арабов.
«Отсутствующий всегда не прав».
* * *
vi) Современный Запад, дальневосточная цивилизация и
туземные цивилизации Америки
Ныне существующие цивилизации, столкновения которых с
современным Западом мы рассматривали до сих пор, все уже имели опыт знакомства
с западным обществом, прежде чем начали испытывать воздействие этого общества в
его современной фазе. Это верно даже в отношении индусского общества, хотя его
контакты были сравнительно незначительными. Наоборот, о существовании Запада
совершенно ничего не знали в Америках и почти ничего не знали в Китае и Японии
вплоть до того момента, когда новоевропейские мореплаватели‑первопроходцы
достигли их берегов. В результате эмиссары Запада были сначала приняты без
всяких подозрений, и то, что они с собой привезли, обладало очарованием
новизны. В конечном счете, однако же, две истории приняли совершенно различный
оборот. Американским цивилизациям настолько же не удалось, насколько дальневосточным
удалось справиться с трудной ситуацией.
Испанские завоеватели центрально‑американского и андского
миров тотчас же сокрушили своих плохо вооруженных и ни о чем не подозревающих
жертв силой оружия. Они фактически истребили те элементы населения, которые
были хранителями туземных культур. Они заменили их иноземным правящим
меньшинством и низвели сельское население до статуса внутреннего пролетариата
западно‑христианского общества, предоставив его труд в распоряжение испанских
экономико‑религиозных дельцов при условии, что эти плантаторы‑миссионеры
сделают частью своего бизнеса обращение человеческих стад в римско‑католическую
форму христианства. Но несмотря на это, все же нельзя было быть уверенным ко
времени написания этой книги, что туземные культуры в конечном счете не
появятся вновь в какой‑либо форме, как сирийское общество появилось и утвердило
себя вновь после тысячелетия эллинского господства.
С другой стороны, два дальневосточных общества в Китае и
Японии пережили смертельную опасность, которой подверглись по причине своего
первоначального незнания. Им удалось достичь равновесия в отношениях с западной
цивилизацией, обнаружить ее недостатки, решиться изгнать ее и собрать
необходимые силы для осуществления продуманной политики фактического необщения.
Однако это, как оказалось, был еще далеко не конец истории. Порвав отношения с
Западом в той форме, в какой Запад первоначально представил себя, китайцы и
японцы не избавились от «западного вопроса» вовсе. Получив отпор, Запад
впоследствии трансформировался и затем вновь появился на восточно‑азиатской
сцене, теперь уже предлагая свою технологию вместо религии в качестве главного
дара. И теперь дальневосточные общества оказались перед выбором: или овладеть
этой новой западной технологией самим, или стать ее жертвой.
В этой дальневосточной драме китайцы и японцы вели себя в
одних случаях одинаково, а в других – по‑разному. Замечательной чертой сходства
было то, что во втором акте драмы принятие секуляризованной современной
западной культуры происходило как в Китае, так и в Японии снизу вверх.
Маньчжурская империя в Китае и сёгунат Токугава в Японии не сумели перехватить
инициативу – в противоположность петровскому царству в России. В следующей
сцене этого акта, однако, Япония, в отличие от Китая, перешла к петровскому
методу. С другой стороны, в первом акте, которым были столкновения XVI в., два
дальневосточных общества с самого начала взяли различные курсы. В своем
первоначально одобрительном принятии, а впоследствии в отказе от современной
западной культуры в ее религиозной фазе XVI и XVII вв. инициатива шла сверху
вниз в Китае и снизу вверх – в Японии.
Если представить реакции двух дальневосточных обществ на
современный Запад на протяжении последних четырех столетий в виде графика, то
можно обнаружить, что японская кривая гораздо резче, чем китайская. Китайская
никогда не достигает такой длительности, как японская, ни в периодах, когда она
подпала под влияние западной культуры, ни в изоляции себя от нее на протяжении
промежуточного периода ксенофобии.
К рубежу XVI‑XVII вв. Япония, политическое объединение
которой еще не завершилось, начала подвергаться опасности того, что
политическое единство будет навязано ей извне безжалостными руками иноземных
конкистадоров. Испанское завоевание Филиппин в 1565‑1571 гг. и голландское
завоевание Формозы в 1624 г. были уроками судьбы, которая могла постичь Японию.
Наоборот, обширному Китайскому субконтиненту серьезно не приходилось бояться
прибытия западных пиратов того времени. Подобные морские налетчики, еще не обладавшие
механизированными средствами, как бы они ни досаждали, все же не могли быть
потенциальными завоевателями. Опасностями, которые могли послужить причиной
серьезного беспокойства для правительства Китайской империи того времени, были
опасноcти сухопутного вторжения из Евразийской степи. После того как династия
Мин была свергнута сильной полуварварской Маньчжурской династией в XVII в.,
этой опасности, идущей из внутренних районов континента, не возникало на
протяжении еще двух столетий.
Это различие Китая и Японии в их политико‑географическом
положении слишком велико, чтобы объяснить, почему в Китае подавление римско‑католического
христианства откладывалось вплоть до конца XVII в', и явилось не результатом
политических предчувствий, а результатом теологической полемики – в
противоположность казням и безжалостному подавлению римско‑католического
христианства в Японии и окончательному обрыванию всех связей с западным миром,
за исключением единственной голландской нити. Ряд ударов, нанесенных только что
установленным японским центральным правительством, начался с указа Хидэёси 1587
г., предписывавшего высылать всех западно‑христианских миссионеров, и достиг
своей кульминации в указах 1636‑1639 гг., запрещавших японским подданным
выезжать за границу, а португальским подданным – проживать в Японии.
В Японии, как и в Китае, отказ от политики изоляции шел
снизу вверх и вдохновлялся жаждой вкусить плоды современного западного научного
знания. Многие из первопроходцев этого движения претерпели мученичество за свою
веру в технику в период гонений 1840‑1850 гг., непосредственно накануне так
называемого открытия Японии в 1853 г. В Японии это движение было всецело
светским. С другой стороны, соответствующее движение XIX в. в Китае было
связано с деятельностью протестантских миссионеров, сопровождавших британских и
американских коммивояжеров, как их португальских предшественников в Японии
сопровождали римско‑католические миссионеры, и в Китае это протестантское
миссионерское влияние сохранялось. Сунь Ятсен[549], основатель
Гоминьдана, был сыном обращенного в протестантизм китайца, а другая
протестантская китайская семья сыграла первостепенную роль в последующей
истории Гоминьдана в лице госпожи Сунь Ятсен[550], ее сестры
госпожи Чан Кай‑ши[551] и их брата Цзе Вун Суна[552].
И японское, и китайское движения вестернизации столкнулись с
грандиозной задачей ликвидации и замены местного экуменического режима, однако
японские вестернизаторы оказались более бдительными, проворными и умелыми, чем
китайские. Через 15 лет после появления эскадры коммодора Перри[553] в японских территориальных водах в 1853 г.,
они не только сбросили режим Токугава, который не сумел оказаться на высоте
положения, но и выполнили гораздо более трудную задачу по установлению нового
режима, способного запустить в действие движение всесторонней вестернизации
сверху вниз. Китайцам понадобилось 118 лет, чтобы проделать хотя бы негативную
половину данной задачи. Прибытие посольства лорда Макартни[554] в Пекин в 1793 г. явилось не менее блестящей
демонстрацией усиливающейся мощи Запада, чем прибытие эскадры коммодора Перри в
залив Эдо[555] через 60 лет. Однако в Китае ancien regime[556] не свергали вплоть до 1911 г., а затем
заменили не эффективным новым порядком по западному образцу, но анархией,
которую Гоминьдану не удалось преодолеть на протяжении четверти века (с 1923 по
1948 г.), которые это претендовавшее на либеральность движение вестернизации
имело в своем распоряжении.
Различие можно оценить по тому уровню военного
превосходства, которого достигла Япония над Китаем в течение 50 лет, истекших с
начала Японо‑китайской войны 1894‑1895 гг.[557],[558] В течение этого полувека Китай в военном
отношении оказался во власти Японии. И хотя в ходе последнего раунда этой
борьбы эффективное завоевание всего Китая оказалось выше возможностей Японии,
было очевидно, что если японская военная машина не была бы разрушена
Соединенными Штатами, то китайцы никогда бы не смогли без посторонней помощи
вырвать из рук японцев захваченные порты, промышленные районы и железные
дороги, которые являлись ключами к вестернизации Китая.
Тем не менее к началу второй половины XX в. японский заяц и
китайская черепаха пришли почти одновременно к одной и той же гибельной цели.
Япония пассивно переживала военную оккупацию величайшей из западных держав,
тогда как Китай, последовав по революционному пути, успешно прошел период
анархии, перейдя к ее противоположности в форме железного контроля
коммунистического режима. Будем ли мы рассматривать эту идеологию как западную
или антизападную (тема, уже обсуждавшаяся в данном «Исследовании»), в любом
случае, с точки зрения дальневосточной культуры, это чуждая идеология.
Чем можно объяснить это одинаково гибельное окончание первой
фазы второго столкновения между двумя дальневосточными обществами и современным
Западом? И в Китае, и в Японии катастрофа коренилась в той неразрешенной
проблеме, общей для Азии и Восточной Европы, которая уже привлекала наше
внимание, когда мы рассматривали влияние Запада на индусский мир. Каким могло
быть воздействие западной цивилизации на примитивное крестьянское население,
привыкшее веками размножаться в пределах прожиточного минимума и теперь
получившее прививку нового недовольства, но еще не столкнувшееся с тем фактом,
что возможности экономического усовершенствования могут быть реализованы лишь
благодаря экономической, социальной и, в первую очередь, психологической
революции? Чтобы использовать щедрые дары рога Амалфеи[559], эти
ограниченные крестьяне должны будут революционизировать свои традиционные
методы землепользования и системы землевладения, а также должны будут
регулировать рождаемость.
Политическую и экономическую жизнь Японии при сёгунате
Токугава было возможно стабилизировать (в той мере, в какой она была
стабилизирована в тот период), поскольку существовала поддерживающая основа
демографической стабильности. Население удерживалось на постоянном уровне около
30 млн. человек различными средствами, включая аборты и детоубийство. Когда
этот режим был ликвидирован, неестественно замороженная японская социальная
система стала оттаивать, а население начало резко расти. В отличие от
политической и экономической сферы, возобновление несдерживаемого размножения
было вызвано не западным влиянием, а просто возвращением к традиционным обычаям
крестьянского общества, которые прежде были сдерживаемы при помощи психологического
tour de force (усилия) в ледяной атмосфере эпохи Токугава. Современная
вестернизация, однако же, усилила демографический эффект этого возвращения к
примитивным обычаям, снизив уровень смертности.
В этих обстоятельствах Япония должна была или расширяться,
или взорваться. И единственной возможной формой расширения было или склонить
весь остальной мир торговать с ней, или отвоевать дополнительные территории,
ресурсы и рынки силой оружия у нынешних их хозяев, которые в военном отношении
были слишком слабы, чтобы защищать свою собственность от агрессии оснащенной
западным оружием Японии. История японской внешней политики с 1868 по 1931 г. –
это история колебаний между двумя этими альтернативами. В процессе постепенного
воздействия мирового экономического национализма на обращение японского народа
к военной альтернативе последнюю точку поставил ужасный опыт экономического
бурана, который обрушился на Уолл‑Стрит осенью 1929 г.[560], а затем смел
весь остальной мир. Спустя почти два года – в ночь с 18 на 19 сентября 1931 г.
– Япония под Мукденом положила начало своему великому агрессивному предприятию,
закончившемуся в день победы над Японией в 1945 г.
Поскольку китайцы не держались взаперти на группе
относительно небольших островов, но широко расселились на огромном
субконтиненте, проблема перенаселенности в Китае не стояла так остро и за ее
решение не брались столь энергично, как в Японии. Однако при более внимательном
рассмотрении она оказывалась не менее серьезной, и ответственность за ее
решение теперь возлегла на плечи китайских коммунистических диктаторов. Это
идеологическое завоевание Китая коммунизмом явилось последним действием в
русском нападении на основной ствол дальневосточного общества, продолжавшемся
на протяжении трехсот лет. Мы не будем останавливаться на его ранних стадиях. В
XIX в., в период, предшествовавший тому, как Японию стали считать серьезной
соперницей, Россия и западные державы появились в качестве конкурирующих
агрессоров, расклевывающих труп умершей Китайской империи. На этой стадии
вопрос, по‑видимому, заключался в том, станут ли Гонконг и Шанхай такими же
опорными пунктами для распространения британского империализма в Китае, какими
в Индии были Бомбей и Калькутта. С другой стороны, Россия добилась владычества
над Владивостоком в 1860 г. и аренды гораздо более важного и занимавшего
центральное положение Порт‑Артура в 1897 г. Именно Япония подавила в зародыше
эту русскую попытку в эпохальной Русско‑японской войне 1904‑1905 гг.[561] Конец Первой мировой войны застал Россию в
состоянии анархии, тогда как Япония извлекла непомерную выгоду в качестве более
или менее бездействовавшего партнера победившей западной коалиции. Тем не менее
то, что не удалось русскому царству, удалось русскому коммунизму по причинам, с
которыми мы уже в той или иной форме сталкивались в данном «Исследовании». Эти
причины можно свести к тому банальному парадоксу, который стал уже прописной
истиной, что перо сильнее меча. Созданное Марксом светское евангелие коммунизма
для России обладало той психологической привлекательностью, которой был лишен
нагой царизм. С этого времени Советский Союз имел в своем распоряжении в Китае
(и в других странах) грозную «пятую колонну». Если ныне коммунистическая Россия
предоставляла орудия или часть их, то можно было рассчитывать, что ее китайские
почитатели будут делать ее работу за нее.
* * *
vii) Характерные черты столкновений между Западом
Нового времени и современными ему цивилизациями
Наиболее значительный вывод, который напрашивается из
сравнения описанных нами столкновений, состоит в том, что слово «современный» в
понятии «современная западная цивилизация» может иметь более точное и
конкретное значение, если его перевести как «относящийся к среднему классу»
(«буржуазный»). Западные общества стали «современными», как только породили
буржуазию, способную стать господствующим элементом в обществе. Мы считаем новую
главу западной истории, открывшуюся в конце XV столетия, «современной»,
поскольку именно в это время в более развитых западных обществах средний класс
начал брать управление в свои руки. Отсюда следует, что в ходе современной
эпохи западной истории способность иностранцев к вестернизации зависела от их
способности приспосабливаться к образу жизни западного среднего класса. Когда
мы рассматриваем уже отмечавшиеся нами примеры вестернизации снизу, то
обнаруживаем, что в предшествующей социальной структуре греко‑православной,
китайской и японской жизни уже существовали элементы среднего класса, через
которые происходило воздействие процесса вестернизации. С другой стороны, в тех
случаях, когда процесс вестернизации проводился сверху, самодержцы, бравшиеся
за вестернизацию своих подданных путем указов, не могли надеяться на
ненасильственный процесс эволюции, который породит для них подлинных
представителей среднего класса туземного происхождения, но были вынуждены
создавать искусственный заменитель доморощенного среднего класса путем
производства интеллигенции.
В интеллигенции, созданной таким образом в России, в
исламском и индусском мирах, их создатели, конечно же, удачно подмешали
подлинные примеси качеств западного среднего класса. Случай России, конечно же,
наводит на мысль, что эта примесь могла оказаться недолговечной. Ибо русская
интеллигенция, которая первоначально была создана петровским царством, чтобы
привести Россию в загон западного среднего класса, взбунтовалась в душе как
против царской власти, так и против западного буржуазного идеала задолго до
революционного взрыва 1917 г. Возможно, то, что случилось в России, могло также
случиться и в другом месте с другой интеллигенцией.
В свете того антибуржуазного поворота, который уже совершила
русская интеллигенция, возможно, стоит остановиться и рассмотреть черты
сходства и различия между незападной интеллигенцией и западным средним классом,
чью роль поручено ей было играть в незападном окружении.
Одной общей чертой в их истории было то, что и незападная
интеллигенция, и западный средний класс вышли из‑за границ тех обществ, в
которых они обосновались. Мы видели, что западное общество, когда оно впервые
возникло в «темные века», было обществом аграрным, в жизни которого городские
занятия были настолько экзотичными, что некоторые из них первоначально
практиковались чужеземной еврейской диаспорой, пока не был создан нееврейский
средний класс благодаря желанию неевреев самим уподобиться евреям.
Другим опытом, общим для современного западного среднего
класса и современной интеллигенции, было то, что и тот, и другая добились
своего окончательного господства путем восстания против своих первоначальных
работодателей. В Великобритании, Голландии, Франции и других западных странах
средний класс пришел к власти, заняв места монархов, чье покровительство
невольно оказалось для них судьбоносным[562]. Точно так же
в неевропейских государствах позднего Нового времени интеллигенция пришла к
власти, успешно восстав против самодержцев‑вестернизаторов, которые сознательно
ее создали. Если мы бросим беглый взгляд на этот общий эпизод в историях
петровской России, Оттоманской империи и Британской империи в Индии, то увидим,
что восстание интеллигенции имело место не только во всех трех случаях, но и
назревало в каждом случае в течение приблизительно одного и того же времени. В
России преждевременное Декабристское восстание 1825 г., явившееся объявлением
войны петровской системе русской интеллигенцией, вспыхнуло через 136 лет после
фактического прихода к власти Петра в 1689 г. В Индии политические «беспорядки»
начали проявляться к концу XIX в. – менее чем через 140 лет после установления
британского правления в Бенгалии. В Оттоманской империи Комитет единства и
прогресса сверг султана Абдул‑Хамида II[563] в 1908 г. – 134 года спустя после того, как
Порта впервые была вынуждена после потрясения от разгрома в Русско‑турецкой
войне 1768‑1774 гг. начать обучение значительного количества мусульманских
подданных современному западному военному искусству.
Однако эти черты сходства перевешивает, по меньшей мере,
одно разительное отличие. Современный западный средний класс был автохтонным
элементом в обществе, в котором стал господствовать. Он был там в
психологическом смысле «у себя дома». Наоборот, интеллигенция страдала от
двойного барьера, будучи одновременно и novi homines[564],
и явлением экзотическим. Интеллигенция была плодом и симптомом не естественного
роста, а поражения своего собственного общества в столкновениях с современным
Западом. Она была символом не силы, но слабости. Интеллигенция, со своей
стороны, болезненно осознавала это обидное различие. Гражданская служба,
созданная для того, чтобы интеллигенты ее исполняли, делала их чужими в
обществе, которому она служила. Интуитивное понимание неблагодарности
поставленной перед ними задачи в соединении с безжалостным нервным напряжением,
возникавшим из внутренней ограниченности их общественного положения, породило в
них затаенную ненависть к западному среднему классу, который был одновременно и
их отцом, и их проклятием, их путеводной звездой и их пугалом. Их мучительно
двойственное отношение к этому пиратскому солнцу, завоеванными планетами
которого они были, точно передает элегическое двустишие Катулла[565]:
Odi et ато: quare id faclam,
fortasse requiris.
Nesclo, sed fieri sentio et
excrucior[566].
Сила ненависти иностранной интеллигенции к западному
среднему классу соответствовала ее предчувствию невозможности состязаться с
достижениями западного среднего класса. Классическим примером из новейшей
истории, в котором это озлобленное предвидение подтверждалось, была
катастрофическая неудача русской интеллигенции после первой из двух революций
1917 г. осуществить свой фантастический наказ по превращению руин Петровского
царства в парламентское конституционное государство по образцу западных
государств XIX в. Режим Керенского[567] потерпел фиаско, потому что взвалил на свои
плечи непосильную задачу – создать парламентское правительство без солидного,
компетентного, процветающего и опытного среднего класса. Наоборот, Ленин достиг
цели, потому что сам стал создавать то, что соответствовало ситуации. Его
Всесоюзная Коммунистическая партия, конечно же, не была совершенно
беспрецедентной. В ирано‑мусульманской истории она была предвосхищена в
институте домашних рабов оттоманского падишаха, в братстве преданных Сефевидам
кызылбашеи[568] и в сикхской хальсе[569], созданной в
результате решения бороться с могольским господством его же оружием. В этих
исламских и индусских братствах уже можно безошибочно распознать этос русской
коммунистической партии. Претензия Ленина на оригинальность основывается на
том, что он вновь создал этот грозный политический инструмент для себя, а также
на его приоритете в применении к особой цели – дать возможность неевропейскому
обществу противостоять современному Западу за счет овладения последними
достижениями западной технологии, одновременно сторонясь текущей идеологии
Запада.
Успех ленинского однопартийного типа диктаторского режима
доказывает множество его подражателей. Не говоря о тех подражателях, которые
исповедовали и называли себя коммунистами, мы можем лишь указать на режим,
установленный Мустафой Кемалем Ататюрком для деспотического возрождения Турции,
фашистский режим Муссолини в Италии и национал‑социалистский режим Гитлера в
Германии. Из трех этих некоммунистических однопартийных режимов новый порядок в
Турции был уникален в том, что ему удалось трансформироваться в двухпартийный
режим по западному либеральному образцу при помощи мирного перехода, а не ценой
катастрофы.
б) Столкновения со средневековым западно‑христианским миром
i) Прилив и отлив крестовых походов
Термин «крестовые походы» обычно ограничивают теми западными
военными экспедициями, которые по папскому наущению и папскому благословению
отправлялись для завоевания, поддержки и нового завоевания христианского
королевства в Иерусалиме. Мы используем здесь этот термин в более широком
смысле для обозначения всех войн, которые западно‑христианский мир вел на своих
границах в средневековой главе своей истории – против ислама в Испании и Сирии,
против конкурирующего христианского мира Восточной Римской империи и против
варваров‑язычников на северо‑восточной границе. Все эти войны можно назвать
крестовыми походами, ибо воины сознательно, а не всецело лицемерно думали о себе
как о расширителях и защитниках границ христианского мира. Мы можем
предполагать, что Чосер[570] одобрил бы расширенное значение этого понятия.
Рыцарь – «тот рыцарь был достойный человек», – который первым изображен в
галерее словесных портретов, представленной в «Прологе» «Кентерберийских
рассказов», был ветераном, который вполне мог в своей юности сражаться при
Креси и Пуатье, однако его создателю никогда не приходило в голову связать с
его образом столь знакомые раздоры между местными западными государствами.
Вместо этого он изображает рыцаря сражающимся на всех границах западно‑христианского
мира от «Гернады» (Гранада) до «Руси», «Пруси» и «Леттовы» (России, Пруссии и
Литвы). И хотя Чосер не называет его прямо крестоносцем, он ясно осознает его
как воина, занятого исключительно в христианской войне. Наша нынешняя задача состоит
в том, чтобы дать некоторое представление об общем ходе этих средневековых войн
за расширение, прежде чем мы продолжим анализ воздействия агрессивного западно‑христианского
мира на другие цивилизации.
Средневековый взрыв западного общества в XI в. христианской
эры явился таким же неожиданным, как и современный взрыв на рубеже XV‑XVI вв.,
и окончательный крах средневековой западной авантюры наступил столь же
стремительно, как и первоначальный успех. Разумный наблюдатель, скажем, из
Китая, прибывший на другой конец Старого Света в середине XIII в. христианской
эры, вряд ли мог бы предугадать, что западные завоеватели находятся на грани
изгнания из исламского мира и «Ромеи» (православно‑христианских владений
Восточной Римской империи), как он вряд ли мог бы предсказать, появившись на
сцене тремя столетиями раньше, что эти же самые два мира находятся на грани
нападения и опустошения со стороны до сих пор явно отсталых и неразвитых
туземцев западной окраины цивилизованной ойкумены. Как только он научился бы отличать
два эллинистических христианских общества друг от друга и от сирийского
общества в процессе обращения к почти христианской ереси ислама, он, вероятно,
пришел бы к выводу, что из трех этих конкурентов, борющихся за контроль над
средиземноморским бассейном и районами в глубь от прибрежной полосы,
православно‑христианский мир имеет наилучшие перспективы, а западно‑христианский
– наихудшие.
По различным критериям сравнительного состояния
материального богатства, образования, административной эффективности и военных
успехов православно‑христианский мир, несомненно, вышел бы на первое место в
списке нашего наблюдателя середины X в., а западно‑христианский мир оказался бы
на последнем. Западно‑христианский мир был в то время аграрным обществом, в
котором городская жизнь была экзотикой, а монета – редким средством обращения,
тогда как в современном ему православно‑христианском мире существовала денежная
экономика, основанная на процветающей торговле и промышленности. В западно‑христианском
мире только духовенство было грамотным, тогда как в православно‑христианском
мире существовал высокообразованный светский правящий класс. Западно‑христианский
мир впал в состояние анархии после неудачной попытки Карла Великого создать там
новую Римскую империю, тогда как новая Римская империя, созданная Львом
Сириянином в том же самом VIII в. в православно‑христианском мире, все еще
процветала и начинала отвоевывать земли, которые отняли у первоначальной
Римской империи в VII в. арабо‑мусульманские завоеватели.
После того как прилив мусульманского завоевания начал
отступать на суше, он некоторое время продолжал наступать на море. С обоими
христианскими мирами в IX в. грубо обошлись мусульманские пираты Магриба[571]. Православно‑христианский
мир, тем не менее, ответил на этот вызов отвоеванием у них Крита, тогда как со
стороны западно‑христианского мира подобного ответа не зафиксировано. Наоборот,
мусульманские захватчики все еще продвигались в глубь континента со стороны
Ривьеры и наводнили альпийские проходы.
Более проницательный взгляд, чем тот, который мы можем
требовать у нашего гипотетического китайского наблюдателя, несомненно, мог бы
разглядеть некоторые основополагающие реалии. Он мог бы разглядеть смертельную
слабость под внушительной поверхностью православно‑христианского мира. Он мог
бы заметить, что западно‑христианский мир, который производил такое жалкое
впечатление в Средиземноморье, поднял героическую борьбу в других частях света
против скандинавских и венгерских варварских противников. Даже западно‑христианская
граница с мусульманами уже начала медленно продвигаться вперед на Иберийском
полуострове. Западно‑христианский мир X в., в отличие от своих конкурентов, был
растущей цивилизацией. Его духовной цитаделью было монашество, и клюнийское
омоложение[572] бенедиктинского монашеского образа жизни в X
в. явилось прообразом всех последующих западных социальных реформ, как
религиозных, так и светских.
Однако эти признаки жизни в западно‑христианском мире X в.
кажутся едва ли достаточными, чтобы объяснить поразительный взрыв западной
энергии в XI в., взрыв, в котором вспышка агрессии против двух соседних обществ
была одним из наименее творческих и наименее выдающихся эпизодов. Западные
христиане довели до конца подвиг по обращению скандинавских колонистов
Нормандии и северо‑восточной Британии, приведя в свой загон скандинавские
военные отряды, равно как и варваров Венгрии и Польши. Клюнийская реформа
монашеской жизни привела к реформированию Гильдебрандом всей церковной системы
под главенством папы. Ускорение продвижения на Иберийском полуострове шло
параллельно с завоеванием владений Восточной Римской империи в Южной Италии и
мусульманских владений на Сицилии, а также с угрозой (хотя и окончившейся
неудачей) нанесения удара через Адриатическое море в самое сердце Восточной
Римской империи. Высшая точка была достигнута в Первом крестовом походе (1095‑1099
гг.), в результате которого за счет ислама был основан ряд западно‑христианских
княжеств в Сирии от Антиохии и Эдессы (по ту сторону Евфрата) до Иерусалима и
Азлы (на побережье залива Акаба Красного моря).
Окончательный крах этого средневекового западно‑христианского
господства в средиземноморском бассейне показался бы не менее удивительным
нашему дальневосточному наблюдателю, если бы он смог вновь обозреть сцену через
150 лет после Первого крестового похода. К этому времени западные агрессоры
потеряли практически все свои аванпосты в Сирии. С другой стороны, на Иберийском
полуострове мусульманские владения были сокращены до простого анклава вокруг
Гранады, и европейцы утешались за свои потери в Сирии нападением и завоеванием
владений Восточной Римской империи в Европе. Франкский принц узурпировал место
и наименование римского императора в Константинополе. Далеко на востоке
появилась великая Монгольская империя, и западно‑христианские мечтатели грезили
о том, как бы напасть с тыла на ислам, обратив правителей этой новой мировой
державы в западную форму христианской религии. Папские миссионеры предприняли
долгое путешествие до Каракорума. Марко Поло[573] находился в пути ко двору «Кубла хана».
Но ничего этого не произошло. Вскоре после той даты, которую
мы определили для нашего воображаемого китайского наблюдателя, обветшалое
здание «Латинской империи» в Константинополе рухнуло (1261 г.). Греко‑православная
христианская империя была восстановлена, хотя будущее здесь было не за греками,
а за оттоманскими турками. Западно‑христианский мир теперь направил свою
агрессивную энергию на северо‑восточную границу. Тевтонские рыцари снялись с
лагеря в Сирии и искали удачу на берегах Вислы за счет язычников пруссов,
леттов и эстов. Только на Иберийском полуострове, в Южной Италии и на Сицилии
продвижение, начатое на заре средневекового периода, усиливалось и
поддерживалось вплоть до его конца. Попытка средневекового западно‑христианского
мира расширить свои границы на юг и на восток, чтобы включить в себя все земли,
некогда принадлежавшие его эллинской родительнице, окончились неудачей. Если
рассмотреть материальные ресурсы средневекового западно‑христианского мира в
области богатства, народонаселения и в умственной сфере, то иного результата
вряд ли можно было бы ожидать.
* * *
ii) Средневековый Запад и сирийский мир
Когда средневековые западные христиане начали нападение на
сирийский мир в XI в. христианской эры, они обнаружили, что его жители
разделены в религиозном плане между исламом и множеством христианских ересей –
монофизитством, несторианством и другими, – которые представляли собой
доисламские попытки сирийцев деэллинизировать христианство. В первый период
арабского завоевания ислам был отличительной религией этих победителей‑варваров,
точно так же как арианство было религией большинства тевтонских завоевателей
различных провинций Римской империи. В период между мусульманским завоеванием в
VIII в. и Первым крестовым походом в конце XI в. по разным причинам имело место
неуклонное движение в сторону ислама среди этих подвластных народов, однако оно
ни в коем случае не завершилось в конце данного периода. Следствием крестовых
походов явилась резкая перемена в этом движении. Новорожденные исламские
общества – арабское и иранское – возникли на руинах мертвого сирийского мира.
Учитывая, что мусульмане и христиане официально считали друг
друга «неверными» и что сторонники двух этих фанатично настроенных иудейских
религий пребывали друг с другом в постоянной войне, мы можем удивляться степени
того взаимного уважения, которое эти доблестные люди испытывали друг к другу, а
также величине и значительности той культурной пищи, которую средневековое
западное христианство впитывало через сирийский канал. Через него дух и техника
арабской поэзии были переданы христианам на романском языке провансальских
трубадуров, а идеи эллинской философии – на арабском языке посредством
мусульманских ученых.
В царстве меча симпатии между воинами двух
противоборствующих лагерей возникают из открытия неожиданной родственности. На
полях сражений Андалусии андалусийские мусульмане и пограничные иберийские
варвары‑христиане временами чувствовали гораздо большее родство друг с другом,
чем иберийские христиане чувствовали по отношению к своим единоверцам, жившим
по ту сторону Пиренеи, а иберийские мусульмане – по отношению к своим
единоверцам из Северной Африки. На полях сражений в Сирии тюркские варвары,
обращенные в ислам в ходе опустошения владений Халифата, не были неприятными
противниками для своих современников – христианских рыцарей, которые по уровню
цивилизованности не слишком далеко ушли от своих предшественников, ставших
христианами в ходе опустошения Римской империи. В самом деле, норманны,
являвшиеся передовой частью франкского наступления, были так же недавно
обращены из варварства, как и сельджуки.
В царстве пера временные завоевания крестоносцев в Сирии и в
еще большей степени их прочные завоевания на Сицилии и в Андалусии за счет
исламского мира стали передаточными станциями, через которые духовные сокровища
умершего сирийского мира передавались средневековому западно‑христианскому
миру. Добродушная атмосфера религиозной терпимости и интеллектуального
любопытства, которая на время пленила западно‑христианских завоевателей в
Палермо и Толедо по контрасту с их собственным традиционным фанатизмом, была
свойственна раннему исламу. Однако культурные сокровища, которые в этом
благоприятном окружении западные умы согласились принять из мусульманских и
иудейских рук на протяжении следующих двух веков, в равной мере имели как
сирийское, так и эллинское происхождение. Сирийское общество было не творцом, а
только переводчиком подлинных и апокрифических работ Аристотеля, которые стали
доступны западным ученым X в. благодаря переводу с арабского на латинский язык.
В математике, астрономии и медицине говорящие на сирийском языке
несторианские ученики эллинов и говорящие на арабском языке мусульманские
ученики несториан не только сохранили и овладели достижениями своих эллинских
предшественников, но также брали уроки в индийской школе и продолжали делать
собственные оригинальные достижения. В этих сферах средневековый западно‑христианский
мир перенял от современных мусульманских ученых результаты мусульманских
исследований вместе с так называемой арабской системой математической записи,
которую мусульмане приобрели в Индии. А когда мы от интеллектуального плана
перейдем к поэтическому, то увидим, что сокровище, приобретенное андалусийскими
мусульманскими представителями умирающей сирийской культуры, представляло собой
собственное арабское достижение, которому суждено было вдохновлять все
последующие достижения западной школы поэзии вплоть до конца Нового времени
западной цивилизации, если действительно происхождение идей и идеалов, равно
как стихосложения и рифмы у провансальских трубадуров – первопроходцев этой
западной школы – можно возвести к андалусийскому мусульманскому источнику.
Современный Запад далеко превзошел свое мусульманское
наследство в области науки, однако о влиянии сирийской цивилизации на юношески
впечатлительное воображение средневекового западно‑христианского мира все еще
наглядно свидетельствуют в области архитектуры «готические» здания, которые в
опровержение своему нелепому прозвищу, данному им антикварами XVIII столетия,
несут на себе запатентованное свидетельство происхождения от моделей, все еще
сохраняющихся в руинах армянских церквей и сельджукских караван‑сараев. В XX в.
в городах Западной Европы все еще доминировали «готические» соборы, которые
затмили своих романских предшественников в результате революции в средневековой
европейской архитектуре, ускоренной архитектурным воздействием сирийского мира.
* * *
iii) Средневековый Запад и греческий православно‑христианский
мир
Двум этим христианским мирам оказалось труднее прийти к
соглашению друг с другом, чем со своими мусульманскими соседями. Разногласие
явилось следствием того исторического факта, что эллинская цивилизация породила
два дочерних общества, ибо с их одновременного появления на свет до конца VII
в. христианской эры, то есть примерно за 500 лет до окончательного разрыва
между ними в трагические 1182‑1204 гг.[574], два этих
общества уже стали отчужденными из‑за различия в этосе и из‑за конфликта
интересов. Конфликт интересов назрел в борьбе за господство в Юго‑Восточной
Европе и Южной Италии, борьбе, отягченной их взаимными претензиями на роль
единственного законного наследника христианской Вселенской церкви, Римской
империи и эллинской цивилизации.
Политический конфликт были склонны скрывать под видом
церковных разногласий. Например, когда в VIII в. римский престол в споре,
происходившем в восточном православно‑христианском мире по поводу
иконопочитания, занял позицию, направленную против иконоборческой политики
правительства Восточной Римской империи, он принял политическое решение в
интересах народов оставшихся частей Восточной Римской империи в Центральной
Италии, надеясь получить за Альпами от деда, а впоследствии – от отца Карла
Великого военную помощь против лангобардов, которую не удалось получить из
Константинополя. Когда в середине XI в. соперничающие движения за литургическое
единство, исходившие из Рима и Константинополя, вступили в противоречие друг с
другом, конфликт, который привел к расколу 1054 г., был в то же самое время
политическим соревнованием за церковную паству папства в Южной Италии, которая
в политическом плане находилась в подданстве Восточной Римской империи. Ни в
одном из случаев, тем не менее, разрыв между двумя обществами не был
абсолютным.
Во время Первого крестового похода, спустя сорок лет после
последнего из двух этих церковно‑политических конфликтов, правящий восточно‑римский
император Алексей I Комнин, у которого прохождение крестоносцев через его
владения вызвало крайнюю политическую тревогу и личное беспокойство, как пишет
его дочь историк Анна Комнина, добросовестно не пожелал разрешить своим войскам
пролитие крови собратьев христиан. Одним из мотивов, приписываемых Анной
Алексею в его политике отправки восточно‑римских войск для сопровождения
крестоносцев через Анатолию, является забота о том, чтобы их не разорвали на
куски турки. Эта невольная снисходительность по отношению к крестоносцам,
практиковавшаяся Алексеем (правил в 1081‑1118 гг.), преобразилась в его внуке
Мануиле I (правил в 1145‑1180 гг.)[575] в положительную страсть к франкским друзьям и
обычаям. И именно прелаты с обеих сторон, равно как и светские государственные
мужи с восточно‑римской стороны, заботились о преодолении разрыва между двумя
христианскими мирами.
Почему же в таком случае этот разрыв между двумя
христианскими мирами произошел в 1182‑1204 гг., а впоследствии расширялся до
тех пор, пока в XV в. восточные православные христиане не предпочли оказаться в
политическом подчинении у турков, нежели принять церковное верховенство
западного христианского папы? Несомненно, в этом случае римские условия были
суровыми, однако конечная причина катастрофы, вероятно, состоит в постепенном
расхождении между двумя культурами, которое начало обнаруживаться еще за
семьсот или за тысячу лет до окончательного разрыва. Досадным обстоятельством
была произошедшая в XI в. резкая, неожиданная и неслыханная перестановка
взаимных сил и перспектив двух христианских обществ, на которую мы обращали
внимание ранее в данной главе.
Одним из последствий этой политической и экономической
перемены судьбы явилось то, что с этих пор для каждой из сторон появление
другой стороны было невыносимо. В глазах восточных православных христиан франки
были parvenus[576],
цинично применяющие грубую силу, которая по капризу судьбы была им дарована. В
глазах франков византийцы были мандаринами, чьи высокомерные претензии не были
ни оправданы их заслугами, ни подкреплены силой. Для греков латиняне были
варварами, для латинян греки шли по пути превращения в «левантинцев».
Из богатой греческой и латинской литературы, иллюстрирующей
взаимную неприязнь франков и византийцев, достаточно будет процитировать
несколько блестящих отрывков из произведений одного из типичных представителей
каждой стороны. В качестве свидетельства франкской предубежденности по
отношению к византийцам мы можем процитировать отчет ломбардского епископа
Лиутпранда Кремонского[577] о миссии ко двору восточно‑римского
императора, которую он осуществил от имени западно‑римского императора Отгона
II в 968‑969 гг.[578] В качестве свидетельства византийской
предубежденности против франков мы можем процитировать греческую принцессу‑историка
Анну Комнину, которая имела неприятное знакомство с франками еще до и во время
Первого крестового похода.
Официальные опасения епископа Лиутпранда в сложной
дипломатической миссии, возложенной на него, усиливались его личным отвращением
ко всем несущественным деталям повседневной жизни православно‑христианского
мира его времени. Во дворце, предназначенном для него, всегда было или слишком
жарко, или слишком холодно, и в этом ненавистном жилище он и его свита были
изолированы под надзором охраны. Его обманули купцы. Вино невозможно было пить,
а еду – есть. Нищие греческие епископы были все как один негостеприимны.
Постели были жестки, как камень, и не было ни матраса, ни подушки. По своем
отъезде он по‑школьнически отомстил своим хозяевам, нацарапав на стенах и на
столе в своем дворце длинную речь в оскорбительных латинских гекзаметрах, в
которой он выразил свою радость по поводу того, что в последний раз видит «этот
некогда богатый и процветающий, однако ныне голодающий, лжесвидетельствующий,
лгущий, вероломный, жадный, алчный, скаредный, пустоголовый город».
Разговоры Лиутпранда с императором Никифором[579] и его министрами оживлялись с обеих сторон
бранными репликами. Его наиболее действенным ударом было то, что «именно греки
породили ереси, и именно европейцы уничтожили их». Достаточно верно, без
сомнения, ибо греки были интеллектуалами и на протяжении столетий упражняли
свой интеллект в деталях богословия, результаты чего были гибельны, тогда как
латиняне являлись законниками, нетерпимыми к такого рода сумасбродству. На
официальном приеме 7 июня 968 г. возбуждающее слово «римляне», на которое претендовали
обе империи, разожгло в пламя постоянно тлевшее негодование представителей двух
христианских миров друг на друга.
«Никифор отказался предоставить мне слово для ответа и
добавил оскорбительно: “Вы не римляне, вы лангобарды!” Он хотел продолжить и сделал
мне знак, чтобы я молчал, но я вышел из себя и выступил с речью. “Общеизвестным
историческим фактом, – заявил я, – является то, что Ромул, по имени которого
названы римляне, был братоубийцей и сыном блудницы, рожденным, я думаю, вне
брака, и что он основал Рим для несостоятельных должников, беглых рабов, убийц
и нарушителей других основных законов. Он дал прибежище этим преступникам,
собранным вместе, и назвал их римлянами. Эта утонченная аристократия, от
которой происходят ваши императоры, или, как вы называете их, κοσμοκράτορες.
Но мы – под “нами” я имею в виду лангобардов, саксов, французов, лотарингцев,
баварцев, швабов, бургундов – мы презираем римлян до такой степени, что когда
выходим из себя в общении со своими врагами, то самое сильное, что мы можем
сказать им, это одно только слово – “римлянин!” На нашем языке одно это дурное
прозвание охватывает всю глубину подлости, трусости, жадности, упадочничества,
лживости и всех прочих грехов”»{134}.
Спровоцировав Лиутпранда на это выступление, император
побудил своего латинского гостя выразить чувство солидарности с его
германоязычными западными собратьями и объединиться в общей неприязни ко всем
«римлянам». В более позднем и более радушном разговоре Никифор использует слово
«франки», чтобы охватить и латинян, и тевтонов, и это словоупотребление было
оправдано обличительной вспышкой Лиутпранда. Хотя Лиутпранд по своей
интеллектуальной культуре был латинянин из латинян, писавший замечательные
стихи в традициях латинской версии классической эллинской литературы, общий
эллинский культурный источник не вызвал в его сердце никакого чувства родства с
современными греческими наследникам той же самой культуры. Между этим
итальянцем X в. и его современниками‑греками уже существовала пропасть, тогда
как между Лиутпрандом и его саксонскими хозяевами такой пропасти не было.
Все, что мы процитировали, предположительно, проливает свет
как на характер личности Лиутпранда, так и на нечто более важное, и его грубая
карикатура на внешний вид императора, если бы мы процитировали ее, пролила бы
еще больше света. Ломбардский епископ был человеком грубого нрава, и если
византийский бисер, брошенный перед ним, был только фальшивым бисером, то в
доказательстве этого факта он одновременно заклеймил себя как, несомненно,
настоящую свинью. Мера превосходства византийского общества над современными
франками явствует из противоположности между «Relatio» Лиутпранда и созданным
Анной Комниной объективным и проницательным портретом норманнского авантюриста
Боэмунда[580], этой
«белокурой бестии», чьи драчливость, вероломство и амбиции доставили его отцу‑императору
гораздо больше хлопот, чем император Никифор когда‑либо доставлял Лиутпранду и
его саксонским хозяевам‑императорам. Подробному описанию внешности
великолепного экземпляра «нордическогочеловека», «чье телосложение
воспроизводило пропорции поликлетовского канона», Анна Комнина предпосылает
великодушный панегирик:
«Подобного ему не знали во всей Римской империи. Не было ни
варвара, ни эллина, который бы мог сравниться с ним. Он был не только чудом для
глаз. Он был легендарной личностью, простое описание которой захватывает у вас
дыхание».
Капля яда находится в конце этой вспышки женского
красноречия.
«Природа дала выход мощному духу, кипевшему в его сердце,
через его героические ноздри, ибо должно признать, что было нечто
привлекательное в выражении лица этого человека, хотя этому вредило пугающее
впечатление, которое навеивало все вместе. Безжалостность хищного зверя была
написана на всем облике этого человека…; это выдавало нечто в его взгляде… и
также в его смехе, который звучал для человеческих ушей подобно львиному реву.
Его духовный и физический облик был таков, что свирепость и похоть всегда были
написаны на нем, и обе эти страсти постоянно искали выхода в войне».
Это пленительное изображение одного из главных франков
времен Анны почти совпадает по яркости с панорамой франкского мира в его массе,
которую она вводит в качестве увертюры к сообщению о десанте Первого крестового
похода на православно‑христианский мир.
«Сведения о подходе бесчисленных франкских армий вызвали у
императора Алексея серьезное беспокойство. Он был слишком хорошо знаком с
франкской неконтролируемой пылкостью, переменчивостью ума, внушаемостью и
другими укоренившимися характерными чертами – врожденными и приобретенными –
западных варваров (κελτοi). Он был также знаком с ненасытной жадностью,
делавшей этих варваров олицетворением той беззаботности, с какой они приносили
извинения за разрыв договоров. Такова была устоявшаяся репутация франков, и она
полностью подтвердилась их действиями… Действительность оказалась даже еще
более поразительной и более ужасающей, чем ожидания. Оказалось, что весь Запад,
включая все варварские племена, живущие между западным побережьем
Адриатического моря и Гибралтарским проливом, начали массовое переселение с
мешками и обозами в Азию через лежавшие на их пути части Европы».
Наиболее тяжелым из бедствий, выпавших на долю императора
Алексея в связи с прохождением Первого крестового похода, было то, что эти
незваные и наглые посетители беспредельно отнимали драгоценное время у
трудолюбивого администратора.
«От самой зари или, по крайней мере, с восхода солнца
Алексей ввел в обычай восседать на императорском троне и ставить себя в
известность о том, что каждый западный варвар, желавший аудиенции у него, мог
получить беспрепятственный доступ к нему в любой день недели. Его мотивами были
непосредственное желание дать им возможность предъявить свои требования и
тайное желание использовать различные возможности, которые предоставлял ему
разговор с ними, для влияния на них в направлении собственной политики. Эти
западные варварские бароны обладали теми же самыми национальными
труднопреодолимыми чертами – наглостью, пылкостью, жадностью, отсутствием
самоконтроля в потакании охватывавшей их похоти и, наконец, болтливостью, –
которыми они стали известны всему миру. Они проявляли типичное отсутствие
дисциплины в своем злоупотреблении доступностью императора.
Каждый барон приводил с собой на аудиенцию с императором
столько вассалов, сколько хотел, и один следовал за другим, а третий – за
вторым в бесконечной очереди. Еще хуже было то, что когда они выступали с
речью, то они не ограничивали себя определенными временными рамками, какие
должны были соблюдать аттические ораторы. Каждый Том, Дик и Гарри занимал для
беседы с императором столько времени, сколько хотел. А поскольку они неумеренно
болтали языками и были полностью лишены почтения к императору, лишены
чувства времени и были нечувствительны к негодованию присутствующих чиновников,
никто из них не думал о том, чтобы оставить время для тех, кто стоял за ними в
очереди. Они лишь продолжали говорить и требовать бесконечно.
Разговорчивость, корыстолюбие и пошлость бесед западных
варваров, конечно же, были общеизвестны всем теоретически изучавшим
национальные характеры. Однако непосредственный опыт дал более совершенное
знание о характере западных варваров тем, кто имел несчастье быть свидетелем
этих событий. Когда опускались сумерки, несчастный император, который работал
весь день без возможности сделать перерыв на обед, мог встать со своего трона и
попытаться направиться в свои личные покои. Однако даже этот простой намек не
помогал ему отвязаться от докучливых варваров. Они продолжали обманывать друг
друга о порядке срочности своих дел, и эта игра разыгрывалась не только теми,
кто еще стоял в очереди. Те, кто уже был на аудиенции в этот день, теперь
начинали возвращаться и находили один повод за другим, чтобы снова поговорить с
императором, тогда как бедный человек продолжал стоять на ногах и должен был
терпеть этот галдеж, исходивший от стопившихся вокруг него варваров.
Вежливость, которую эта верная жертва сохраняла в ответах на запросы всего
этого множества, была достойна удивления, а несвоевременная болтовня
продолжалась без конца. Всякий раз, когда один из управляющих императорским
двором пытался заставить замолчать варваров, его самого заставлял замолчать
император, который знал франкскую склонность выходить из себя и боялся
малейшего повода для вспышки, которая могла бы нанести тяжелейший ущерб Римской
империи».
Взаимная неприязнь такой силы, как можно было бы ожидать,
исключала всякую возможность взаимных культурных влияний. Однако крестовые
походы принесли плоды как во франко‑византийском, так и во франко‑мусульманском
взаимообмене культурными благами.
После приобретения у мусульман философских и научных
понятий, заимствованных из корпуса эллинской литературы, переведенной на
арабский язык, средневековые западные христиане медленно пополняли свою
эллинскую библиотеку, приобретая на языке оригинала всю «классику», которая
сохранилась. Культурный долг Востока по отношению к Западу носил более
неожиданный характер. Франкские завоеватели Константинополя и Морей в XIII в.
оказали своим греческим жертвам такую же невольную, но замечательную литературную
услугу, какую современные им монгольские завоеватели Китая ненамеренно оказали
китайцам. В Китае временное развенчание конфуцианских книжников предоставило
подавленной народной литературе на местном разговорном языке запоздалую
возможность подняться на поверхность китайской общественной жизни, где ей
никогда не позволяли столь потрясающим образом проявлять свою жизненность в
подавлявшее все иные проявления культуры правление конфуциански мысливших
чиновников, бывших неискоренимо преданными рабами древнекитайских классиков. В
захваченном варварами православно‑христианском мире та же самая причина
породила то же следствие, только в меньшем масштабе, приведя к расцвету
народной лирической и эпической поэзии. Морейский франкский автор «Хроники
Морей» выражал свои мысли на местном греческом языке в тонических стихах,
совершенно свободных от классических оков и предвещавших греческий стих начала
XIX в.
Наиболее важным из всех даров, которыми обменялись
средневековый западно‑христианский мир и современный ему восточно‑христианский
православный мир, был политический институт абсолютного самодержавного
государства, воплощенный в Восточной Римской империи и переданный Западу в
готовом виде в западном государстве‑наследнике, которое создали норманнские
мечи XI в. из бывших владений Восточной Римской империи в Апулии и на Сицилии.
Оно притянуло к себе взоры всех людей Запада, независимо от того, восхищались
они им или испытывали к нему отвращение, когда воплотилось в личности
императора Фридриха II Гогенштауффена, ибо этот Stupor mundi[581],
кроме того, что унаследовал от норманнской матери королевство Сицилия, был
также западно‑римским императором и к тому же еще гениальным человеком.
Позднейшие судьбы этого левиафана абсолютизма вплоть до его «тоталитарных»
проявлений в XX в. христианской эры мы уже прослеживали ранее на страницах
данного «Исследования».
в) Столкновения между цивилизациями первых двух поколений
i) Столкновения с эллинской цивилизацией после
Александра Македонского
С точки зрения эллинской истории после Александра
Македонского, поколение Александра отмечает разрыв с прошлым и начало новой эры
столь же резко, как, с новоевропейской точки зрения, переход к «Новому» времени
от «Средних веков» был отмечен поразительным стечением новых отправных точек на
рубеже XV и XVI вв. христианской эры. В обеих этих новых главах истории
наиболее очевидным основанием для умаления прошлого в сравнении с настоящим
было осознание неожиданного роста власти, включая как власть над другими людьми,
проявлявшуюся в военных завоеваниях, так и власть над природой, проявлявшуюся в
географических исследованиях и научных открытиях. Македонская доблестная победа
над Ахеменидами столь же возбуждала, как и испанская победа над инками. Однако
это было еще не все. Если бы эллина III в. до н. э. или европейца XVI в. н. э.
попросили описать те чувства, которые он испытывал в своем осознании
наступления новой эры, то он, вероятно, придал бы меньше значения чувству
увеличения материальной власти своего общества, чем чувству расширения своего
умственного кругозора. В чувстве, порожденном открытием до того времени
баснословной Индии, к которой македоняне проложили свой путь, открыв для себя
континент, а португальцы – подчинив себе океан, чувство власти в обоих случаях
определялось и усугублялось за счет чувства удивления от открытия чудесного
иноземного мира. В чувстве, порожденном в эллинском мире научными открытиями
Аристотеля и его последователей, а в западном мире – «ренессансом» эллинской
культуры, чувство власти, возникавшее из нового знания, подобным же образом
определялось чувством бессилия перед лицом воспоминания об относительном
человеческом незнании, которое приносило с собой любое дополнение к
человеческому пониманию Вселенной.
Параллель между двумя эпохами можно продолжать и дальше. Мы
знаем, что влияние современного Запада является всемирным, и могли бы
легкомысленно предположить, что в этом отношении эллинская цивилизация после
Александра Македонского представляла собой жалкое зрелище. Однако это не так.
Эллинская цивилизация после Александра Македонского в конце концов столкнулась
с сирийским, хеттским, египетским, вавилонским, индским и древнекитайским
обществами. Фактически – со всеми обществами, достигшими уровня цивилизации,
которые одновременно существовали в Старом свете.
Однако теперь мы должны отметить очень важную черту отличия.
Изучая влияние современного Запада на его современников, мы находим возможность
провести различие между ранним Новым временем, когда Запад излучал целостную
культуру, включая свою религию, и поздним Новым временем, когда Запад излучал
светский экстракт своей культуры, из которого был удален религиозный элемент.
Подобного разделения на главы не было в истории распространения эллинизма в
эпоху после Александра, ибо по сравнению с Западом эллинизм в интеллектуальном
отношении был не по годам развитым. Эллинизм начал с небольшого вклада в сфере
религии и вышел из своей религиозной куколки за целое столетие до начала века
Александра.
В этом эллинском кризисе духовной эмансипации отвращение к
беззаботной безнравственности варварского олимпийского пантеона и отвлечение от
духовно более глубокого, но также и более темного, слоя религиозной жизни,
который составляли «хтонические»[582] культы крови и почвы, быстро сменились
неудовлетворенной жаждой духовной пищи. Когда триумфальный успех их военных и интеллектуальных
завоеваний привел эллинов послеалександровской эпохи в контакт с полнокровными
неэллинскими религиями, чувство, которое вызвал этот опыт в эллинских сердцах,
имело больше от тоскливой зависти к привилегированным обладателям драгоценной жемчужины,
нежели от презрения к жертвам обмана мошеннического жречества. Эллинский мир
почувствовал себя неловко от того факта, что он страдает от религиозного
вакуума. Это чувствительное отношение эллинистических завоевателей к религиям
обществ, завоеванных эллинизмом как в интеллектуальном, так и в военном плане,
явилось причиной важных религиозных последствий агрессивного эллинского влияния
на шесть других обществ. Мы должны измерить прилив и отлив
послеалександровского эллинизма, если хотим увидеть его религиозные последствия
в его историческом окружении.
Первой целью македонских и римских военных агрессоров
являлась экономическая эксплуатация их жертв. Однако осуществление ими более
благородной цели распространения эллинской культуры не было лицемерным, как
доказывает степень перехода слов в дело. Основным инструментом эллинских
завоевателей для выполнения их обещания сообщить духовное богатство эллинской
культуры было основание на неэллинской почве городов‑государств, из которых
ядро эллинских граждан‑колонистов могли распространять свет эллинизма. Эта
политика была введена в действие в широком масштабе самим Александром и
продолжалась после него в течение четырех с половиной столетий его македонскими
и римскими наследниками вплоть до императора Адриана[583].
Это более или менее добровольное распространение эллинской
культуры эллинскими завоевателями, однако же, не было столь замечательным,
сколь самопроизвольное подражание ей неэллинов, следствием чего явилось то, что
эллинская культура после Александра мирным путем завоевала землю, которую
никогда не занимали эллинские войска, или если и занимали, то быстро оставили
ее в ходе отлива александровского потока, последовавшего за смертью Александра.
Развитию эллинского искусства в Кушанском государстве‑наследнике Греко‑Бактрийской
империи на вершине Гиндукуша в последнее столетие до нашей эры и в I столетие
христианской эры и развитию эллинской науки и философии в Сасанидском и
Аббасидском государствах‑наследниках греческой Селевкидской империи приходилось
ждать своего урожая до тех пор, пока опыт эллинского военного завоевания не
только был пережит, но и забыт. Точно так же сирийский мир не начал проявлять
невольного интереса к греческой науке и философии до тех пор, пока не начал
освобождаться от эллинского господства, вооружившись христианством в форме
несторианской и монофизитской ересей и собственным литературным посредником в
виде сирийского языка.
Мирное проникновение эллинской культуры в районы, где
никогда не ступала нога эллинских завоевателей, дает тот же самый урок, что и
посмертные художественные и интеллектуальные победы эллинизма после отлива его
военного господства. Этот эллинский урок проливает свет на общее исследование
столкновений между современными друг другу цивилизациями. Этот свет был виден
исследователям истории, принадлежавшим к поколению автора данного
«Исследования», поскольку им случилось узнать всю историю – в противоположность
состоянию их знаний о нынешних столкновениях с современным Западом, когда поток
подробной информации, совершенно несоразмерный скудным сохранившимся записям об
эллинской истории, был внезапно прерван на середине железным занавесом незнания
человеком своего будущего.
Можно ли будет незначительность силы культурного общения
между современниками когда‑нибудь проиллюстрировать примерами из современной
западной истории, как мы уже показали это на примере эллинской истории после
Александра, в 1952 г. оставалось еще вопросом нерешенным. Этот загадочный знак
вопроса служит для напоминания ученому о том, что те исторические события,
которые от него менее всего удалены, наилучшим образом документированы, а
наиболее знакомые – также менее всего могут служить в целях данного
исследования общего хода и характера человеческих дел. Наиболее удаленная и
наименее полно документированная история столкновений с эллинским обществом
обещала научить его больше этому, и, в частности, больше научить об исходе
столкновений между цивилизациями в религиозном плане.
Для западного историка XX в. очевидно, что самопроизвольное
принятие эллинского искусства в древнекитайском мире V в. и эллинской науки и
философии в сирийском мире IX в. следовало тем же самым путем, каким следовали
подвиги македонских и римских армий. Художественное и интеллектуальное, равно
как военное и политическое, взаимодействие между послеалександровским
эллинизмом и его современниками было к этому времени уже закрытым счетом. С
другой стороны, о продолжающемся влиянии результатов этих столкновений на жизнь
человечества в XX в. свидетельствует верность подавляющего большинства
представителей ныне живущего поколения человечества одной из четырех религий –
христианству, исламу, махаяне и индуизму, историческое появление которых можно
возвести к эпизодам в столкновениях ныне исчезнувшего эллинизма с ныне исчезнувшими
восточными цивилизациями. Если будущий ход человеческих дел подтвердит интуицию
о том, что вселенские церкви, воплощенные в высших религиях, были более
подходящим средством, чем цивилизации, для помощи людям в их продвижении к цели
человеческих желаний, то отсюда будет вытекать, что столкновения с
послеалександровским эллинизмом проливают на главную тему любого общего
исследования истории свет, который не пролили столкновения с современным
Западом.
* * *
ii) Столкновения с эллинской цивилизацией до
Александра Македонского
Драма, в которой доалександровское эллинское общество было
протагонистом, разыгралась в том же средиземноморском театре, который
восемнадцать веков спустя стал сценой другой пьесы, где средневековому
западному христианству суждено было сыграть главную роль. В обоих спектаклях на
сцене было три актера. Двумя соперницами доалександровского эллинизма были
сестринские сирийское общество и окаменевшие остатки преждевременно
разрушенного хеттского общества, которое продолжало существовать в цитаделях
Тавра. В соревновании между этими сторонами за господство в средиземноморском
бассейне сирийское общество было представлено финикийцами, а хеттское –
мореплавателями, которые на заморских территориях, где они утвердились, стали
известны своим эллинским соперникам на греческом языке как тирренцы, а на
латинском – как этруски.
В этом трехстороннем соревновании, начавшемся в VIII в. до
н. э., призами служили: побережье Западного Средиземноморья, жители которого,
отсталые в культурном отношении, никоим образом не могли сравняться ни с одним
из трех конкурирующих обществ; побережье Черного моря, выходившее к Великой
Западной бухте Евразийской степи, которая, в свою очередь, давала возможность
доступа к пахотной черноземной зоне вдоль северо‑западной окарины степи, и,
наконец, уже давным‑давно интенсивно разработанная земля Египта, ветхая
цивилизация которого уже достигла той точки, когда уже более не могла
защищаться от одного иноземного соседа, не прибегая к услугам другого.
В борьбе за эти призы эллины пользовались некоторыми
преимуществами перед обоими своими противниками.
Наиболее явным их преимуществом было преимущество
географическое. Эллинская база действий в Эгейском море располагалась ближе к
Западному Средиземноморью и гораздо ближе к Черному морю, чем этрусские и
финикийские базы на восточной оконечности Средиземноморья были к любому из этих
объектов. Далее, эллины обладали еще одним преимуществом – в численности
населения, которое выросло в результате победы долин над горами в предшествующей
главе эллинской истории. Вытекавшее отсюда воздействие численности населения на
наличие средств к существованию в Элладе придавало эллинской экспансии взрывную
силу и стимулировало их к созданию торговых постов за морем, превращая этот
новый мир в Великую Грецию благодаря быстрому и интенсивному заселению земли
эллинскими земледельцами‑колонистами. Наши скудные данные создают впечатление,
что ни этруски, ни финикийцы не имели в своем распоряжении сравнимого
количества людских резервов. По крайней мере, ясно, что ни один из этих народов
фактически не подражал эллинскому достижению, завоевывая новый мир путем его
колонизации.
Третье преимущество, которым пользовались эллины, также как
и первое, было результатом их географического положения. Начало средиземноморского
соревнования между тремя соперниками совпало по времени с началом последней и
наихудшей вспышки ассирийского милитаризма, которой подверглись финикийцы и
этруски на Азиатском материке, в то время как эллинам посчастливилось жить
значительно дальше на запад и быть от этой вспышки свободными[584].
Учитывая все эти препятствия, поражаешься, как хорошо
финикийцы и этруски сделали свое дело. В состязании за Черное море они, как и
следовало ожидать, были полностью побеждены. Черное море стало эллинским
озером. В период, когда степь была спокойна после прорыва киммерийских[585] и скифских кочевников[586], эллинские
хозяева Черного моря и скифские хозяева Великой Западной бухты Евразийской
степи вступили во взаимовыгодные торговые отношения, благодаря которым урожаи
зерна, выращенные оседлыми подданными скифов в черноземной зоне, вывозились за
море для снабжения эллинского городского населения в Эгейском бассейне в обмен
на эллинские предметы роскоши, которые должны были удовлетворять вкусам царских
скифов.
В западном Средиземноморье борьба длилась дольше и испытала
ряд превратностей судьбы, однако здесь она также закончилась победой эллинов.
Даже в более коротком соревновании за Египет, который был
одной из трех целей, где преимущество географической близости было не на
стороне эллинов, VII в. снова явился свидетелем того, как эллины выиграли приз,
снабдив египетское правительство фараона‑освободителя Псамметиха I[587] ионийскими и карийскими «медными людьми из‑за
моря», которых он принял на военную службу для выполнения задачи по изгнанию
ассирийских гарнизонов из нижней долины Нила в 658‑651 гг. до н. э.
К середине VI в. до н. э. казалось, что эллины не только
выиграли морское соревнование за средиземноморский бассейн, но также и
находились на верном пути к наследию континентальной империи ассирийцев в Юго‑Западной
Азии. Приблизительно за полвека до того, как эллинские наемники Псамметиха
изгнали ассирийцев из Египта, Синахериб пришел в бешенство от дерзкого
нападения вторгшихся «медных людей из‑за моря» на Киликийское побережье его
владений. Судя по всему, Нововавилонское государство‑наследник Ассирийской
империи последовало примеру Египта, наняв эллинских наемников, если мы можем
предположить, что в личной охране Навуходоносора были и другие солдаты удачи,
кроме лесбийца Антименида, чье имя случайно сохранилось для нас по той причине,
что он был братом поэта Алкея[588]. Завоеванию
Александром Македонским империи Ахеменидов предшествовало массовое
использование эллинских наемников самими Ахеменидами. Могло показаться, будто
«Александр» вышел на сцену истории за два столетия до своего фактического
появления. Однако в действительности сцена была занята не призраком
предшественника Александра, а реальным Киром.
Перспективы VI в. до н. э. на господство эллинов в Египте и
Юго‑Западной Азии были перечеркнуты примерно за двадцать лет, прошедших между
завоеванием Киром Лидийской империи около 547 г. до н. э. и завоеванием его
наследником Камбисом[589] Египта около 525 г. до н. э. Удар Кира,
который заменил привычный лидийский сюзеренитет греческих городов‑государств
западного побережья Анатолии иноземным персидским, был более сильным и
неожиданным из двух этих ударов. Однако завоевание Камбисом Египта нанесло
эллинам двойной удар. Оно обесценило военный престиж «медных людей» и поставило
греческие торговые интересы в Египте в зависимость от доброй воли персов. Кроме
того, эти эллинские неудачи усилились по причине не менее замечательных и
неожиданных преимуществ, которые персидские строители империи предоставили
сирофиникийцам.
Та же самая политика Ахеменидов, которая позволила евреям
вернуться из вавилонского плена и построить незначительное в политическом плане
храм‑государство вокруг своего наследственного города Иерусалима, предоставила
сиро‑финикийским городам, расположенным вдоль побережья, не просто автономию,
но господство – под сюзеренитетом Ахеменидов – над другими сирийскими общинами,
которые стояли, по крайней мере, на одном уровне с наиболее могущественными
городами‑государствами эллинского мира. В экономическом плане они выиграли даже
еще больше. Они оказались партнерами в государстве, которое простиралось в
глубь континента от сирийского побережья Средиземного моря на почти
баснословное расстояние до отдаленных северо‑восточных аванпостов homo
agricola[590] на согдийском сухопутном побережье Великой
Евразийской степи.
Между тем, на западе появилась финикийская колония, которая
превзошла по богатству и власти сирийский город, от которого произошла, точно
так же, как в XX в. христианской эры главная заокеанская «колония» современного
Запада превзошла европейские государства, из которых эмигрировали ее граждане.
Карфаген взял на себя инициативу в финикийском контрнаступлении, которое, с
эллинской точки зрения, можно назвать Первой Пунической войной, хотя это
название было добавлено на гораздо более позднем этапе той же самой затянувшейся
драмы. Результат был неокончательным, но можно сказать, что до конца VI в. до
н. э. экспансия эллинского мира была задержана на всех направлениях благодаря
объединению находившихся под угрозой членов состязающихся обществ, и можно было
ожидать, что после этого прежде подвижные восточные и западные границы между
эллинским и сирийским мирами закрепятся вдоль линий, которые провели
ахеменидские и карфагенские основатели империй.
Однако это равновесие было нарушено почти сразу же, как
начался V в. до н.э., – на пороге одной из самых известных войн в мире. Как
историк может объяснить эту неожиданно несчастливую развязку? Эллинский знаток
человеческих отношений обнаружил бы причину бедствия в hybris – гордости,
которая предшествует падению, безумии, которым боги наказывают тех, кого желают
уничтожить. Современный же западный исследователь мог бы воздержаться и не
опровергать это сверхъестественное объяснение, в то время как его исследования
толкали бы его дальше, на чисто человеческий уровень.
Человеческой причиной возобновления конфликта явилась ошибка
в государственной политике Ахеменидов. И этой ошибкой был просчет, в который
склонны впадать основатели империй, когда они совершают поразительно обширные и
быстрые завоевания народов, оказывающихся легкой добычей, поскольку их дух уже
надломлен предшествующим горестным опытом. В подобных обстоятельствах
основатели империй склонны приписывать свой успех всецело собственному
героизму, не признавая своего долга по отношению к предшественникам, чьи
безжалостные плужные лемехи вспахали почву перед тем, как окончательное
появление на сцене основателей империй сняло легкий урожай. Высокомерная
самоуверенность, взращенная этой ложной верой в собственную непобедимость,
накликала на них впоследствии несчастье, когда на них стремительно напали те
еще не сломленные народы, чьи дух и способность к сопротивлению захватили их
врасплох. Это история катастрофы, которую пережили в Афганистане в 1838‑1842
гг. британские завоеватели заброшенных владений надломленной Империи Великих
Моголов в Индии, легкомысленно предполагавшие, что нетронутые горцы Восточного
Ирана подчинятся так же покорно, как и завоеванные народы субконтинента, у
которых деморализующий пятивековой опыт иноземного правления увенчался агонией
столетия анархии.
Вероятно, Кир предполагал, что передает своим наследникам
окончательно закрепленную северо‑западную границу, когда завершил завоевание
лидийских владений, покорив греческие общины в Азии, прежде признававшие
сюзеренитет Лидии. Однако предостережение, данное Аполлоном лидийскому царю
Крезу, о том, что если он пересечет реку Галис, то разрушит великую державу,
могло быть с не меньшим успехом адресовано и к завоевателю Креза Киру, когда
тот остановился на противоположном берегу той же самой реки. Ибо, завоевав Лидийскую
империю, Кир невольно впутался в связи с эллинским миром и передал это
наследство своим преемникам, что в конечном итоге явилось гибелью для империи
Ахеменидов.
Кир освободился от не удовлетворявшей его речной границы с
Лидией (река Галис), распространив свои владения в завоеванной Лидии вплоть до
побережья Анатолии. Дарий считал, что освободится от не удовлетворявшей его
морской границы с независимой оставшейся частью Эллады, приведя всю Элладу под
свое владычество. После того как последние угольки эллинского восстания в Азии
были задуты в 493 г. до н. э., он сразу же начал операции против европейской
части Эллады. Развязкой стал целый ряд исторических поражений, которые западные
наследники Эллады в XX в. до сих пор вспоминают как героические победы, – при
Марафоне[591], Саламине[592], Платеях[593] и у мыса Микале[594].
Ответив на восстание своих эллинских подданных в Азии
решением завоевать их родственников и сообщников в Европе, Дарий превратил 7‑летнее
восстание (499‑493 гг. до н. э.) в 51‑летнюю войну (499‑449 гг. до н. э.), к
концу которой Ахеменидам пришлось примириться с потерей своего побережья в
Западной Анатолии. В течение того же самого периода карфагенская атака на
эллинов на Сицилии завершилась даже еще большей катастрофой для агрессора, и за
этой сухопутной эллинской победой на Западе последовала победа на море, когда
напали на аванпост эллинского мира в кампании при Кумах[595], на западном
побережье Италии, несколько западнее Неаполя.
Так обстояли дела к роковой дате – 431 г. дон. э.,
явившемуся свидетелем вспышки братоубийственного конфликта между эллинами и
эллинами – Пелопоннесской войны. Военные действия, начавшиеся в лоне эллинского
общества, сменились его надломом, ибо они продолжались с небольшими передышками
до тех пор, пока в 338 г. до н. э. царем Филиппом Македонским не было навязано
мирное урегулирование. Эллинская гражданская война явно представляла как для
Ахеменидов, так и для карфагенян непреодолимое искушение воспользоваться
самоубийственным безумием своих эллинских соперников. Поддавшись этому
искушению, карфагеняне мало чего достигли, однако успех персов был
значительным. Но их успех недолго был для них полезным, ибо одним из
результатов братоубийственной войны в Элладе было то, что эллины стали
непревзойденными мастерами в искусстве войны, а империи Ахеменидов и карфагенян
были сметены, как только македонские и римские военачальники обратили новое
эллинское оружие против наследственных врагов эллинского мира.
Таким образом, военная и политическая агрессия эллинского
общества против своих соседей вступила в новую, более широкую фазу, которую мы
уже рассматривали в предыдущей главе. Однако существовал также и культурный
план, в котором эллинская цивилизация осуществила прочные мирные завоевания
задолго до времени Александра Македонского.
Жители Сицилии, которые сделали все возможное, сопротивляясь
греческому завоеванию силой оружия, в то же время добровольно усвоили язык,
религию и искусство своих греческих противников. Даже в «запретную зону» за
карфагенским «деревянным занавесом», куда эллинскому купцу не позволено было
проникать, карфагеняне ввозили греческие продукты, которые были
привлекательнее, чем то, что сами они могли произвести, – точно так же, как
правительство наполеоновской Франции, подписав Берлинский декрет, сделало вид,
что отказывается от британских товаров, и в то же время тайно ввозило
британские ботинки и шинели для наполеоновской армии.
Эллинизация народов западных провинций Ахеменидской империи
началась задолго до того, как эта империя появилась, благодаря излучению
эллинской культуры из азиатских греческих городов через Лидийское царство. Крез
изображается на страницах «Истории» Геродота как восторженный эллинизатор.
Однако наиболее плодотворные культурные завоевания доалександровского эллинизма
были совершены среди этрусков и других неэллинских народов, живших вдоль
западного побережья Италии. Этруски стали эллинами благодаря усвоению их культуры
еще до того, как оказались под властью римских основателей империи, которые
много в своем собственном эллинизме приобрели из вторых рук – у своих этрусских
соседей.
Эллинизация Рима была, конечно же, самым важным культурным
завоеванием, которого когда‑либо достигали эллины в своей истории, ибо римляне,
каково бы ни было их происхождение, решили задачу, которая оказалась не по
силам этрусским поселенцам побережья Западной Италии к северу от них, греческим
поселенцам к югу от них и массилийским первопроходцам эллинизма близ дельты
реки Роны. После того как греки‑италиоты стали жертвой оскского, а этруски –
кельтского контрнаступлений варваров, римляне распространяли эллинизм по ту
сторону Апеннин, реки По и Альп, пока не насадили его по всем районам континентальной
Европы, расположенным в глубь от Средиземного моря, от дельты Дуная до устья
Рейна и до пролива Па‑де‑Кале в Британии.
* * *
iii) Плевелы и пшеница
Наше исследование столкновений между современными друг другу
обществами[596] показало, что единственные плодотворные
результаты этих столкновений были плодом мирной деятельности и что, к
сожалению, этот творческий мирный взаимообмен достаточно редок в сравнении с
теми уничтожающими разрушительными конфликтами, которые возникают, когда две
(или более) различные культуры сталкиваются друг с другом.
Если мы пристально рассмотрим поле наших исследований еще
раз, то увидим во взаимоотношениях между индской и древнекитайской
цивилизациями пример того мирного взаимообмена, который кажется столь же
плодотворным, сколь и свободным на первый взгляд от гибельного насилия. Махаяна
была перенесена из индского мира в древнекитайский, и при этом два общества не
воевали друг с другом. О мирном характере этих отношений, которые произвели
такой исторический эффект, свидетельствовало движение буддийских миссионеров из
Индии в Китай и буддийских паломников из Китая в Индию как по морю через
Малаккский пролив, так и по суше вдоль бассейна реки Тарим с IV по VII вв.
христианской эры. Тем не менее, когда мы рассматриваем сухопутный маршрут,
который был более обычным из двух, то обнаруживаем, что его открыли не индские
или древнекитайские мирные люди, а греко‑бактрийские первопроходцы вторгшегося
эллинского общества и наследники этих греков – кушанские варвары. Этот маршрут
был проложен военными в целях военной агрессии – греков против индской империи
Маурьев и кушанами против древнекитайской империи Хань.
Если мы хотим найти пример духовно плодотворного
столкновения между современными друг другу обществами, в которых бы не было
признаков какого‑либо сопутствующего военного конфликта, то мы должны заглянуть
в прошлое еще глубже. Мы должны заглянуть за век цивилизаций второго поколения,
во время, которое предшествовало оживлению египетской цивилизации в результате
удара гиксосского вторжения, неестественно продлившего уже истекший срок жизни.
В этот предшествующий век с рубежа XXII‑XXI столетий до н. э. до рубежа
XVIII–XVII столетий до н. э. египетское универсальное государство в форме
Среднего царства и шумерское универсальное государство в форме империи Шумера и
Аккада существовали бок о бок, и смена контроля, осуществлявшегося над
сирийским сухопутным мостом между ними, насколько мы знаем, не перерастала в
военный конфликт. Этот, по‑видимому, мирный контакт, тем не менее, был вместе с
тем и бесплодным, и мы должны всмотреться еще дальше вглубь, чтобы найти то,
что искали.
В исследовании столь ранней главы в историях цивилизаций
знания, накопленные современной археологией, позволяют историку лишь искать на
ощупь в исторических сумерках. Однако с учетом этой предосторожности мы можем
вспомнить наш предварительный вывод о том, что культ Исиды и Осириса, сыгравший
такую существенную роль в египетской духовной жизни, был даром распадающегося
шумерского мира, в котором душераздирающие, хотя и утешительные фигуры
Скорбящей Жены или Матери и ее Страдающего Супруга или Сына появляются ранее
всего под именами Иштар и Таммуза. Если действительно культ, являющийся
предвестником всех других высших религий, был передан по наследству обществом,
где впервые возник, детям современной ему цивилизации без борьбы и кровопролития,
столь напортивших многим последующим столкновениям между современниками, то мы
можем уловить здесь отблеск радуги в облаках, нависших над историями тех
контактов между цивилизациями, в которых сталкивающиеся стороны встречались
друг с другом в живую.
XXXII.
Драма столкновений между современными друг другу цивилизациями
1. Сцепление столкновений
Открытие того, что столкновения между современными
обществами могут представлять собой не отдельные столкновения, но сцепления[597] столкновений, было сделано в V в. до н. э.
Геродотом, когда он начал изложение еще свежего в памяти конфликта между
Ахеменидской империей и независимыми эллинскими городами‑государствами
расположенной на Европейском континенте Греции. Он предсказывал, что, для того
чтобы сделать свое повествование понятным, он должен рассмотреть его в
контексте его исторического прошлого, и, рассмотрев его под этим углом зрения,
он понял, что греко‑персидский конфликт был последним эпизодом в причинно
связанной последовательности столкновений того же самого характера. Жертва
агрессии не довольствуется простой самообороной. Если ее защита успешна, то она
переходит в нападение. Несомненно, более ранние «акты» в геродотовской драме
кажутся искушенному читателю, скорее, курьезными, чем разъясняющими, ибо их
сюжет представляет собой перемежающийся ряд непрерывных похищений слишком
привлекательных молодых женщин. Финикийцы начали наследственную вражду (как
предполагается в эллинской версии истории), похитив эллинку Ио[598]. Эллины
ответили тем же, похитив финикиянку Европу[599]. Затем эллины
похитили колхидку Медею[600]. Троянцы
похитили эллинку Елену[601], на что
эллины ответили осадой Трои. Все это было очень глупо, «поскольку очевидно, что
эти женщины не позволили бы себя похитить, если бы так сильно этого не желали»,
и, во всяком случае, Парису не удалось бы убедить свою даму. Также очевидно,
что троянцы отказались бы от нее, будь у них возможность сделать это, и не
стали бы подвергаться 10‑летней осаде. По крайней мере, такими предстают
легенды, выйдя из‑под холодного душа рационализма, который является одной из
многих симпатичных черт Геродота. Как бы то ни было, когда греки начали
Троянскую войну, Арес заменил Афродиту в качестве председательствующего
божества на заседаниях. Как бы скептически мы ни относились к ряду похищений,
следует согласиться с тем, что Геродот проявил глубокую интуицию, рассматривая
греко‑финикийское столкновение как наиболее ранний акт в цепи, включающей в
себя и Греко‑персидскую войну.
Нет необходимости повторять наш собственный взгляд на это
отдельное сцепление столкновений вплоть до Персидских войн. Мы сразу же
проследим цепь наступлений и контрнаступлений в постгеродотовское время и
посмотрим, куда она нас ведет[602].
Сенсационное поражение персидских захватчиков в Греции
явилось лишь первой частью наказания, которое навлек на головы нарушителей этот
акт агрессии. Окончательным возмездием стало решение Филиппа Македонского
разбить противника его же оружием, завоевав империю Ахеменидов. И Александр
Македонский, которому настолько же поразительно удалось исполнить политическое
завещание своего отца, насколько не удалось Ксерксу[603] исполнить политическое завещание своего отца
Дария[604], начал первый
акт этой драмы. Уничтожение Александром империи Ахеменидов в IV в. до н. э. и
уничтожение Карфагенской империи Римом в III в. до н. э. принесло эллинскому
обществу власть над своими соседями, которая далеко превосходила наиболее
властолюбивые мечты эллинских авантюристов VI в. до н. э., которые плавали в
качестве торговцев до Тартесса[605] и служили наемниками в Египте и Вавилоне.
Однако этот необыкновенный успех послеалександровской эллинской агрессии в
должное время вызвал ответную реакцию со стороны ее восточной жертвы.
Закончившаяся успехом, эта ответная реакция медленно восстанавливала нарушенное
на протяжении долгого времени равновесие, когда спустя тысячу лет после
пересечения Александром Дарданелл его дело было окончательно уничтожено
примитивными мусульманскими арабами, которые в ряде блестящих военных кампаний
освободили все некогда принадлежавшие сирийскому обществу территории от Сирии
до Испании включительно, находившиеся еще в начале VII в. христианской эры под
властью Римской империи или ее вестготского государства‑наследника.
Восстановление сирийского универсального государства в форме
халифата Аббасидов, который охватывал бывшие владения как Ахеменидской, так и
Карфагенской империй, могло бы завершить это сцепление столкновений. К
несчастью, арабские мстители за сирийское общество, ставшее жертвой эллинской
агрессии, не удовольствовались изгнанием агрессора с территорий, в которые он
вторгся. Они принялись повторять ошибку Дария, перейдя в контрнаступление и при
этом непростительным образом оказавшись в подвешенном состоянии на непригодной
для обороны границе, которую все время надо было передвигать вперед, чтобы ее
не отодвинули назад. Арабы пересекли естественную границу Тавра, чтобы осадить
Константинополь в 673‑674 гг., и снова в 717 г. они пересекли естественную
границу Пиренеев, чтобы вторгнуться во Францию в 732 г., а в следующем столетии
– естественную границу моря, чтобы завоевать Крит, Сицилию и Апулию и основать
плацдарм на Средиземноморском побережье западно‑христианской цивилизации от
Роны до Гарильяно. Эти бессмысленные акты агрессии повлекли за собой возмездие
в должное время.
Взрывная реакция средневекового западно‑христианского
общества, скрытые энергии которого были пробуждены мусульманской агрессией
VIII–IX вв. христианской эры, нашла выражение в Крестовых походах, а они, в
свою очередь, вызвали ответную реакцию, которую можно было ожидать со стороны
их жертв. Усилиями Саладина и других поборников ислама до и после него
франкские крестоносцы были изгнаны из Сирии, а османы завершили незаконченное
православными греками дело по изгнанию их также и из «Ромеи». Когда оттоманский
император Мехмед II Завоеватель (правил в 1451‑1481 гг.) завершил дело своей
жизни, создав исламское универсальное государство для распадающегося греко‑православного
мира, представилась еще одна возможность прервать конфликт в точке равновесия,
но эта возможность была отвергнута. Как арабские мусульмане VIII–IX вв.
вторглись в западно‑христианский мир без всякого повода, во Францию, Италию и
другие области и тем самым спровоцировали энергичное, хотя и оказавшееся в
конечном итоге безуспешным контрнаступление средневекового Запада в форме
Крестовых походов, так в XVI‑XVII вв. христианской эры вторглись без всякого
повода турецкие мусульмане, продвигаясь от Дуная в глубь западных исконных
земель. На этот раз западная реакция приняла более оригинальную и
необыкновенную форму.
Охват западно‑христианского мира рогами оттоманского
полумесяца, едва не достигший успеха, убедил европейцев в том, что надо
сократить потери в средиземноморском тупике и снова вложить свою энергию в
завоевание океана, которое сделало их хозяевами мира. Этот ошеломляюще успешный
ответ Запада, как может показаться наблюдателю, живущему в середине XX в. христианской
эры, повлечет за собой контрответ или, возможно, несколько контрответов. Сейчас
мы проделали долгий путь от похищений Ио и Европы, и конец еще не наступил.
2. Разнообразие ответов
Наш обзор столкновений или, точнее, обзор сцеплений
столкновений, который мы привели в качестве иллюстрации ряда данного типа,
наводит на мысль о том, что в каждом столкновении, с одной стороны, есть
нападающий, а с другой – жертва. Тем не менее, поскольку эти понятия подразумевают
нравственное суждение, быть может, лучше было бы использовать нейтральные в
нравственном отношении понятия – агент и реагент или, используя понятия,
ставшие нам привычными в предыдущих частях данного «Исследования», – сторона,
бросающая вызов, и сторона, на этот вызов отвечающая. Теперь наша цель –
рассмотреть и классифицировать виды реакций или ответов, которые вызваны в
обществах, подвергшихся вызовам.
Конечно же, вполне возможна и такая ситуация, что нападение
первоначального агента окажется настолько подавляющим, что подвергшаяся
нападению сторона будет завоевана или даже уничтожена, не оказав какого‑либо
эффективного сопротивления. Такова, несомненно, была судьба многих примитивных
обществ, которые имели несчастье столкнуться с цивилизациями. Они исчезли, как
исчез дронт[606] с прибытием современного европейца на
Маврикий. Другие, более или менее удачливые, чем дронт, умудрились выжить в
человеческих «зоопарках» или заповедниках, представляя собой интерес для
антропологов. Однако для нас интерес представляют цивилизации, и мы уже видели
причину сомневаться в том, что всякая цивилизация претерпела эту судьбу – даже
такие хрупкие и кажущиеся невозвратно надломленными цивилизации Средней и
Андской Америки. После долгой жизни‑в‑смерти они могут снова появиться, как
сирийское общество вновь появилось и возобновило свою историю, будучи на
протяжении тысячелетия затопленным грузом эллинского общества.
Обозрение альтернативных типов реакции со стороны
подвергшейся нападению цивилизации мы начнем с тех, которые являются ответами,
аналогичными действию, каким они были вызваны, и самой заметной формой ответа
этого рода является ответ на силу силой. Например, индусские и православно‑христианские
жертвы агрессивного ирано‑мусульманского милитаризма ответили тем, что сами
стали воинственными. Это был ответ сикхов и маратхов на вызов монголов и ответ
греческих и сербских националистов на вызов османов. В истории полно примеров,
в которых слабейшая в военном отношении сторона отвечает таким образом,
овладевая военной техникой своих противников. Говорят, что русский царь Петр
Великий заметил после того, как его армия потерпела позорное поражение под
Нарвой от рук Карла XII[607]: «Этот человек
научит нас, как его побить». Действительно ли он сказал эти слова или нет – для
нас неважно, поскольку факты говорят сами за себя. А факты заключаются в том,
что Карл учил, Петр учился, и Карл был побит.
Коммунистические наследники петровского режима продвинулись
на шаг дальше, чем Петр. Не довольствуясь овладением промышленными и военными
техниками Германии и Соединенных Штатов, которые последовательно были западными
противниками России в период и после Второй мировой войны, русские коммунисты
создали новую форму войны, в которой старомодные методы борьбы при помощи
физической силы были заменены духовным боем, в котором главным орудием стала
«идеологическая» пропаганда. Инструмент пропаганды, которую коммунизм ввел в
действие в качестве нового оружия на арене мировой политики, не был создан его
новыми обладателями ex nihilo (из ничего). Впервые он был сформирован
миссионерами высших религий, а впоследствии усвоен современным западным
обществом лавочников в целях лучшего сбыта товаров.
Несмотря на то что коммунистическая пропаганда едва ли могла
улучшить практику современной западной коммерческой рекламы по расточительности
затрат на нее и по старательности обобщения данных о конъюнктуре рынка, она
стремилась и достигла того результата, который был одновременно и иным, и более
важным. Она показала себя способной пробудить энтузиазм, долго дремавший в
духовно изголодавшихся западных душах, так жаждавших хлеба, без которого
человек не может жить, что они проглотили слово, принесенное им коммунизмом, не
задавшись вопросом, Божье это слово или Антихристово. Коммунизм призвал
постхристианского человека излечиться от «ребяческой» ностальгии по «законно»
дискредитированной потусторонней утопии, перенеся свою веру с «несуществующего»
Бога на сам род человеческий, служению которому он мог бы посвятить все свои
силы, работая на построение «земного рая». «Холодная война» фактически явилась
ответом в плане пропаганды на вызов физического вооружения, и это был не первый
невоенный ответ, который был вызван старомодным военным вызовом.
«Духовный» ответ коммунистической России становился менее
впечатляющим в духовном плане для жителя Запада, когда он припоминал (если ему
нужно было припоминать), что эта идеологическая пропаганда была единственным
вспомогательным оружием в арсенале империалистической державы, которая уже
вооружилась до зубов оружием физическим. Мы пропускаем те случаи, в которых
полностью отказались от использования силы в качестве ответа на силу, и здесь
также было бы ошибкой приписывать это какому‑либо нравственному превосходству.
В подобных случаях обычно оказывается, что или об адекватном проявлении силы не
может быть и речи, или сила была применена, но безуспешно.
Замечательный пример мирного ответа на военный вызов дает
нам окружение вавилонского мира сирийским обществом в эпоху Ахеменидов как
результат культурного обращения иранских варваров, которые стали правителями
универсального государства. Миссионеры сирийской культуры, которые таким
образом победили вавилонских завоевателей, пленив иранские души, не были ни
военными, ни торговыми авантюристами. Они были «перемещенными лицами»,
депортированными ассирийскими и вавилонскими военачальниками с целью сделать их
раз и навсегда неспособными восстановить военную и политическую мощь их любимых
Израиля и Иудеи. Расчеты их завоевателей до определенного времени были верными.
Реакция, благодаря которой сирийские жертвы вавилонских милитаристов
перехватили инициативу из рук своих угнетателей, совершенно выходила за границы
кругозора угнетателей. Угнетателям до такой степени не удалось вычислить
возможность любого ответа в плане культурном, что они своими собственными
руками посадили своих жертв на поле культурной миссии, которое эти изгнанники
никогда бы не посетили, не будь они туда отправлены силой против их воли.
Таким образом, прилагая усилия по оказанию культурного
влияния на неевреев, среди которых она была рассеяна, сирийская диаспора была
движима заботой о сохранении своей общинной идентичности. В истории еврейских и
других deracines[608] та же самая забота чаще выражалась в
противоположной политике самоизоляции. Самоизоляция в ответ на назойливость
является еще одной разновидностью того типа реакции, которая действует в плане,
отличном от действия, на которое она является ответом. Эта политика
«изоляционизма» обнаруживается в своей простейшей форме, когда практикуется
обществом, естественная среда которого оказывается природной неприступной
цитаделью. Островное японское общество в своем первом столкновении с доинду‑стриальным
Западом отвечало португальским захватчикам подобным образом, и тот же самый
ответ был успешно дан приблизительно в то же время тем же захватчикам
абиссинцами в их горной цитадели. Тибетское нагорье служило почти неприступной
цитаделью для тантрической махаянской окаменелости угасшего индского общества.
Однако ни одно из этих проявлений физического изоляционизма, которому
способствовали географические факторы, не может сравниться, с точки зрения
интереса для исторического исследования, с тем психологическим изоляционизмом,
который явился ответом диаспоры на ту же угрозу своему существованию. Ибо
диаспоре пришлось столкнуться с этой угрозой в таких географических
обстоятельствах, которые далеко не способствовали ей, действуя в пользу ее
соседей.
Подобного рода изоляционизм является строго негативным
действием, и там, где он добивается хоть какого‑то успеха, он обычно будет
сопровождаться другими реакциями, скорее, позитивного порядка. В жизни диаспоры
ее психологическая самоизоляция оказалась бы невозможной, если бы те, кто
осуществлял ее, не развивали бы в то же самое время в экономическом плане
особую эффективность в использовании таких экономических возможностей, которые
были для них открыты. Почти сверхъестественная способность к экономической
специализации и дотошному соблюдению мелочей традиционного закона – вот два
главных средства обеспечения себя искусственными заменителями неприступных
границ или военной доблести.
Способ давать на силу ответ в культурном плане также
использовался теми обществами, которым было трудно нанести удар иностранной
державе, не дойдя до бедственного положения диаспоры. Православно‑христианские
райя османов и индусские райя монголов сумели поменяться ролями с этими людьми
меча, нанеся им ответный удар пером. Мусульманские завоеватели Индии и
православно‑христианского мира позволили миражу своих былых военных побед
ослепить себя перед реалиями следующей главы истории, в которой их царство было
разделено и отдано франкам. Райя предвидели грядущий триумф Запада и
приспособились к новому порядку.
Однако все эти ненасильственные ответы на вызов насилия,
которые мы здесь рассмотрели, конечно же, затмевает в крайней степени мирный и
в то же время в крайней степени позитивный ответ в виде создания высшей
религии. На влияние эллинского общества на своих восточных современников
ответом такого рода было появление культов Кибелы, Исиды, митраизма,
христианства и махаяны. А военное воздействие вавилонского общества на
сирийское вызвало появление иудаизма и зороастризма. Этот религиозный тип
ответа, тем не менее, выводит нас за пределы нашего настоящего исследования на
другие пути, где одна цивилизация может отвечать на вызов другой, поскольку,
когда столкновение между двумя цивилизациями служит основанием для появления
высшей религии, выход этого нового актера означает начало новой пьесы с другим
поворотом и сюжетом.
XXXIII.
Последствия столкновений между современными друг другу цивилизациями
1. Последствия неудачных нападений
Результат столкновения между современными друг другу
цивилизациями, вероятно, будет беспокоить обе стороны даже в самых
благоприятных обстоятельствах, когда цивилизация в ходе стадии роста успешно
отражает нападение. Классическим примером этого является влияние на эллинское
общество отражение им нападения со стороны Ахеменидской империи.
Первым ощутимым социальным следствием этой военной победы
явилось то, что эллинизму был дан стимул, на который он отвечал расцветом во
всех сферах своей деятельности. Однако по прошествии пятидесяти лет
политическое следствие этого же самого столкновения достигло своей высшей точки
в катастрофе, которую Эллада сначала не сумела предотвратить, а затем не сумела
оправиться от нее. Причиной ее постсаламинской политической катастрофы явилось
то же неожиданно блестящее появление Афин, которое явилось причиной
постсаламинского взрыва эллинских культурных достижений.
Мы уже отмечали в другом месте в данном «Исследовании», что
в эпоху, предшествовавшую Великой Персидской войне, Эллада завершила
экономическую революцию, в ходе которой стала способна содержать растущее
население в пределах уже более не расширявшихся владений, благодаря замене
новым экономическим режимом специализации и взаимодействия старого режима, при
котором каждый отдельный эллинский город‑государство представлял собой
экономически автономную единицу. В этой экономической революции Афины сыграли
решающую роль. Однако новый экономический режим не мог быть установлен, пока не
был вписан в структуру нового политического режима того же порядка. Тем самым в
конце VI в. до н. э. некая форма политической унификации стала самой насущной
потребностью для эллинского мира, и казалось, что решение будет найдено не
Афинами Солона и Писистрата, а Спартой Хилона и Клеомена.
К несчастью, в кризисе, с которым столкнулась Эллада в
результате рокового решения Дария подчинить власти Ахеменидов европейскую, так
же как и азиатскую, Элладу, Спарта позволила Афинам сыграть красивую роль.
Результатом явилось то, что Эллада, нуждавшаяся в спасении через единство,
стала страдать от пары конкурирующих спасителей, приблизительно равных по
силам. Развязкой стала Пелопоннесская война и все, что за ней последовало.
Состояние политической поляризации было также судьбой,
которая постигла наследника эллинского мира – православно‑христианский мир – в
результате его еще более удивительной победы, одержанной в час его собственного
рождения, над сирийским обществом, которое было восстановлено в форме Арабского
халифата. Накануне попытки арабов захватить Константинополь в 673‑677 гг.
православно‑христианский мир был на волосок от самоубийства, когда была угроза,
что анатолийский и армянский военные корпуса будут вовлечены в
братоубийственную распрю за верховную власть. Ситуацию спас гений императоров
Льва III и его сына Константина V[609], убедивших
соперничающие военные корпуса погасить свою междоусобицу и согласиться на
объединение в единой Восточной Римской империи, которая непреодолимо привлекала
их, явившись Римом, восставших мертвых. Это вызывание призрака, тем не менее,
не является средством спасения, которым можно пользоваться безнаказанно.
Взвалив на плечи младенческого православно‑христианского мира груз абсолютного
авторитарного государства, Лев Сириянин задал злополучное, а в конце концов
оказавшееся просто гибельным направление политическому развитию этого общества.
Если теперь мы приведем примеры последствий неудачных
нападений в истории не для победоносно ответившей стороны, а для отраженной
нападающей, то увидим, что последующие вызовы оказывались еще более суровыми.
Например, хетты оказались так безнадежно слабы в результате
перенапряжения в ходе своей неудачной попытки завоевать азиатские территории
Египта в XIV–XIII вв. до н. э., что они впоследствии были захлестнуты волной
постминоиского Völkerwanderung (переселения народов), и с этого времени
они сохранялись только в виде группы окаменелых общин, осевших в горах Тавра.
Последствия неудавшейся агрессии сицилийских греков против их финикийских и
этрусских соперников приняли более мягкую форму политического паралича, который
нанес урон их художественной и интеллектуальной деятельности.
2. Последствия успешных нападений
а) Воздействие на социальную систему
Мы уже замечали ранее в данном «Исследовании», что в
столкновениях между современниками, в которых воздействие нападающей стороны
заканчивается успешным проникновением в систему подвергшейся нападению стороны
культурного излучения нападающего, обычно оказывается, что две сталкивающиеся
стороны уже находятся в процессе распада. Мы также замечали, что одним из
критериев распада является раскол в социальной системе на меньшинство, которое
становится просто правящим, а не творческим, и на пролетариат, который морально
отчуждается от своих бывших вождей, ставших теперь просто «господами». Этот
социальный раскол, вероятно, уже появился в социальной системе общества, чье
культурное излучение успешно проникает в социальную систему одного из его
соседей. Социальным симптомом, который представляет собой самое замечательное
следствие этого всегда неблагоприятного и часто нежеланного успеха, является
обострение проблемы, и без того возникающей в связи с отчуждением пролетариата.
Пролетариат – внутренне неудобный элемент в обществе, даже
если он всецело является доморощенным продуктом. Однако это неудобство еще
более усиливается, когда его численность увеличивается, а в его культурную
модель вносится разнообразие благодаря притоку иностранного населения. История
показывает нам выдающиеся примеры империй, которые были несклонны увеличивать
свои проблемы за счет роста иностранного пролетариата. Римский император Август
сознательно не позволял своим войскам расширять границы своей Империи за
Евфрат. Австрийская Габсбургская империя как в XVIII в., так и впоследствии, в
течение периода германских побед в первой половине Первой мировой войны аналогичным
образом проявляла нежелание расширять свои границы на юго‑восток и тем самым
увеличивать славянский элемент в своем и без того слишком пестром населении.
Соединенные Штаты Америки после окончания этой же войны добивались аналогичной
цели совершенно иными средствами, а именно за счет резкого сокращения в
результате принятия законов 1921 и 1924 гг. числа предполагаемых иммигрантов,
которым позволялось въезжать на территорию этой страны из‑за моря. В XIX в.
правительство Соединенных Штатов исходило из оптимистического принципа, который
еврейский романист Исраэль Зангвиль[610] прозвал «тиглем». Предполагалось, что все
иммигранты или, по крайней мере, все иммигранты из Европы могут быстро
превратиться в «отъявленных» патриотичных американцев, и что поэтому, а также в
связи с тем, что обширные территории федерации были малонаселенными, республике
следует принимать всех по принципу «чем больше людей, тем веселее». После
Первой мировой войны возобладал более мрачный взгляд. Стали ощущать опасность
того, что «тигель» не справляется со своей работой. Гарантировало ли исключение
иностранного пролетариата исключение его духовных идей – «опасных мыслей», как
говорят японцы, – конечно же, другой вопрос, ответ на который оказывается
отрицательным.
Социальной ценой, которую приходится платить успешно
осуществившей агрессию цивилизации, является просачивание экзотической культуры
иностранных жертв в обыденную жизнь внутреннего пролетариата общества‑агрессора
и пропорциональное расширение моральной пропасти, уже разверзшейся между этим
отчужденным пролетариатом и претендующим на господство меньшинством. Римский
сатирик Ювенал, творивший во II в. христианской эры, заметил, что сирийский
Оронт втек в Тибр. В современном западном обществе, распространившем свое
влияние на весь обитаемый мир, не только маленький Оронт, но также и большой
Ганг и Янцзы втекли в Темзу и Гудзон, в то время как Дунай повернул свое
течение в обратном направлении и отложил культурный аллювий румынских,
сербских, болгарских и греческих прозелитов вверх по течению в переполненный
тигель в Вене.
Влияние успешного нападения на социальную систему
подвергшейся нападению стороны более сложно и при этом не менее пагубно. С
одной стороны, мы обнаружим, что тот элемент культуры, который был безобидным
или действовал благотворно в своей собственной социальной системе, будет
порождать новые разрушительные следствия в чужой социальной системе, в которую
он вторгся. Этот закон можно кратко сформулировать в виде поговорки: «То, что
для одного человека пища, для другого – яд». С другой стороны, мы обнаружим,
что если однажды отдельному элементу культуры удается при помощи силы войти в
жизнь подвергшегося нападению общества, то он стремится протащить за собой и
другие элементы того же самого происхождения.
Примеры этой разрушительной роли экспатриированного
культурного элемента, вторгающегося в чуждую социальную среду, уже привлекали
наше внимание. Мы, например, отмечали некоторые из трагедий, вызванных в
различных незападных обществах воздействием специфического политического
института западного мира. Неотъемлемой чертой западной политической идеологии
было настаивание ее на том, чтобы принимать в качестве принципа политического
объединения такую физическую случайность, как географическая близость. В
возникновении западно‑христианского общества мы видели, как появление этого
идеала в Вестготском королевстве сделало жизнь невыносимой для местной
еврейской диаспоры. Разрушение, проникшее таким образом в Вестготию, начало
беспокоить и мир за пределами родины западного христианства, когда мощная волна
современного западного культурного влияния приносила с собой в одну часть света
за другой эту специфическую западную политическую идеологию, которой теперь
придавало новую силу влияние нового духа демократии на старый институт
территориального суверенитета, воплощенного в местных государствах.
Мы уже видели, как в течение ста лет, предшествовавших 1918
г., лингвистический национализм разрушил Дунайскую монархию Габсбургов. Это
революционное изменение политической карты также дало сомнительное
благословение недолговечному политическому освобождению покоренных народов
бывшего Польско‑Литовского объединенного королевства, которое было разделено
между империями Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых к концу XVIII в. После
крушения в 1918 г. эти трех империй, участвовавших в разделе, маниакальное
стремление поляков восстановить границы 1772 г. как заповедник для Lebensraum
(жизненного пространства) привилегированной польской нации вызвало страстное
сопротивление со стороны литовцев и украинцев, которые прежде были польскими
партнерами, а не подданными в сверхнациональном государстве, учрежденном в 1569
г. Беспощадная борьба между тремя этими народами в течение следующих лет,
вдохновленная злым духом лингвистического национализма, приготовила дорогу
сначала для русско‑германского раздела 1939 г., а затем, после угрожающей
агонии – для русской коммунистической тирании, установленной в 1945 г.
Разрушение, произведенное современным западным
усовершенствованием традиционного западного института на восточноевропейской
окраине западного мира, не было таким трагическим, как влияние того же самого
вируса национализма на оттоманскую политическую систему, поскольку ни
непрактичная анархия Польско‑Литовского государства XVIII в., ни судорожная
просвещенная монархия австрийских Габсбургов не могли сравниться с оттоманской
системой millet по своей ценности в качестве альтернативного решения
общей проблемы нахождения реального политического устройства для государства,
состоявшего из географически смешанных общин, которые, скорее, походили на
ремесла и профессии, нежели на территориально отделенные национальности
Западной Европы. Прокрустовы методы, при помощи которых оттоманские millets
вырывались и резались на экзотической формы независимые национальные
государства, отмечались нами ранее в данной части, и здесь нет нужды
перечислять их снова. Здесь мы лишь отметим, что потрясающая жестокость,
которой сопровождалось разделение Британской Индийской империи на взаимно
враждебные «национальные» государства Индии и Пакистана и разделение британской
мандатной территории Палестины на взаимно враждебные государства Израиль и
Иорданию, являла собой пример пагубного воздействия западной идеологии
национализма, излучаемой на социальное окружение, в котором географически
смешанные общины прежде имели возможность жить вместе благодаря тому, что были
организованы в millets.
Разрушительные потенциальные возможности, которые способны
проявлять элементы культуры, когда они вырваны из своей структуры и введены в
чуждую социальную среду, можно также проиллюстрировать примерами из области
экономики. Деморализующий эффект импортированного западного индустриализма,
например, был особенно заметен в Юго‑Восточной Азии, где экзотическая
промышленная революция, ускоренная назойливой западной экономической
инициативой, породила географическую смесь еще социально не закаленных общин,
находящихся в процессе накопления человеческого топлива для экономической
топки.
«Повсюду в современном мире экономические силы напрягали
отношения между капиталом и трудом, промышленностью и сельским хозяйством,
городом и деревней. Однако на современном Востоке это напряжение сильнее по
причине соответствующего раскола на расовых основаниях… Иностранные жители
Востока не просто буфер между европейцами и местными жителями, но также и
барьер между местным и современным миром. Культ производительности просто
воздвиг монументальный западный небоскреб на восточной почве с местными
жителями в качестве основания. Все продолжали жить в той же стране, но здание
было из другого мира, современного мира, к которому местные жители не имели
доступа. В этом пестром хозяйстве конкуренция гораздо интенсивнее, чем в западном
мире. “Здесь материализм, рационализм, индивидуализм и концентрация на
экономических целях гораздо более полная и абсолютная, чем в однородных
западных землях; полная погруженность в обмен и рынок, капиталистический мир с
участием в предприятии как предмет более типичный для капитализма, чем можно
было представить в так называемых капиталистических странах, медленно выросших
из прошлого и все еще связанных с ним сотнями корней”{135}… Таким
образом, хотя эти различные зависимые страны внешне были изменены по западной
модели, фактически они видоизменились как экономические системы для
производства, а не для социальной жизни. Средневековое государство совершенно
неожиданно превратилось в современное предприятие»{136}. Наш второй
«закон» культурного излучения и приема представляет собой тенденцию культурной
модели, которая утверждается в излучающей социальной системе, чтобы вновь
утвердиться в воспринимающей системе посредством собирания и объединения в ней
составляющих культуру элементов, отделившихся друг от друга в процессе
передачи. Этой тенденции приходится бороться с противоположной тенденцией
подвергшегося нападению общества к сопротивлению, однако подобное сопротивление
обычно может только замедлить данный процесс, но не остановить его. Когда мы
наблюдаем, как этот медленно идущий процесс делает успехи, приводящие его к
трудно достижимой цели проникновения всей осаждающей толпы мидян внутрь
осажденной крепости Израиля, то наиболее изумительной стороной в этом
мучительном чуде является, конечно же, не сопротивление игольных ушей, но
назойливость верблюда[611]. Вторгающиеся
элементы культуры не до такой степени отделимы друг от друга, как мы могли бы
предположить, и «одна вещь влечет за собой другую».
Подвергшиеся нападению общества в действительности не всегда
неспособны оценить возможные последствия, которые вытекают из разрешения хотя
бы кажущемуся самым незначительным и безобидным элементу культуры проникнуть
внутрь них. Мы уже обращали внимание на некоторые исторические столкновения, в
которых подвергшемуся нападению обществу удавалось отбросить атаку нападающего,
не давая ему возможности даже временно закрепиться на захваченной позиции. А
бескомпромиссная политика самоизоляции, добивавшаяся таких редких побед,
применялась также и в других случаях, когда она оборачивалась неудачей. Мы
назвали эту политику зелотством по имени еврейской партии, стремившейся
отвергнуть или изгнать эллинскую культуру «целиком и полностью» из «Святой
земли». Характерным этосом зелотов является эмоциональность и интуиция, однако
политика может также проводиться на основании хладнокровного рационализма. Классический
пример этого последнего духа представлен в разрыве отношений между Японией и
западным миром, который по зрелом размышлении был постепенно доведен до конца
Хидэёси и его наследниками из династии Токугава за пятьдесят один год к 1638 г.
Гораздо неожиданнее обнаружить, как подобное же осознание внутренней
взаимозависимости всех разнообразных элементов в навязанной извне культурной
модели ведет аналогичным путем размышления к аналогичному выводу в сознании
старомодных правителей уединенной и удаленной арабской страны.
Пикантной иллюстрацией рационалистического состояния ума
зелота является диалог, произошедший 1920‑х гг. между зейдитским имамом Саны
Яхьей[612] и британским посланником, в миссию которого
входило убедить имама возвратить обратно мирным путем часть Британского
протектората Аден, оккупированного в ходе Первой мировой войны 1914‑1918 гг. Во
время последней встречи, когда стало ясно, что миссия не достигла своей цели,
британский посланник, желая придать разговору иной оборот, говорит комплименты
имаму по поводу замечательной военной выправки его созданной по новому образцу
армии. Увидев, что имам воспринял комплимент положительно, он продолжал:
– И я думаю, что вы примете также и другие западные
институты!
– Я думаю, нет, – сказал имам с улыбкой.
– Действительно? Это интересно. Могу ли я спросить вас,
почему?
– Я не думаю, чтобы мне понравились другие западные
институты, – сказал имам.
– В самом деле? А какие институты, например?
– Ну, например, парламенты, – сказал имам. – Мне нравится
править самому. Парламент показался бы мне надоедливым.
– Почему же? Что касается парламента, – сказал англичанин, –
то могу вас уверить, что ответственное парламентское правительство не является
неотъемлемой частью аппарата нашей западной цивилизации. Возьмем Италию. Она
совсем отказалась от парламента и является одной из величайших западных держав.
– Ну, тогда алкоголь, – сказал имам. – Я не хочу видеть, как
его ввозят в мою страну, где в настоящее время он, к счастью, почти неизвестен.
– Вполне естественно, – сказал англичанин, – но что касается
этого, то уверяю вас, что алкоголь также не является неотъемлемой
принадлежностью западной цивилизации. Возьмем Америку. Она отказалась от него и
также является одной из величайших западных держав.
– Как бы то ни было, – сказал имам и снова улыбнулся, по‑видимому,
намекая на то, что разговор закончен, – я не люблю парламенты, алкоголь и
такого рода вещи.
Мораль этой истории состоит в том, что, проявляя свою
проницательность в осмыслении ситуации, имам косвенным образом предъявлял
обвинение нерешительности своей воли. Приняв в своей армии зачатки западной
техники, он уже положил скромное, но многообещающее начало. Он начал культурную
революцию, которая в конце концов не оставила йеменцам альтернативы, но покрыла
их наготу уже полностью изготовленным на Западе обмундированием.
Если бы имам встретился со своим индусским современником
Махатмой Ганди, то вот что ему сказал бы индусский государственный деятель‑святой.
Призвав своих соотечественников‑индусов вернуться к прядению и тканию хлопка
вручную, Ганди в действительности показывал им способ, как выпутаться из
опутавшей их паучьей паутины западной экономики. Однако политика Ганди основывалась
на двух предположениях, которые были бы оправданны в том случае, если бы эта
политика достигла своей цели. Первое предположение заключалось в том, что
индусы были бы готовы принести экономические жертвы, которые влекла за собой
эта политика. А они, конечно же, были не готовы. Однако даже если бы Ганди и не
разочаровался в своих ожиданиях по поводу экономической незаинтересованности
своих соотечественников, его политика потерпела бы крах из‑за ошибочности
второго предположения, которое заключалось в неправильном представлении о
духовном качестве вторгающейся культуры. Ганди позволял себе видеть в западной
цивилизации позднего Нового времени не более как светскую социальную структуру,
в которой технология заменила собой религию. Ему явно не приходило на ум, что
его совершенное использование современных методов политической организации,
гласности и пропаганды было таким же «западным», как и хлопковые фабрики, на
которые он нападал. Однако надо идти еще дальше, поскольку сам Ганди был
продуктом культурного излучения Запада. Духовным событием, которое освободило
«силы души» Ганди, было столкновение в святилище его души между духом индуизма
и духом христианского Евангелия, воплощенным в жизни «Общества друзей»[613]. Святой
Махатма и воинственный имам оказывались здесь в одинаковых условиях.
В общих понятиях столкновений между цивилизациями можно
сказать, что когда подвергшейся нападению стороне не удается предотвратить
закрепления в ее социальной системе хотя бы одного элемента агрессивно
излучающей культуры, единственный шанс ее сохранности состоит в осуществлении
психологической революции. Она может спастись, отказавшись от зелотского
отношения и усвоив противоположную тактику иродианства, состоящую в борьбе
против нападающего его же собственным оружием. Если мы возьмем в качестве
примера столкновение османов с Западом позднего Нового времени, то увидим, что
неохотно проводимая султаном Абдул‑Гамидом II политика минимальной
вестернизации закончилась неудачей, в то время как искренняя максимальная
вестернизация Мустафой Кемалем Ататюрком предложила практический путь к
спасению. Бессмысленно предполагать, что общество может вестернизировать свою
армию, а в остальных отношениях продолжать существовать как и прежде.
Бессмысленность такого предположения уже была проиллюстрирована примерами
петровской России, Турции XIX в. и Египта Мухаммеда Али. Вестернизированная
армия не просто нуждалась в вестернизированной науке и промышленности,
образовании и медицине. Сами армейские офицеры приобретали западные взгляды,
совершенно не подходящие их профессиональному умению, особенно если их посылали
за границу для обучения своей профессии. История всех трех стран демонстрирует
одну парадоксальную черту в виде группы армейских офицеров, возглавляющих
«либеральные» революции. Подобное зрелище представляла собой безуспешная
русская «декабристская» революция 1825 г., безуспешная египетская революция, возглавленная
Ораби‑пашой[614] в 1881 г., и турецкая революция Комитета союза
и прогресса в 1908 г., которая не была безуспешной, но которая закончилась
катастрофой через десять лет после ее начала.
б) Ответы души
i) Дегуманизация
Обратившись от социальных к психологическим последствиям
столкновений между современными друг другу цивилизациями, мы снова найдем
удобным для нас отдельно рассмотреть соответствующие его воздействия на стороны,
играющие прямо противоположные роли – «агента» и «реагента», нападающего и
подвергшегося нападению. Сначала будет лучше рассмотреть воздействие на агента,
поскольку именно он берет на себя инициативу в столкновении.
Представители агрессивно излучающей цивилизации, успешно
проникшей в чуждую социальную систему, склонны поддаваться гордыне фарисея,
благодарящего Бога за то, что он не таков, как прочие люди[615]. Правящее
меньшинство склонно смотреть на новобранцев, мобилизованных в ряды его
внутреннего пролетариата из покоренной чуждой социальной системы, свысока, как
на недочеловеческих «побежденных». Кара Немезиды, сопутствующая этой отдельной
высокомерной тенденции, бывает особенно ироничной. Относясь как к «побежденным»
к тем людям, которые случайно оказались в их власти, «победившие» невольно
подтверждают ту истину, которую они намеревались опровергнуть. Эта истина
состоит в том, что все люди равны в глазах Творца. Единственный результат,
которого добиваются люди, стремящиеся лишить своих собратьев их человечности,
состоит в том, что они сами лишаются собственной человечности. Однако же все
проявления бесчеловечности не в одинаковой степени отвратительны.
Наиболее мягкую форму бесчеловечности, вероятно, будут
проявлять представители совершившей удачную агрессию цивилизации, в культурной
модели которой религия является руководящим и направляющим элементом. В
подобном обществе стремление отказать «побежденным» в человечности примет форму
утверждения их религиозного ничтожества. Господствующее христианство заклеймит
его как некрещеного язычника, господствующий ислам – как необрезанного
неверного. В то же время признавали, что неполноценность «побежденных» может
быть исправлена путем религиозного обращения, и во множестве случаев
«победившие» оказывали влияние на это исправление, возможно, даже во вред своим
интересам.
Потенциальная универсальность Церкви символизировалась в
изобразительном искусстве средневекового христианства обыкновением изображать
одного из трех волхвов[616] негром, а в практике западно‑христианского
мира раннего Нового времени, который навязал свое присутствие всем существующим
человеческим обществам благодаря подвигу овладения океанской навигацией, то же
самое чувство универсальности Церкви искренне проявлялось в готовности
испанских и португальских конкистадоров идти на все виды социальных связей,
включая брак, с обратившимися в римское католичество после Тридентского собора,
невзирая на их «цвет». Испанские завоеватели Перу и Филиппин настолько сильнее
желали передать свою религию, нежели передать свой язык, что наделили местные
языки завоеванных народов средствами сопротивления кастильскому, развив эти
языки в качестве языков католического богослужения и литературы.
В подобной демонстрации искренности своих религиозных
убеждений испанских и португальских строителей империй предвосхитили
мусульмане, которые с самого начала вступали в смешанные браки со своими
обращенными, невзирая на расовые различия. Однако мусульмане пошли еще дальше.
Исламское общество унаследовало из заповедей, содержащихся в Коране, признание
того, что существуют некоторые неисламские религии, которые несмотря на свою
недостаточность, являются частичными откровениями Божественной истины. Это
признание, первоначально относившееся к иудеям и христианам, впоследствии было
распространено и на зороастрийцев и индусов. Тем не менее мусульманам не
удалось подняться над этим относительно просвещенным уровнем, когда они
столкнулись с сектантскими различиями между суннизмом и шиизмом внутри
собственной религиозной общины. Здесь они снова показали себя в таком же дурном
свете, как и христиане «ранней Церкви» или же «периода Реформации» в
аналогичных обстоятельствах.
Следующей наименее пагубной формой отрицания «победившими»
человечности «побежденных» является утверждение культурной ничтожности
«побежденных» в обществе, которое вышло из традиционной религиозной куколки и
перевело свои ценности на язык секулярных понятий. В истории культурной
агрессии цивилизаций второго поколения это было дополнительным значением
разграничения, проводимого между эллинами и «варварами». А в западном мире
позднего Нового времени эта культурная дихотомия человечества нашла своих
истолкователей во французах в их отношениях с северо‑американскими индейцами в
XVIII в., с магрибинцами и вьетнамцами в XIX в. и с африканскими неграми юга
Сахары в XX в. христианской эры. То же самое отношение было усвоено голландцами
в их отношениях с малайскими народами Индонезии.
Сесил Родс[617], стремился
воспламенить тот же самый культурный идеал в сердцах говорящих на голландском и
английском языках южных африканцев, когда создал свой лозунг: «Равные права для
каждого цивилизованного человека к югу от Замбези».
В Южной Африке эта искра идеализма была погашена после
учреждения Союза в 1910 г. из‑за взрыва узкого и яростного национализма
голландских африканеров, стремившихся подчинить своей власти южноафриканских
соотечественников, происходивших из народов банту, индонезийцев и индийцев, во
имя превосходства, основанного не на культуре или религии, но на расе. С другой
стороны, французы достигли впечатляющего размаха в придании политического
эффекта своим культурным убеждениям. Например, в Алжире возможность получить
полноценное французское гражданство с 1865 г. была предоставлена местным
алжирским подданным, исповедующим ислам, на условиях их согласия с французским
гражданским правом, включая такую решающую отрасль гражданского права,
известную как личный статут, которую статус полноценного французского
гражданства автоматически накладывает на принявших его.
Искренность французов в осуществлении этого идеала открытия
всех политических и социальных дверей для всякого, кто успешно обучится
французской версии западной культуры позднего Нового времени, была
продемонстрирована одним случаем, который, отстаивая честь Франции, оказал
заметное влияние на исход Второй мировой войны. После падения Франции в июне
1940 г. вопрос величайшей важности состоял в том, кто сумеет собрать
африканские территории Французской империи для общего дела – правительство Виши[618] или движение «Сражающаяся Франция»?[619] В это время губернатор провинции Чад во
Французской Экваториальной Африке был французским гражданином негритянского
происхождения. И этот француз‑негр по своему культурному усыновлению должным
образом взял на себя ответственность, сделав выбор в пользу движения
«Сражающаяся Франция», тем самым предоставив этому движению, до тех пор всецело
базировавшемуся в Лондоне, первый плацдарм во Французской империи.
Культурный и религиозный критерии различия между
«победившими» и «побежденными» – это критерии, которые при всех своих
недостатках все же не фиксируют жестко пропасть между двумя частями,
составляющими единую человеческую семью. «Язычник» может преодолеть эту
пропасть благодаря своему обращению. «Варвар» может преодолеть эту пропасть, сдав
экзамен. Решительный шаг назад в своем восхождении «победивший» делает, когда
ярлыком для «побежденного» становится не «язычник» или «варвар», а «туземец».
Клеймя членов чуждого общества на их родине как «туземцев», «победивший»
отрицает их человечность, утверждая их политическое и экономическое
ничтожество. Называя их «туземцами», он безоговорочно приравнивает их
нечеловеческой фауне и флоре девственного Нового света, ожидающей, чтобы
человеческие первооткрыватели вошли в него и стали его обладателями. В этих
условиях отношение к фауне и флоре может быть двояким: или как к паразитам и
сорнякам, которых нужно истребить, или как к природным ресурсам, которые нужно
сохранить и использовать.
В иной связи мы уже сталкивались с классическими
представителями, практикующими эту отвратительную философию, в лице тех
евразийских кочевнических орд, которым иногда удавалось устанавливать свое
правление над завоеванными оседлыми народами. Относясь к своим человеческим
собратьям, как к дичи или же как к скоту, оттоманские строители империи были
так же безжалостно и надменно последовательны, как и французские строители
империи, относившиеся к своим подданным, как к варварам. И хотя верно, что
несвободные французские подданные были гораздо богаче, чем оттоманские ra'ïyah,
верно и то, что для талантов человеческого домашнего животного, которое
османский пастух дрессировал, чтобы сделать из него человеческую овчарку, была
открыта более блистательная карьера, нежели для африканского évolué[620] , когда тому удается стать французским
чиновником или писателем.
В позднее Новое время англоязычные протестантские
первопроходцы заморской экспансии западного общества даже превзошли
кочевнических строителей империй в их грехе, исключая «туземцев» из числа
людей. В этом повторении старого преступления самой зловещей чертой была склонность
идти на дальнейший шаг, до которого османы никогда не опускались, и закреплять
утверждение политической и экономической ничтожности «туземцев», клеймя их как
порождение «низших рас».
Из четырех клейм, которые «победившие» ставили на
«побежденных», это клеймо расовой неполноценности было наиболее зловредным. По
трем причинам. Во‑первых, это было утверждение ничтожности «побежденного» как
человеческого существа без каких‑либо качеств, в то время как названия
«язычник», «варвар» и «туземец», какими бы он ни были несправедливыми, все же
были лишь отрицанием того или иного отдельного человеческого качества и отказом
в том или ином соответствующем отдельном человеческом праве. Во‑вторых, эта
расовая дихотомия человечества отличалась от религиозной, культурной и политико‑экономической
дихотомий тем, что закрепляла пропасть, которая была непреодолимой. В‑третьих,
расовое клеймо отличалось от религиозного и культурного (хотя в этом отношении
и не отличалось от политико‑экономического) тем, что выделяло в качестве
критерия наиболее поверхностные, незначительные и ничтожные аспекты
человеческой природы – цвет кожи или форму носа.
* * *
ii) Зелотство и иродианство
Когда мы обращаемся к изучению ответа подвергшейся нападению
стороны, то обнаруживаем, что она, по‑видимому, выбирает между двумя
противоположными линиями поведения, для которых мы уже нашли и использовали в
различных частях данного «Исследования» названия, заимствованные из рассказов
Нового Завета.
В эту эпоху эллинизм теснил еврейство во всех плоскостях
социальной деятельности. Еврей не мог избежать или проигнорировать, даже если
бы захотел, вопрос о том, становиться ему эллином или нет. Зелотская
группировка формировалась из людей, чьим побуждающим мотивом было отражение
агрессора и отступление в духовную цитадель собственного еврейского наследия. В
основе воодушевлявшей их веры лежало убеждение в том, что если они останутся
верны традиции предков, всецело придерживаясь только ее, то они получат из
ревниво охраняемого источника своей духовной жизни сверхъестественную силу,
которая сделает их способными отразить агрессора. С другой стороны, иродианская
группировка формировалась из сторонников придерживавшегося противоположных
взглядов государственного деятеля[621], чье
идумейское происхождение вместе с его личным гением сделали способным этого
сына недавно включенной в состав Маккавейского царства языческой провинции
придерживаться менее предубежденного взгляда на данную проблему. Политика Ирода
Великого состояла в том, чтобы научиться у эллинизма всем достижениям, которые
могли бы оказаться необходимыми евреям для выполнения разумной и справедливой
цели – сохранить свою собственную и вести более или менее спокойную жизнь в
эллинизированном мире, который был их неизбежным социальным окружением.
Еврейские иродиане существовали задолго до времен Ирода. Мы
можем проследить истоки добровольной самоэллинизации еврейской общины,
переселившейся в Александрию, вплоть до самого младенчества этого города‑тигля
сразу после смерти его основателя. Даже в холмистой стране Иудее первосвященник
Иешуа‑Иасон, который является прототипом иродианской школы государственного
правления, до 160 г. до н. э. был занят своей дьявольской работой (каковой она
казалась зелотам) по совращению своих юных сторонников на непристойное
обнажение тел в эллинских палестрах и на вульгарное прикрытие своих голов
широкими полями эллинского петаса. Эта провокация вызвала современную зелотскую
реакцию в том виде, в каком она увековечена в двух Маккавейских книгах.
Еврейское зелотство не было уничтожено ни катастрофой римского разорения
Иерусалима в 70 г. н. э., ни даже ее решительным повторением в 135 г. н. э.,
ибо рабби Йоханан бен Заккай отвечал на этот вызов, наделив еврейство жесткой
институциональной структурой и упрямым психологическим габитусом, которые дали
ему возможность сохранить свою характерную общинную жизнь в непрочной обители
политически немощной диаспоры.
Тем не менее еврейство было не единственной сирийской
общиной, а сирийское общество – не единственной восточной цивилизацией, которая
в ответ на вызов эллинизма разделилась на иродианский и зелотский лагери.
Зелотские восстания сирийских плантационных рабов на Сицилии во II в. до и. э.
были уравновешены в Риме в следующем имперском веке иродианским наплывом потока
сирийских вольноотпущенников, обратившихся в эллинизм. И наоборот, иродианство
более зажиточных и более утонченных слоев сирийского общества, с которыми
эллинское правящее меньшинство было готово вступать в социальное
сотрудничество, уравновешивалось призывом других сирийских высших религий,
кроме иудаизма, в ряды духовно чуждого и оскверняющего зелотского нестроевого
отряда в качестве орудий ведения светской культурной войны. Зороастризм,
несторианство, монофизитство и ислам следовали примеру иудаизма в этом духовно
губительном отклонении от истинного пути религии. Однако последние три из этих
искаженных религиозных движений в конечном итоге возместили свое зелотское
отклонение иродианским актом, переведя на свои богослужебные языки классические
произведения эллинской философии и науки.
Если мы взглянем теперь мельком на психологические реакции,
проявившиеся в обществах, которые сталкивались со средневековым западно‑христианским
миром, то обнаружим наиболее радикальных практиков иродианства, известных
истории, в тех бывших язычниках – скандинавских варварах‑захватчиках, которые в
результате одной из самых ранних и одной из самых выдающихся побед западной
культуры стали норманнскими представителями и распространителями западно‑христианского
образа жизни. Норманны приняли не только религию, но также и язык и поэзию
романоязычного населения того государства‑наследника, которое они создали для
себя в галльском центре империи Каролингов. Когда носивший французское имя
норманнский менестрель Тайлефер возвысил свой голос, чтобы воодушевить своих
собратьев‑рыцарей во время битвы при Гастингсе, он декламировал не «Сагу о Вёл
ьсунгах»[622] на древнескандинавском, а «Песнь о Роланде» на
французском языке. Еще до того как король Англии Вильгельм Завоеватель своевольно
поддержал рост нарождающейся западно‑христианской цивилизации в отсталой и
обособленной провинции, завоеванной им оружием, другие норманнские авантюристы
принялись расширять грайицы западно‑христианского мира на другом конце света за
счет православно‑христианского и исламского миров в Апулии, Калабрии и на
Сицилии. Но гораздо более замечательным было иродианское принятие западно‑христианской
культуры теми скандинавами, которые оставались у себя на родине.
Это восприимчивое отношение викингов к чуждым культурам не
ограничивалось культурой западно‑христианского мира. Мы обнаружим его также во
влиянии, оказанном византийскими и исламскими искусством и институтами на
норманнов Сицилии; в примеси дальнезападной христианской кельтской культуры,
приобретенной датскими поселенцами в Ирландии и норвежскими – на Западных
островах; в принятии православно‑христианской культуры русскими скандинавскими
завоевателями славян‑варваров в бассейнах Днепра и Невы.
В других обществах, сталкивавшихся со средневековым западно‑христианским
миром, мы обнаруживаем, что иродианский и зелотский порывы сбалансированы
гораздо равномернее. Например, зелотская реакция исламского мира на Крестовые
походы до некоторой степени была уравновешена расположенным к норманнам
иродианством киликийских армянских монофизитов, обратившихся к западно‑христианскому
образу жизни.
Нашу пару противоположных психологических реакций можно
также обнаружить и в историях столкновений православно‑христианского и
индусского миров с агрессивной ирано‑мусульманской цивилизацией. В основном
стволе православно‑христианского мира при Оттоманской империи большинство
жителей придерживались религии предков, церковную независимость которой они
предпочли сохранить ценой подчинения чуждому политическому режиму. Однако это
зелотство частично компенсировалось (даже в религиозном плане) меньшинством,
которое стало мусульманским по социальным или политическим мотивам. Гораздо
большее число поддалось иродианству более тривиальным, хотя и не менее
значимым, способом, учась языку своих хозяев и подражая им в одежде. Реакция
индусов Империи Великих Моголов была во многом схожей. Однако в Индии обращение
в религию завоевателей приобрело гораздо более широкий масштаб, особенно среди
социально подавленных и лишь недавно обратившихся в индуизм языческих жителей
Восточной Бенгалии, потомки которых в XX столетии христианской эры принялись за
создание обособленной восточной провинции Пакистан.
Столкновения цивилизаций с современным Западом уже
описывались нами ранее в настоящей части данного «Исследования».
Если мы захотим перепроверить сделанные нами выводы с
психологической точки зрения, то мы обнаружим во всех их чередованиях и во всех
конфликтах между ними противоположные импульсы зелотства и иродианства. Случай
дальневосточного общества в Японии можно выбрать в качестве наиболее яркого
примера. После раннего опыта иродианства японцы вошли в строго и успешно
удерживавшуюся фазу зелотства, когда сёгунат Токугава порвал отношения между
Японией и Западом. Немногочисленное иродианское меньшинство, тем не менее,
сохранялось в лице тех тайных христиан, которые оставались верны объявленной
вне закона иностранной вере на протяжении более чем 200 лет, пока после
Революции Мэйдзи 1868 г. не стало возможным, наконец, вновь открыто ее
исповедовать. Незадолго до этой даты, однако же, их ряды были укреплены за счет
второго японского иродианского движения, вдохновленного тайными
исследователями, которые к этому времени при голландском посредничестве в
секрете изучали новую науку секуляризованного Запада Нового времени. После
Революции Мэйдзи это новоиспеченное иродианство осуществляло контроль над
японской политикой, результаты которого испугали мир.
Но была ли эта последняя фаза всецело иродианской? Здесь мы
останавливаемся перед некоторой двусмысленностью одного, а возможно, и обоих
выбранных нами сравниваемых понятий. Для зелотство цель ясна. Она состоит в
отрицании «страшных даров греков». Однако средства различны и располагаются в
диапазоне от положительного метода открытой войны в духе Маккавеев до отрицательного
метода самоизоляции – в результате ли правительственного акта в форме закрытия
границ, как в Японии, или в результате действия индивидов, сохраняющих свои
характерные особенности как особый народ благодаря частному предпринимательству
на манер евреев диаспоры. С другой стороны, для иродианства средства ясны. Они
состоят в принятии «даров греков» с распростертыми объятиями – будь то религии
ил и динамо‑машины. Но что является его целью? Для таких наиболее радикальных
из иродиан, как скандинавы, викинги или норманны, целью, – которую они
преследовали, возможно, и бессознательно, но которую, по крайней мере, с
успехом достигли, – было полное смешение со столкнувшейся с ними цивилизацией.
Общим местом средневековой западной истории является как раз то, что норманны
прошли удивительно быстро через фазы обращения, руководства и исчезновения.
Ранее на страницах данного «Исследования» мы цитировали двустишие современника
тех событий Вильгельма Апулийского[623]:
Moribus
et lingue, quoscumque venire uidebant.
Informant
proprie, gens efficiatur ut una.
«Они
перенимают обычаи и язык тех, кто соответствует их нормам, до такой степени,
что в результате образуют с ними единое племя».
Однако всегда ли это является целью иродиан? Если мы верно
интерпретировали политику Ирода Великого, этот герой – эпоним иродианства
полагал (ошибочно, как мы выяснили в других случаях), что гомеопатическая доза
эллинизма была бы лучшим средством для обеспечения сохранности еврейства.
Современное иродианство Японии, несомненно, ближе к той политике, которую мы
приписали Ироду, нежели к практике норманнов. Современные японские государственные
деятели составили себе мнение, что именно техническая революция, которая
превратила Японию в великую державу западного образца, сможет способствовать
тому, что японское общество сохранит свою индивидуальность. Это было
преследование зелотской цели иродианскими средствами. Подтверждение этого
диагноза можно найти в указе 1882 г., которым вестернизированное в
технологической сфере японское правительство предусматривало такую официальную
организацию, как государство Синто, в котором воскрешенное добуддийское
язычество использовалось в качестве средства обожествления живого японского
народа, общества и государства. Это было устроено при помощи
расконсервированного символизма архаического культа императорской династии,
которая, как полагали, происходила от богини Солнца. Этот культ осуществляется
в почитании наследственной коллективной божественности, которая здесь и теперь
выражается в явлении бога, постоянно воплощающегося в личности правящего
императора.
Трудности, свойственные применению наших альтернативных
понятий, на первый взгляд казавшихся такой простои дихотомией, становятся
очевидными, к каким бы примерам мы ни обратились. Например, как мы должны
классифицировать сионистское движение? Оно навлекло на себя неудовольствие со
стороны тех явно зелотски настроенных пуританских приверженцев обрядовой
традиции, в чьих глазах сионисты были виновны в отсутствии набожности – в том,
что позволили себе осуществить по своей собственной инициативе и при помощи
силы физический возврат на Землю обетованную, что является прерогативой Бога и
что Он должен был Сам совершить в свое время. Однако сионистское движение также
навлекло на себя неудовольствие со стороны не менее явно иродиански настроенных
ассимиляционистов, которые порицали иррациональную веру в то, что евреи –
«избранный народ», и которые во многом принимали современный либеральный тезис
о том, что иудейское вероисповедание, подобно другим религиям, было куколкой,
служившей своей цели.
Две величайшие личности XX столетия – Ленин и Ганди –
представляют для нас в равной степени трудную загадку. Кажется, что оба они,
наподобие римского бога Януса, смотрят одновременно в две разные стороны. Из их
произведений можно извлечь монотонное и бесконечное собрание брани по отношению
к Западу и всем его делам, однако их учение пропитано элементами западной
традиции – ленинское учение пропитано материалистической традицией, восходящей
к Марксу, а учение Ганди – христианской традицией в том виде, в каком она была
передана последователями Джорджа Фокса[624]. Когда Ганди
осуждает индусский институт касты, он проповедует западное Евангелие на не
очень восприимчивой для миссионерства индусской почве.
Рассмотренные в качестве альтернативных линий поведения,
открытых для членов подвергшихся нападению обществ, зелотство и иродианство, за
исключением немногих простых (возможно, и упрощенных) примеров, с которых мы
начали обсуждение этой темы, кажутся исчезающими в тумане внутреннего
противоречия. Однако мы не должны забывать, что в наши намерения входило
обсуждение не социально‑политических линий поведения, а индивидуальных ответов
души. Как таковые они могут быть рассмотрены в качестве примеров альтернативных
реакций, названных нами архаизмом и футуризмом и исследованных ранее в данном
«Исследовании», когда мы рассматривали «раскол в человеческой душе»,
проявившийся в надломленных и вошедших в фазу распада цивилизациях. В этом
контексте мы определили архаизм как попытку вернуться к одному из тех более
счастливых состояний, о котором в «смутное время» сожалеют тем сильнее (а
возможно, и более не исторически идеализировали), чем дальше отстоит оно от
современности. Под это определение, несомненно, подходит зелотство. В том же
самом контексте мы характеризовали архаизм следующим образом:
«Атмосфера неудачи (а там, где не было явной неудачи, –
атмосфера тщетности) окружает практически все исследованные нами примеры
архаизма. Причину этого найти нетрудно. Архаист осужден, в силу самой природы
своего предприятия, на вечные попытки примирения прошлого с настоящим… Если он
попытается восстановить прошлое, не обращая внимания на настоящее, тогда поток
жизни, всегда движущейся вперед, разломает его хрупкое строение на части. С
другой стороны, если он соглашается подчинить свою прихоть восстановления
прошлого задаче осуществления его в настоящем, тогда его архаизм оказывается
обманом»[625].
Футуризм определялся в этом контексте как попытка убежать от
неприятного настоящего, прыгнув в неизвестное и непостижимое будущее. Этот
маневр также оканчивается неудачей. Что касается иродианства, то оно является
опосредованной имитацией второго из двух общественных институтов и этосов. В
лучшем случае оно окажется пародией на, возможно, не самый выдающийся оригинал,
в худшем случае – противоречивым соединением несоединимых элементов.
* * *
iii) Евангелизм
Является ли неизменное поражение зелотства и иродианства
последним словом, которое оракул истории должен дать в ответ на просьбу
осветить духовные последствия столкновений? Если это действительно так, то
тогда перспективы человечества угрожающи, ибо в таком случае мы можем прийти к
выводу, что наше нынешнее предприятие по созданию Цивилизации было невыполнимой
попыткой вскарабкаться на неприступную высоту.
Это великое предприятие было начато, как можно вспомнить, с
той новой отправной точки, в которой силы человеческого воображения, отваги и
разносторонности оказались равносильными трудностям, постоянно сопровождающим
смену направленности, которой человечество сумело достичь на этой важной стадии
человеческой истории. Первобытный человек, который уже давным‑давно остановился
в своем развитии из‑за эпиметеевской направленности своей способности мимесиса
на прошлое, на своих отсталых старейшин и предков, теперь вновь высвободил свой
прометеевский élan (порыв), перенаправив ту же самую социально
необходимую способность на творческих личностей, предлагавших себя в качестве
первопроходцев. Современный исследователь может задаться вопросом: далеко ли
данное новое движение может увести потомков этих первобытных культурных героев?
А когда этот импульс исчерпается, то будут ли они способны черпать из скрытых
запасов психической энергии путем повторения творческого акта? Если ответ на
последний вопрос окажется отрицательным, то неискушенному человеку в
Цивилизации будет несдобровать.
Зелот – это человек, который смотрел назад; иродианин,
думавший, что смотрит вперед, на самом деле являлся человеком, смотрящим по
сторонам и пытавшимся подражать своим соседям. Было ли это концом истории?
Возможно, настоящий ответ заключался бы в том, что это
вполне могло бы стать концом истории, если бы вся история сводилась к истории Цивилизации.
Однако ответ был бы отрицательным, если рассматривать усилия человека по
построению Цивилизации лишь как главу в истории вечного столкновения между
Человеком и Богом. В мифе о Потопе, как он изложен в Книге Бытия,
продолжением катаклизма, в котором дети Адама едва не были полностью уничтожены
возмущенным Создателем, явилось обещание Творца Ною и его спасшейся судовой
команде, что «не будет более вода потопом на истребление всякой плоти»{137}.
И действительно, мы уже обнаружили, когда отмечали неудачу архаизма и
футуризма, что существует третья возможность.
Когда Жизни брошен вызов появлением некоторой новой
динамичной силы или творческого движения изнутри, живой индивид или общество
тем самым не осуждено на бесполезный выбор между надломом в результате
сохранения того, что мы выше назвали извращениями, и надломом в результате
вспыхнувшей революции. Открыт также и средний путь спасения, на котором
взаимное урегулирование старого порядка и нового отклонения может достичь
гармонии на более высоком уровне. Это, фактически, процесс, который мы
анализировали в той части «Исследования», где обсуждалась проблема роста
цивилизаций.
Аналогичным образом, когда жизни брошен вызов надлома,
ставшего совершившимся фактом, индивид или общество, пытающиеся вырвать
инициативу у Судьбы в своей борьбе за жизнь, не осуждены на не менее
бесполезный выбор между попыткой прыгнуть из настоящего в прошлое или попыткой
прыгнуть из настоящего в недосягаемое будущее. Здесь также открыт средний путь
ухода через движение «отрешенности», за которым следует возврат, открывающийся
как «преображение». Возможно, мы придадим больший вес этим абстрактным
понятиям, если вновь обратимся к I в. христианской эры, к тому малоизвестному
уголку Римской империи, где зелоты и иродиане, названиям партий которых мы
рискнули дать более широкое значение, исследовали свои соответствующие тупики,
и если мы сосредоточим свое внимание не на какой‑либо из этих групп сектантов,
а на одном из их современников.
Павел был воспитан в языческом Тарсе как фарисей –
культурный изоляционист – и в то же самое время в том же самом месте он получил
греческое образование и оказался римским гражданином. Перед ним были открыты
одновременно как зелотский, так и иродианский путь, и еще юношей он выбрал
зелотство. Однако когда он был сбит с этого упрямого первоначального зелотского
курса в результате видения на пути в Дамаск, он не стал иродианином. Перед ним
открылся творческий путь, который превосходил оба других курса. Он пересек
Римскую империю, проповедуя не иудаизм против эллинизма и не эллинизм против
иудаизма, а новый образ жизни, который черпал без предубеждений духовное
богатство из этих обеих соперничающих культур. В этом евангельском пути нельзя
было установить культурной границы, поскольку христианская Церковь была не
просто новым обществом того же вида, что и цивилизации, столкновения которых
друг с другом мы исследовали. Она была обществом совершенно иного вида.
* * *
Примечание.
«Азия» и «Европа»: факты и фантазии
Во введении к своей «Истории» Геродот берется воспроизвести
персидское изложение того мотива, который побудил Ахеменидов напасть на
эллинов. Персы, согласно его мнению, полагали, что получили по наследству право
кровной мести. Они считали, что обременены долгом мести по отношению к эллинам
за осаду и разорение Трои. Таким образом, две великие войны – Троянская и
Персидская – были эпизодами в исторически непрерывной исторической же
наследственной вражде между «Европой» и «Азией». Не приходится и говорить о том,
что персы совершенно ничего не знали о какой‑либо своей обязанности. Не будучи
знатоками Гомера, они, по‑видимому, ничего не знали о Троянской войне – если
действительно имело место такое подлинное историческое событие. Не приходится
также говорить и о том, что геродотовская картина с исторической точки зрения
фантастична, допуская, что между троянцами и персами как «азиатами»
существовало чувство солидарности. Мы можем проиллюстрировать ее абсурдность,
представив строго аналогичное изображение исторической наследственной вражды
между Европой и Америкой и вообразив, что Дарий‑Вашингтон испытывает побуждение
отомстить «Европе» за предшествующее нападение Агамемнона‑Кортеса на Мехико.
Тем не менее геродотовский миф не лишен интереса и важности
в том, что он ввел в обращение понятия «Европы» и «Азии» как соперничающие и
противостоящие друг другу сущности, которые до сих пор сохраняются на наших
картах и континентальная граница между которыми проведена вдоль таких
незначительных возвышенностей, как Уральские горы. Геродот не изобрел это
понятие, ибо «Азия» уже было ходовым обозначением Персидской империи в «Персах»
Эсхила, созданных в 472 г. до н. э. Однако «наследственная вражда между Европой
и Азией» является господствующей и объединяющей темой геродотовского труда, и
мастерство его создания во многом ответственно за последующую популярность этой
эллинской фантазии V в. до н. э.
Эта фантазия родилась, когда одаренный богатым воображением
эллинский ум произвел революционную перемену в значении двух традиционных
эллинских географических названий «Европы» и «Азии», перенеся их с карты моряка
на политическую карту публициста и диаграмму распространения культур социолога.
Этот подвиг воображения, к несчастью, оказался внушающим. Различие,
проводившееся моряком между противоположными берегами цепи водных путей,
протянувшихся от Средиземного до Черного моря, было естественным и полезным для
его целей, однако эта цепь водных путей никогда не совпадала с политической
границей с начала человеческой истории вплоть до времени написания настоящей
работы, за исключением двух кратких периодов 547‑513 и 386‑334 гг. до н. э. Что
касается отождествления «континентов» моряка с владениями различных культур, то
историк не может указать на такой период истории, когда существовало какое‑либо
значительное культурное различие между «азиатскими» и «европейскими» жителями
почти соприкасающихся противоположных берегов Босфора и Геллеспонта, которые не
шире, чем Гудзон, и совсем не шире Амазонки.
Понятие «Азия», обозначавшее для эллинского моряка
континент, который устанавливает восточный предел его свободе движения в
собственной стихии Эгейского моря, по‑видимому, произошло от современного
местного названия болота в долине реки Каистр. Недавние археологические
открытия показали, что это было название одного из западно‑анатолийских
княжеств XIII в. до н. э., упоминаемых в хеттских официальных документах.
«Азия», возможно, было не единственным хеттским названием,
нашедшим себе дорогу в греческий словарь. Предполагали, что «basileus» –
явно негреческое слово в греческом языке для обозначения «царя» – происходит от
имени подлинного хеттского царя Биассилиса, который правил в Кахемише на
Евфрате в XIV в. до н. э. приблизительно в то время, когда ахейские пираты
вступали в свои первые контакты с памфилийским побережьем. Если это
словопроизводство верно, то слово «basileus» аналогично слову «kral»
, обозначающему «царя» на нескольких славянских языках и происходящему, как
известно, от имени Карла Великого, иначе называемого Карломаном. Происхождение
понятия «Европа» более сомнительно. Оно может быть греческим искажением
финикийского слова «ereb» (соответствующего арабскому «gharb»),
означающего темную часть света, где солнце садится на западе. Или (если оно не
было техническим понятием, заимствованным у финикийских моряков, но местным
греческим словом) оно могло означать «широкое лицо» terra firma (твердой
земли) в противоположность островам. Или же оно могло быть именем богини, у
которой было «широкое лицо», поскольку она была супругой быка.
Как бы то ни было, два названия установили для моряка
различие между материком и островами. Нащупывая свой путь к северу вдоль
азиатского или европейского побережий материка, он проходил последовательно
через три пролива – Дарданеллы, Босфор и Керченский пролив. Однако когда он
переплывал последний, пересекал Азовское море и поднимался по реке Дон до
предела речной навигации, он достигал той точки, в которой противоположные
континенты теряли свою индивидуальность. Для сухопутных жителей к северу от
Черного моря, будь то кочевники Евразийской степи или евразийские крестьяне
Черноземья, которое простиралось от восточных склонов Карпат до западных
склонов Алтая, различие между Европой и Азией не могло иметь какого‑либо ясного
значения.
Дихотомия Европы и Азии явилась одной из наименее полезных
частей наследия, полученного современным Западом от эллинского мира. Школьное
разграничение на «Россию в Европе» и «Россию в Азии» всегда было бессмысленным,
однако, вероятно, не принесло какого‑либо вреда. Аналогичное разграничение на
«Турцию в Европе» и «Турцию в Азии» явилось источником множества спутанных
мнений. Реальные границы между областью распространения цивилизаций ничего
общего не имеют с подобными античными выдумками. Существует несомненная
географическая реальность, которую мы называем Евразия. Она настолько велика и
имеет настолько изрезанную форму, что мы можем нарезать из нее по своему
усмотрению множество субконтинентов. Из них наиболее резко очерченным,
благодаря Гималаям, являющимся ее сухопутной границей, является Индия.
Несомненно, Европа – другой субконтинент. Однако сухопутная граница Европы, в
отличие от границы Индии, это всегда, скорее, litnen, чем limes,
и в действительности находится гораздо западнее Уральских гор.
X.
Контакты
между цивилизациями во времени
XXXIV.
Обзор ренессансов
1. Вступление‑«ренессанс»
Французский писатель Э. Ж. Делеклюз (1781‑1863), по‑видимому,
был первым, кто употребил термин la renaissance[626] (возрождение) для описания воздействия умершей
эллинской цивилизации на западно‑христианский мир в особое время в особом
месте, а именно в Северной и Центральной Италии периода позднего Средневековья.
Это особое воздействие умершего на живое – далеко не единственный пример такого
рода в истории, и здесь мы позаимствуем это понятие в качестве общего
наименования всех подобных явлений и приступим к их исследованию. Поступая так,
мы должны следить за тем, чтобы не включать в круг нашего исследования явлений
больше, чем мы имеем в виду. Поскольку эллинская культура в областях искусства
и литературы (ибо данное понятие в своем обычном словоупотреблении
ограничивалось именно этими областями) достигла Италии посредством контактов с
византийскими учеными, то это, конечно же, не было столкновением во времени с
умершей цивилизацией, а столкновением в пространстве с живой, что уже относится
к теме, которую мы обсуждали в предыдущей части данного «Исследования». С
другой стороны, когда «Греция пересекла Альпы», а итальянский Ренессанс начал
воздействовать на искусство и литературу Франции и других трансальпийских
западных стран, то это воздействие (поскольку оно пришло через современную
Италию, а не прямо из «античной» Греции), опять‑таки, не было ренессансом в
строгом смысле слова, а было передачей приобретений лидирующей части общества
другим частям того же самого общества и как таковое принадлежит к теме «роста»,
которую именно в этом контексте мы обсуждали в третьей части данного
«Исследования». Однако эти логические разграничения могут показаться чем‑то
слишком тонким, а на практике может оказаться одновременно и сложно, и излишне
проводить границу между «чистым» ренессансом в смысле прямого столкновения с
умершим обществом и ренессансом, смешанным тем или иным образом с уже
указанным.
Мы должны также заметить, прежде чем пуститься на поиски
ренессансов, что эти явления следует отличать от двух других типов столкновений
между настоящим и прошлым. Одним типом является отношение «сыновне‑родственных
связей» между умирающей или уже умершей цивилизацией и ее находящейся в фазе
эмбриона или младенчества наследницей. Это предмет, о котором мы уже достаточно
писали, и его можно рассматривать в качестве естественного и необходимого
явления, как и предполагает наше обращение к аналогии сыновне‑родственных
отношений. С другой стороны, ренессанс является столкновением между растущей
цивилизацией и «призраком» ее давно умершего родителя. Хотя этот тип достаточно
обычен, его можно описать как ненормальный, а проведя исследование, мы
обнаружим, что часто он оказывается вредоносным. К другому типу столкновений
между настоящим и прошлым, который следует отличать от ренессансов, принадлежит
явление, названное нами архаизмом. Мы использовали это слово для обозначения
попыток возвратиться к более ранней фазе развития общества, чем та, к которой
принадлежат сами архаизаторы.
Следует установить и еще одну черту отличия в трех типах
столкновений между настоящим и прошлым. В «сыновне‑родственных» отношениях
очевидно, что два общества, вступающие в контакт, находятся на весьма
различных, а в действительности, на противоположных стадиях развития.
Родительское общество – это общество, распадающееся в состоянии старческого
слабоумия. Его отпрыск – новорожденный «плачущий и рыгающий» младенец.
Архаизирующее же общество явно влюблено в положение дел, совершенно отличное от
его собственного. Иначе для чего подражать архаическим формам? Общество,
вступающее в фазу ренессанса, с другой стороны, вероятно, будет в большей
степени склонно вызывать призрак своего родителя в том виде, в каком его
родитель был, когда достиг той же самой стадии развития, на которой ныне
находится его отпрыск. Это как если бы Гамлет смог выбирать вид призрака своего
отца, с которым он должен был столкнуться на зубчатой стене: отца, в чьей
бороде было «соболье серебро», или отца в возрасте своего собственного сына.
2. Ренессансы политических идей и институтов
Итальянский ренессанс эллинизма в эпоху позднего
Средневековья оказал на западную жизнь в плане политическом влияние более
продолжительное, чем в плане литературном или художественном. Кроме того, эти
политические проявления не только пережили эстетические, но также и
предвосхитили их. Они начались, когда ломбардские города вышли из‑под контроля
своих епископов и оказались в руках коммун, управляемых советам магистратов,
ответственных перед гражданами. В результате излучения итальянской культуры на
трансальпийские области западно‑христианского мира это оживление эллинского
института города‑государства в Италии XI в. продолжило соответствующее
воздействие на народы западных феодальных монархий. Как в своем более раннем и
узком, так и в более позднем и широком поле действия влияние этого эллинского revenant
(восставшего из мертвых) было одним и тем же. Внешним воздействием было
распространение культа конституционного правления, которое в конечном итоге
присвоило себе эллинский титул «демократии», однако трудности и неудачи
конституционализма открывали дорогу для такой же эллинской фигуры «тирана»,
сначала в итальянских городах‑государствах, а затем и в более широком, а
следовательно, более зловещем масштабе.
Другой эллинский призрак явился на средневековой сцене,
когда Карл Великий был коронован в качестве римского императора папой Львом III[627] в соборе св. Петра на Рождество 800 г. Этот
институт также имел долгую историю впереди. Наиболее искренним и педантичным
эллинизатором среди императоров этого призрака был саксонец Оттон III (правил в
983‑1002 гг.)[628], перенесший
свою столицу в Рим – место, которое в то время находилось на клочке общей
земли, где пересекались владения двух христианских миров. Обосновываясь в
бывшем имперском городе, Оттон III надеялся подкрепить тошнотворную подделку
римской имперской державы, которая была подсунута западно‑христианскому миру,
укреплением ее более грубым металлом с византийского монетного двора. Как мы
уже видели в другом месте, эксперимент Оттона III, потерпевший крах после его
ранней смерти, повторил более чем через два столетия в гораздо более
благоприятных условиях и с гораздо более волнующими результатами гениальный
Фридрих II Гогенштауффен.
Много столетий спустя Руссо занялся популяризацией
плутарховской версии эллинизма. В результате французские революционеры не
теряли интерес к иллюзиям Солона и Ликурга и наряжали как своих дам, так и
своих директоров в то, что, по их предположению, было «античными» костюмами.
Что могло быть естественней поступка первого Наполеона, когда он, желая
повысить свой ранг «консула», стал титуловать себя «императором» и даровал
своему сыну и наследнику титул «короля Римского»[629], который
носили кандидаты на средневековую западную должность «императора Священной
Римской империи» до того, как были коронованы в Риме папой (посвящение,
которого многим из них не удавалось достичь)? Что касается второго (так
называемого третьего) Наполеона[630], то он
действительно написал или опубликовал под своим именем жизнеописание Юлия
Цезаря. Наконец, Гитлер отдал дань этому призраку призраков, устроив свою
загородную резиденцию на скале, нависающей над заколдованной священной пещерой
Барбароссы в Берхтесгадене[631], и приняв
регалии Карла Великого, украденные из музея Габсбургов.
Однако вокруг института западно‑христианской монархии парит
и другой, более великодушный призрак. Религиозная санкция, данная формальному
возрождению Римской империи на Западе в Рождественский день 800 г., когда
франкский король стал римским императором, будучи коронован папой, не имела прецедентов
в истории. Церемония, совершившаяся в Риме в тот день, тем не менее, имела
соответствующий прецедент в церемонии, совершившейся в Суассоне в 751 г., когда
австразийский майордом Пипин стал королем франков, будучи коронован и
миропомазан представителем папы Захарии св. Бонифацием[632]. Этот
западный обряд церковного освящения, ставший уже обычным в вестготской Испании,
явился возрождением израильского обычая, упоминаемого еще в книгах пророка
Самуила и Царств. Посвящения царя Давида пророком Самуилом{138} и
царя Соломона священником Садоком и пророком Нафаном{139} – это
прецеденты всех последующих коронаций королей и королев в западно‑христианском
мире.
3. Ренессансы правовых систем
Мы уже видели, как римское право, которое в ходе десяти
столетий, предшествовавших его кодификации Юстинианом, медленно и тщательно
разрабатывалось, чтобы удовлетворять нуждам в первую очередь римского народа, а
впоследствии и всего эллинского общества, быстро вышло из употребления с
крушением того образа жизни, который оно должно было регулировать. Это
произошло не только в западной, но также и в восточной половине эллинского
мира. Впоследствии за признаками упадка последовали признаки новой жизни как в
правовом, так и в политическом планах. Побуждение предоставить живой закон для
живого общества не находило сначала своего выражения в какой‑либо попытке
реанимировать римское право, которое в VIII в. христианской эры было помещено
высоко над головами современников наподобие Ноева ковчега на крыше огромного мавзолея
угасшей эллинской культуры. Каждое из двух новых христианских обществ,
восточное и западное, демонстрировали искренность своей веры в христианское
отправление правосудия, пытаясь создать христианское право для христианского
народа. Тем не менее в обоих христианских мирах за этой новой отправной точкой
последовал ренессанс сначала Моисеева закона, содержащегося в Писании, которое
христиане унаследовали от евреев, а затем – римского права в том виде, как оно
закрепилось в Кодексе Юстиниана.
В православно‑христианском мире о новой политике было
заявлено в период совместного правления двух сирийских основателей Восточной
Римской империи – Льва III и его сына Константина V обнародованием в 740 г.
«Христианского судебника», явившегося «умышленной попыткой изменить правовую
систему Империи путем применения христианских принципов»{140}.
Однако было почти неизбежно, что за рождением нового христианского права
последовал ренессанс иудейского закона, на включении которого в собственный
канон Священного Писания христианская Церковь, возможно, неблагоразумно, но,
несомненно, не совсем удачно для себя настояла. Тем не менее будучи моисеевской
или христианской, правовая система, установленная сирийскими императорами,
оказывалась все менее соответствующей растущей сложности византийского
общества, и в годы, последовавшие за 870 г., основатель Македонской династии
Василий I[633] и его сыновья и наследники известили, что они
«всецело отрицают и отменяют глупости, опубликованные Исаврами», то есть
упомянутыми выше сирийскими императорами. С искренним пренебрежением к своим
предшественникам македонские императоры взялись за выполнение задачи по
возвращению к жизни Кодекса Юстиниана. Поступая так, они воображали, что
являются настоящими римлянами, точно так же как представители «готического
возрождения» в XIX столетии воображали, что являются настоящими готами. Однако
бедой всех возрождений и ренессансов является то, что они не являются и по
самой природе вещей не могут являться «подлинными изделиями». Они отличаются от
подлинных изделий так же сильно, как восковые работы мадам Тюссо[634] отличаются от людей, которые проходят через
турникеты, чтобы посмотреть на них.
Сюжет правовой драмы, в которой новую христианскую линию
поведения преследовали последовательно восставшие призраки Моисея и Юстиниана,
повторился и на западной сцене, где роль Льва Сириянина сыграл Карл Великий.
«Каролингское законодательство… отмечает появление нового
общественного сознания западно‑христианского мира. До сих пор законодательство
западных королевств было, по сути, христианским приложением к прежним
варварским племенным кодексам. Теперь впервые был осуществлен полный разрыв с
прошлым, и христианство устанавливало свои собственные законы, которые
охватывали все поле социальной деятельности в Церкви и государстве и соотносили
все вещи с единым стандартом христианского этоса. Это не было инспирировано ни
германским, ни римским прецедентом»{141}.
В западно‑христианском мире, как и в восточно‑христианском,
тем не менее призрак Моисея с трудом шел по следам апостолов и евангелистов.
«Каролингские императоры дали закон всему христианскому
народу в духе ветхозаветных царей и судей, объявлявших Божественный Закон
Божьему народу. В письме, которое Катаульф отослал Карлу в начале его
царствования, автор обращается к королю как к земному представителю Бога и
советует Карлу воспользоваться Книгой Божественного Закона в качестве
руководства для правления, согласно Второзаконию, 17, 18‑20, которое
предписывает царю “списать для себя список закона сего с книги, находящейся у
священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни
жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять
все слова закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его пред
братьями его и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево”».{142}
Однако в западно‑христианском мире, как и в восточно‑христианском,
восставшего Моисея нагнал восставший Юстиниан. В ходе XI в. христианской эры
императорская школа права, официально созданная в 1045 г. в Константинополе,
обрела своего двойника в западно‑христианском мире в Болонье, в спонтанно
возникшем там автономном университете, посвятившем себя изучению «Corpus Iuris»
Юстиниана. И хотя в западно‑христианском мире воскрешенному римскому праву в
итоге не удалось послужить цели обоснования воскрешенной Римской империи, оно
решительно послужило альтернативной цели, благоприятствуя воскрешению на
западной почве более древнего эллинского политического института суверенного,
независимого национального государства. Юристы, получившие образование в
Болонье и в ее дочерних университетах, становились администраторами не
мертворожденной западной «Священной Римской империи», а эффективных и
независимых западных национальных государств. Эффективность их профессиональной
деятельности явилась одной из причин постепенной победы данного института над
всеми альтернативными формами политической организации, которые были скрыты в
первоначальной социальной структуре западно‑христианского мира.
Если болонские специалисты по гражданскому праву обеспечили
города Северной и Центральной Италии администраторами, компетентность которых
дала возможность коммунам свергнуть своих князей‑епископов и начать карьеру
гражданского самоуправления, то специалисты по каноническому праву дополнили
Болонскую школу гражданского права братским факультетом церковного права после
публикации энциклопедического «Decretum» Грациана[635]. Специалисты
по каноническому праву также внесли свой вклад в развитие национального
светского государства, хотя их цели находились в противоположном направлении.
Их фактические достижения действительно явились одним из мрачных проявлений
иронии судьбы.
Можно сказать, что папский престол использовал специалистов
по каноническому праву в качестве орудий словесной войны со светским
конкурентом папства – Священной Римской империей. Однако более верно картину
можно было бы сформулировать, сказав, что канонисты овладели папским престолом.
Все выдающиеся римские папы начиная с Александра III (1159‑1181)[636], который
оборонял церковную крепость от Фридриха Барбароссы, далее Иннокентия III (1198‑1216),
который дал своему миру возможность заранее ощутить то, что может означать
папский абсолютизм в политической сфере, и Иннокентия IV (1243‑1254)[637], который
натолкнулся в лице великого Stupor mundi[638] с упорной беспринципностью, равной его
собственной, и вплоть до Бонифация VIII (1294‑1303), который вступил в
гибельное противоречие с сильными монархиями Франции и Англии, – все они, а
также множество менее значительных пап, правивших в промежутках между ними,
были не богословами (изучающими Бога), но канонистами (изучающими Закон). Первым
результатом этого явилось падение Империи. Вторым была гибель папства, которое
никогда после, вплоть до попытки оживить его к новой жизни после (но не до)
катастрофы протестантского раскола, так и не сумело восстановить нравственный и
религиозный авторитет, дискредитированный его законничеством. Падение Империи и
папства очистило путь для продвижения вперед национальных государств на Западе.
4. Ренессансы философских систем
Эта сфера представлена парой приблизительно совпавших по
времени ренессансов на противоположных концах евразийского континента, а именно
возрождением конфуцианской философии древнекитайского мира в боковой ветви этой
восточно‑азиатской цивилизации – дальневосточном обществе, и возрождением
аристотелевской философии эллинского мира в западно‑христианском мире.
Наш первый пример можно было бы исключить на том основании,
что конфуцианская философия фактически не умирала с тем обществом, которое ее
породило, но просто переживала период спячки, а то, что не умерло, нельзя
квалифицировать как появляющееся в качестве «призрака». Мы должны признать силу
этого возражения, однако берем на себя смелость смотреть на него сквозь пальцы,
ибо восстановление танским императором Тайцзуном[639] в 622 г. официального экзамена по классикам
конфуцианства в качестве способа отбора желающих служить на императорской
государственной службе представляет собой неотъемлемую характерную черту
ренессанса. Оно также отмечает тот факт, что в политической сфере даосы и
буддисты упустили возможность вытеснить конфуцианцев, по‑видимому, находившихся
в их власти в период постдревнекитайского междуцарствия, когда престиж
конфуцианцев был подорван в результате падения универсального государства, с
которым их стали отождествлять.
Контраст между этой политической неудачей буддийской махаяны
и успехом, с которым христианская Церковь в Западной Европе воспользовалась
своими политическими возможностями, говорит о том факте, что по сравнению с
христианством махаяна была религией, в политическом плане некомпетентной.
Покровительство местных князьков Северного Китая, которым она пользовалась на
протяжении почти трех столетий, последовавших за падением единой Циньской
империи, оказалось для махаяны менее полезным, чем более могущественное
покровительство кушанского императора Канишки[640] на раннем этапе ее развития. Как только
столкновение на дальневосточной почве между махаяной и конфуцианством перешло
из политической сферы в сферу духовную, судьбы этой почти бескровной борьбы
драматически переменились. Современный китайский специалист по этому вопросу
говорит нам, что «неоконфуцианцы более твердо придерживались основополагающих
идей даосизма и буддизма, чем сами даосы и буддисты»{143}.
Когда мы переходим от ренессанса древнекитайской
конфуцианской философии в дальневосточной истории к ренессансу эллинской
аристотелевской философии в западно‑христианской истории, мы обнаруживаем, что
сюжет пьесы принимает совершенно иной оборот. Если неоконфуцианство поддалось
духовному влиянию махаяны, то неоаристотелизм навязал себя богословию
христианской Церкви, в официальном мнении которой Аристотель не мог быть никем
иным, кроме как язычником. В каждом из случаев над партией, стоящей у власти,
одержал верх ее оппонент, который не мог ничем иным зарекомендовать себя, кроме
присущих ему добродетелей. В дальневосточном случае философская государственная
служба подчинилась духу чуждой религии. В западном случае официальная Церковь
подчинилась духу чуждой философии.
Призрак Аристотеля в западно‑христианском мире проявил такую
же удивительную интеллектуальную мощь, какую проявила живая махаяна в
дальневосточном мире.
«Совсем не из римской традиции Западная Европа получила
критический ум и беспокойный дух исследования, которые сделали западную
цивилизацию наследницей и преемницей греков. Принято датировать появление этого
нового элемента [итальянским] Ренессансом и возрождением греческих штудий в XV
в., однако настоящий поворотный пункт следует отнести на три столетия раньше…
Уже в Париже во времена Абеляра (жил в 1079‑1142 гг.)[641] и Иоанна Солсберийского (жил ок. 1115‑1180
гг.)[642] страсть к диалектике и дух философского
размышления начали преобразовывать интеллектуальную атмосферу западно‑христианского
мира. С этого времени над более возвышенными размышлениями стала господствовать
техника логической дискуссии – quaestio[643] и публичных диспутов, которые в такой большой
степени определяли форму средневековой западной философии даже у ее
величайших представителей. “Ничто, – говорит Роберт Сорбоннский, – не может
быть известно в совершенстве, если не прошло сквозь зубы диспута”. Стремление
подвергать каждый вопрос, от самого очевидного до самого глубокомысленного,
процессу пережевывания не только содействовало быстроте ума и точности
мышления, но, кроме того, развивало тот дух критицизма и методического
сомнения, которому западная культура и современная наука столь многим обязаны»{144}.
Призрак Аристотеля, который произвел столь сильное
впечатление как на дух, так и на форму западной мысли, произвел также
мимолетное воздействие на ее сущность. И хотя впечатление здесь было не таким
продолжительным, тем не менее, оно было достаточно глубоким, так что
потребовалась долгая и энергичная кампания интеллектуальной борьбы для его
окончательного уничтожения.
«В целом в картине Вселенной, [как ее видели на
средневековом Западе], гораздо больше от Аристотеля, чем от христианства.
Именно авторитет Аристотеля и его последователей ответственен даже за те черты
этого учения, которые, как может нам показаться, несут на себе чисто церковные
особенности – иерархия небес, вращающиеся сферы, разумные существа, движущие
планеты, классификация элементов в порядке их благородства и мнение, что небесные
тела состоят из непортящегося пятого элемента. В самом деле, мы можем сказать,
что именно Аристотеля, а не Птолемея, надо было ниспровергать в XVI столетии, и
именно Аристотель явился самым значительным препятствием для теории Коперника»{145}.
К XVII в. христианской эры, когда собственный
интеллектуальный гений Запада вновь утвердился на «бэконовских» основаниях,
приступив к исследованию мира природы, теология Церкви настолько запуталась в
аристотелизме, что Джордано Бруно был лишен жизни, а Галилей подвергся
церковному осуждению за научные ереси, которые не имели никакого отношения к
христианской религии, как она предстает в Новом Завете.
Еще до XVII в. трансальпийские западные ученые и философы
нападали на схоластов за их раболепство перед Аристотелем – «их диктатором»,
как назвал его Бэкон, тогда как итальянские гуманисты XV в. нападали на них за
их плохую латынь. Однако аристотелевская теология была недоступна для знатоков
классического стиля. Действительно, эти критики извлекли из имени знаменитого
ученого – последователя Аристотеля Дунса Скота[644] уничижительное слово «тупица» (dunce),
означающее не невежественного человека, а сторонника устарелой системы знания.
Однако ко времени написания этой книги оборот гуманистов вышел из употребления.
В XX в. христианской эры, когда естественная наука и техника, кажется,
преодолевают на своем пути все препятствия, может показаться, что «тупиц» надо
искать среди сокращающихся остатков некогда господствовавшей «классической
науки».
5. Ренессансы языка и литературы
Живой язык (language) – это прежде всего форма речи, как
подсказывает тот факт, что само это слово происходит от латинского слова,
обозначавшего язык как часть тела (tongue). Литература является, так сказать,
побочным продуктом его деятельности. Тем не менее, когда призраки языка и
литературы восстают из мертвых, отношения между ними меняются на прямо
противоположные. Изучение языка – это просто тягостная предпосылка для чтения
литературы. Заучивая «вокатив; mensa; о, стол», мы не приобретаем новый
словарный запас для выражения наших чувств, когда спотыкаемся о ножку стола в
темноте, но делаем первый маленький шажок на пути к отдаленной цели чтения
Вергилия, Горация и остальных латинских классиков. Мы не пытаемся говорить на
этом языке, а когда пытаемся писать на нем, то делаем это лишь для того, чтобы
лучше понимать произведения «античных» мастеров.
Первым шагом на пути к новому овладению уже давным‑давно
забытой литературной империи является работа, которая может потребовать
мобилизации ресурсов живой политической империи. Типичным памятником
литературного ренессанса в его первой фазе является антология, свод, тезаурус,
словарь или энциклопедия, которые составляются группой ученых по указанию
государя. Царственный покровитель подобных коллективных трудов ученых был чаще
всего правителем воскрешаемого универсального государства, которое само
являлось продуктом ренессанса в политической сфере. Из пяти выдающихся
представителей этого типа – Ашшурбанипала, Константина Багрянородного[645], Юнлу[646], Канси[647] и Цяньлуна[648] – четверо последних всецело принадлежали к
данному типу. В своей задаче по собиранию, редактированию, комментированию и
публикации сохранившихся произведений «мертвой» классической литературы
дальневосточные императоры воскрешенного древнекитайского универсального
государства оставили далеко позади всех других соперников.
Верно, что размеры двух глиняных библиотек Ашшурбанипала,
включавшие в себя шумерскую и аккадскую классическую литературу, неизвестны
современным археологам, которые узнали о собрании и рассредоточении этих двух
великих ассирийских коллекций, обнаружив несколько глиняных табличек в ходе
раскопок на месте Ниневии. Они неизвестны, поскольку не далее как через
шестнадцать лет после смерти царственного ученого содержание обеих его
библиотек было разбросано на развалинах ненавистного города, который был взят
штурмом и разграблен в 612 г. до н. э. Коллекция Ашшурбанипала могла быть и
больше, чем конфуцианский канон древнекитайской классики, который не был с
легкостью оттиснут на мягкой глине, а с трудом вырезан на жестком камне в
Сингане, имперской столице династии Тан, между 836 и 841 гг. и был переписан
столетием позже с комментариями в издании, достигающем 130 томов. Однако мы
можем предположить с определенной долей уверенности, что количество клинописных
знаков в коллекции Ашшурбанипала гораздо меньше количества древнекитайских
иероглифов, составляющих коллекцию, которую Юнлу, второй император из династии
Мин, собрал в 1403‑1407 гг. и которая достигает не менее 22 877 книг,
занимающих 11 095 томов, не считая оглавлений. По сравнению с этой коллекцией,
коллекция восточно‑римского императора Константина Багрянородного (правил в 912‑959
гг.) кажется совершенно незначительной, хотя и поражает разум западного
человека.
Когда мы переходим от рассмотрения этих подготовительных
задач к тщеславному стремлению ученого подражать произведениям классической
литературы, которой он посвящает свои труды, то мы должны предоставить
статистикам определять, было ли число набросков в древнекитайском классическом
стиле, созданных кандидатами на государственные должности в Китайской империи в
течение 1 283 лет, прошедших между учреждением государственных экзаменов в 622
г. и их отменой в 1905 г., больше или меньше, чем число упражнений в написании
латинских и греческих стихов и прозы, созданных учеными и школьниками в
западном мире между XV столетием и нынешним временем. Однако в смысле
возрождения классических языков в серьезных литературных целях ни Запад, ни
Дальний Восток не могут сравниться с византийскими историками, включая таких мастеров
своего дела, как Лев Диакон[649] в X в. и Анна Комнина в XII в., которые нашли
средство литературного выражения в аттическом греческом koinê.
Читателю, вероятно, может прийти на ум, что наши замечания
по поводу литературных ренессансов до сих пор ни разу не применялись к тому
литературному ренессансу – фактически. Ренессансу, – который занимает столь
важное место в его собственном сознании. Несомненно, хотя итальянский ренессанс
эллинской литературы в период позднего Средневековья и мог иметь таких
покровителей среди политических сановников, как Лоренцо Медичи[650], тем не
менее, по своей сути был спонтанным движением неорганизованной учености.
Возможно, он был недооценен, несмотря на покровительство пап XV в., в
особенности папы Николая V (1447‑1455)[651]. Этот папа
держал на службе сотни ученых‑классиков и переписчиков древних рукописей, дал
10 000 гульденов за стихотворный перевод Гомера на латынь и собрал библиотеку в
9000 томов. Однако если мы позволим себе совершить мысленное путешествие по
западной истории в обратном направлении и вернуться из эпохи «Ренессанса» на
несколько столетий назад, то мы обнаружим нечто более соответствующее тому, что
уже рассматривали выше. Мы обнаружим, как Карл Великий, восстановитель
универсального государства умершей цивилизации, выстраивается в один ряд с
Ашшурбанипалом, Юнлу и Константином Багрянородным.
Бесплодная первая попытка литературного ренессанса эллинизма
в западно‑христианском мире по времени совпадает с рождением западно‑христианской
цивилизации. Английская церковь обязана своей организацией в конце VII в.
греческому беженцу с территорий восточного православного христианства, завоеванных
исламом, архиепископу Феодору Тарсийскому, а пророком эллинского ренессанса на
Западе был нортумбриец Беда Достопочтенный (673‑735)[652]. Другой
житель Нортумбрии, Алкуин Йоркский (735‑804)[653], перенес
семена этого движения ко двору Карла Великого, и прежде чем оно было
безвременно уничтожено потоком варварства из Скандинавии, его культиваторы не
только начали возрождать эллинскую литературную культуру в ее латинском
облачении, но даже приобрели поверхностное знание греческого языка. Алкуин
осмелился мечтать, что при поддержке Карла Великого он будет способен вызвать
призрак Афин на франкской почве. Это видение было мимолетным, и когда западно‑христианский
мир начал вновь выходить из того, что было названо «тьмой IX века», то
общепризнанным призраком стала не греческая классическая литература, а призрак
«Аристотеля и его философии»[654]. Прежде чем
видение Алкуина воплотилось, должны были пройти столетия господства схоластов.
Если мы остановимся здесь и подумаем, почему же исполнение
упований Алкуина и его друзей было отсрочено на такое множество веков, то
обнаружим различие между столкновениями в пространстве, которым была посвящена
предшествующая часть данного «Исследования», и столкновениями во времени,
которые мы рассматриваем теперь. Столкновение в пространстве – это противоречие
интересов в пространстве, а противоречия, как правило, случайны. Воинская
доблесть, новое умение в океанской навигации или засуха в степи могут оказаться
не относящимися собственно к культуре причинами, которые приведут одно общество
к нападению на другое, последствием чего станут описанные нами культурные
изменения. С другой стороны, столкновение во времени (ренессанс) – это акт
некромантии, вызывания призрака. Некроманту не удастся вызвать призрак, пока он
не научится хитростям своего ремесла. Другими словами, западно‑христианский мир
не мог принять призрака, или гостя, пока его собственный дом не был приготовлен
для принятия посетителя. Эллинская библиотека физически присутствовала все это
время, но ее не могли открыть с каким‑либо эффективным результатом до тех пор,
пока европеец не научился читать ее содержимое.
Например, никогда на Западе не было такого времени, даже в
период самого мрачного упадка «темных веков», чтобы западно‑христианское
общество физически не обладало бы произведениями Вергилия и не сохраняло
достаточное знание латинского языка для истолкования его изречений. Однако
было, по крайней мере, восемь веков, с VII по XIV включительно, когда поэзия
Вергилия находилась вне понимания наиболее одаренных западно‑христианских
ученых, если принять в качестве критерия понимания способность схватывать
смысл, который Вергилий пытался передать и который должным образом понимали его
одинаково мыслящие современники и потомки вплоть до поколения Августина
Блаженного. Даже Данте, в чьем духе начинает проявляться первый проблеск
итальянского возрождения эллинизма, видел в Вергилии образ, в котором
исторический Вергилий воплотился не как человеческая личность, а как некий
величественный мифический персонаж наподобие Орфея.
Аналогичным образом никогда не было такого времени, чтобы
западное общество не обладало философскими трудами Аристотеля, компетентно
переведенными на латынь писателем позднего эллинизма Боэцием (480‑524)[655]. Однако было
шесть веков, начиная с даты смерти Боэция, в течение которых его переводы
находились за пределами понимания наиболее проницательных западно‑христианских
мыслителей. Когда, наконец, западные христиане были готовы к Аристотелю, они
получили его окольным путем – через арабские переводы. Предлагая западно‑христианскому
миру VI в. свои латинские переводы Аристотеля, Боэций был похож на
благожелательного, но неблагоразумного дядюшку, который дарит поэмы Т. С.
Элиота[656] своему племяннику на его тринадцатилетие.
Племянник, недолго просмотрев книгу, кладет ее в самый темный угол своей
небольшой библиотеки и совершенно благоразумно забывает о ней. Спустя шесть лет
(эквивалентных шести векам на сокращенной временной шкале индивидуальной
юности) племянник снова сталкивается с этими поэмами, будучи студентом
Оксфорда, подпадает под их чары, покупает их в магазине Г. Б. Блеквилла и
искренне изумляется, обнаружив по возвращении домой на каникулы, что книга
стояла все это время на его полках.
Если так обстояли дела с Вергилием и Аристотелем, то не в
лучшей ситуации оказались шедевры греческой литературы, которые хранились в
византийских библиотеках и которые должны были стать основной пищей
итальянского ренессанса эллинизма в литературном отношении. Западно‑христианский
мир находился в тесном контакте с византийским миром, по крайней мере, с XI
столетия. В течение первой половины XIII в. франкские завоеватели фактически
занимали Константинополь и Грецию. В культурном плане никакого результата из
этого в то время не последовало, поскольку на Западе классики были пока еще
слишком тонким блюдом. В объяснение можно сказать, что эти контакты были
враждебными и не могли расположить европейцев благожелательно по отношению к
византийской библиотеке эллинской литературы. Однако на это следует ответить,
что политические и церковные контакты были не менее враждебны в XV в., когда
«Ренессанс» находился в полном расцвете. Причина различий культурных
последствий ясна. Ренессанс мертвой культуры происходит лишь тогда, когда
аффилированное общество поднимается до того культурного уровня, на котором
стоял его предшественник во время завершения своих достижений, ставших теперь
кандидатами к воскрешению.
Когда мы взглянем на конец литературных ренессансов в
западно‑христианском мире и в Китае, то обнаружим, что они владычествовали
безраздельно до тех пор, пока не были низвержены властным чуждым вторжением в
виде современной западной цивилизации, пленившей душу западно‑христианского
мира в течение XVII в. и душу Китая на рубеже XIX‑XX вв. Западное общество
оставило борьбу с эллинским призраком без внешнего вмешательства. Однако война
памфлетов на рубеже XVII‑XVIII вв., которую Свифт назвал «битвой книг» и в
которой участники спорили по поводу заслуг «древних» и «новых», показала, в
какую сторону ветер дует. Предметом спора, по‑видимому, являлось то, должна ли
западная культура оставаться неподвижно стоять на месте, парализованная
обращенным к прошлому восхищением или подражанием «древним», или идти вперед в
неизвестное, оставляя «древних» позади. Поставленный таким образом вопрос
допускал только один благоразумный ответ. Однако сам вопрос считал решенным
предшествующий вопрос о том, а не мешает ли в действительности «современному»
развитию обращенное к прошлому восхищение или подражание «древним», то есть то,
что мы можем назвать «современным западным классическим образованием» в самом
широком смысле слова.
Ответ на этот вопрос был явно благоприятным для «древних», и
знаменательно, что некоторые из зачинателей эллинских штудий, например Петрарка
и Боккаччо, были также маяками в развитии итальянской литературы на
национальном языке. Будучи далеким от того, чтобы сдерживать прогресс
национальных литератур, ренессанс эллинских штудий дал им новый толчок.
Достигнутое Эразмом[657] совершенное владение цицероновской латынью не
соблазнило его западных сподвижников на отказ от культивирования литературы на
своих родных языках. Совершенно невозможно оценить культурную причинно‑следственную
связь, например, между английскими эллинскими штудиями XVI в. и расцветом
английской поэзии беспрецедентной яркости в конце того же самого века. Помогало
ли знание Шекспиром «немного латыни и еще меньше греческого» сочинению его пьес?
Кто скажет? Можно подумать, что Мильтон знал слишком хорошо латынь и греческий,
однако если бы он не знал ни одного из этих языков, мы не имели бы ни
«Потерянного рая», ни «Самсона‑борца».
6. Ренессансы изобразительных искусств
Ренессанс того или иного вида изобразительных искусств
умершей цивилизации в истории ее наследницы – обычное явление. Мы можем
привести примеры ренессанса стиля «Древнего царства» в скульптуре и живописи,
после двухтысячелетнего промежутка, в новом египетском мире саисского периода[658] в VII–VI вв. до н. э., ренессанса шумерского
стиля резных барельефов в вавилонском мире IX, VIII и VII вв. до н. э. и
ренессанса в миниатюре эллинского стиля резных барельефов, прекраснейшими
образцами которых являются аттические шедевры V‑IV вв. до н. э., в византийских
диптихах из слоновой кости X, XI и XX вв. н. э. Три эти ренессанса
изобразительных искусств, тем не менее, оставил далеко позади себя – как по
уровню охвата, так и по беспощадности в уничтожении своих предшественников –
ренессанс эллинских изобразительных искусств в западно‑христианском мире,
который впервые появился в Италии позднего Средневековья, а затем
распространился оттуда на остальной западный мир. Эта эвокация призрака
эллинских изобразительных искусств была осуществлена в трех сферах –
архитектуре, скульптуре и живописи, и в каждой из сфер возрождаемый стиль
утвердился до такой степени, что когда его сила иссякла, то образовался своего
рода эстетический вакуум, в котором западные художники не знали, как выразить
свой долго подавляемый естественный гений.
Один и тот же странный рассказ о доме, который был выметен и
украшен руками решительных гостей‑призраков, можно рассказать о каждой из трех
областей западных изобразительных искусств. Однако самым необычным эпизодом
оказался триумф эллинского призрака, одержанный над местным западным гением в
области скульптуры. Именно в этой области северофранцузские представители
оригинального западного стиля XIII в. породили шедевры, равные достоинствам
лучших произведений эллинской, египетской и махаянистской буддийской школ. В то
же время в области живописи западные художники еще не вышли из‑под опеки ранее
развившегося искусства сестринского православно‑христианского общества, а в
области архитектуры романский стиль, который, как явствует из самого его
названия, был вариацией на тему, унаследованную из последней фазы
предшествующей эллинской цивилизации, уже был подавлен назойливой «готикой»,
которая происходила, как мы уже отмечали, из сирийского мира Аббасидского и
Андалусского халифатов.
Для просвещенного лондонца XX в. воюющие стороны в
смертельной борьбе между дважды побежденным западным местным искусством и его
сирийским и эллинским противниками до сих пор представлены воплощенными в
камне, в архитектуре и скульптуре часовни, пристроенной к Вестминстерскому
аббатству под покровительством короля Генриха VII[659]. Возведение
сводчатой крыши – последний триумф исчезающего готического стиля. Во множестве
стоящих каменных фигур in excelsis[660],
которые пристально смотрят на эллинизированную в итальянском духе троицу
лежащих бронзовых фигур на могилах внизу, трансальпийская школа местной западно‑христианской
скульптуры поет безмолвную лебединую песнь своими замерзшими губами. В центре
находятся эллинизированные шедевры Торриджани (1472‑1528)[661], который, с
презрением игнорируя ту грубую среду, в которой он соизволил выполнить свою
изящную работу, смотрел самодовольно вокруг себя, в твердой уверенности, что
эти плоды изгнания флорентийского мастера окажутся в центре внимания всякого
трансальпийского любителя достопримечательностей. Ибо мы знаем из автобиографии
Бенвенуто Челлини[662], что этот
самый Торриджани был человеком «весьма высокомерного духа» и что ему
предоставили бахвалиться своими «доблестными подвигами среди этих животных англичан»{146}.
«Готическая» архитектура, которая продолжала удерживать свои
позиции вплоть до первой четверти XVI в. в Лондоне (а в Оксфорде – до первой
половины XVII в.), уже давным‑давно оставила поле битвы в Северной и
Центральной Италии, где ей никогда не удавалось так решительно вытеснить
романский стиль, как в трансальпийской Европе.
О бесплодии, явившемся результатом воздействия на западный
гений ренессанса эллинизма в области архитектуры, свидетельствует его
невозможность пожать хоть какие‑то плоды, начиная с родовых схваток
промышленной революции. Мутация промышленной техники, породившая железные
балки, предоставила западным архитекторам несравненно более гибкий новый
строительный материал в то время, когда эллинизирующая архитектурная традиция
была окончательно исчерпана. Однако архитекторы, которым кузнецы подарили
железные балки, а Провидение – безупречную репутацию, не смогли придумать
лучшего способа для заполнения создавшегося вакуума, как перекрыть эллинский
ренессанс «готическим» возрождением.
Первый западный человек, который придумал открыто
использовать железную балку, уже не пытаясь застенчиво набросить «готический»
покров на ее вульгарность, был не профессиональным архитектором, но одаренным
богатым воображением любителем. И хотя он был гражданином Соединенных Штатов,
место, на котором он возвел свое историческое сооружение, возвышалось над
берегами Босфора, а не Гудзона. Ядро Роберт‑колледжа – Хэмлин‑холл,
возвышающийся над замком Мехмеда Завоевателя в Европе, – был построен Сайресом
Хэмлином в 1869‑1871 гг. Однако вплоть до следующего столетия семя, посеянное
Хэмлином, не начало приносить плодов в Северной Америке и Западной Европе.
Бесплодие западного художественного гения было не менее заметно и в областях
живописи и скульптуры. На протяжении более чем полтысячелетия, начиная с
поколения дантовского современника Джотто (ум. 1337 г.)[663], новая
западная школа живописи, которая, несомненно, восприняла натуралистические
идеалы эллинского изобразительного искусства в его постархаической фазе,
исчерпала один за другим различные методы передачи визуальных впечатлений,
создаваемых светом и тенью, пока эта длительная попытка породить эффекты
фотографии благодаря чудесам художественной техники не была сведена на нет
изобретением самой фотографии. После того как почва была так необдуманно выбита
у них из‑под ног действием современной западной науки, художники организовали
«прерафаэлитское движение», ориентировавшееся на давным‑давно ими отвергнутых
византийских мастеров, еще до того как им пришла в голову мысль использовать
новый мир психологии, который наука позволила им завоевать взамен старого мира
природных явлений, похищенного ею у них и подаренного фотографам. Так возникла
апокалиптическая школа западных художников, которые создали подлинно новую
линию поведения, откровенно используя живопись для передачи духовного опыта, а
не визуальных впечатлений. Западные же скульпторы теперь отправлялись на те же
самые захватывающие поиски в границах своего материала.
7. Ренессансы религиозных идеалов и
институтов
Отношение христианства к иудаизму было столь же убийственно
ясным для иудеев, сколь запутанно двусмысленным для христианского сознания. В
глазах иудеев христианская Церковь была предательской иудейской сектой, которая
на основании своего недозволенного прибавления к канону Священного Писания
согрешила против учения введенных в заблуждение злополучных галилейских
фарисеев, имя которых эти изменники фарисейства тщетно дерзнули принять. В
глазах иудеев якобы чудесное завоевание христианством эллинского общества ни в
коем случае не было «Божьим делом». Посмертный триумф еврейского рабби,
которого его последователи приветствовали совершенно в языческом стиле как сына
бога от человеческой матери, был языческим поступком того же самого рода, что и
более ранние триумфы аналогичных легендарных «полубогов» наподобие Диониса и
Геракла. Иудаизм льстил себе, говоря, что он смог бы предвосхитить завоевания
христианства, если бы снизошел до завоевания, опустившись до уровня
христианства. Хотя христианство никогда не отвергало авторитет иудейского
Писания (в действительности оно связало его со своим собственным), оно
совершило свои легкие завоевания благодаря отступлениям, с точки зрения иудеев,
от двух кардинальных иудаистических принципов – от первой и второй из десяти
заповедей – монотеизма и аниконизма (запрета «изображений»). Так что теперь
перед лицом закоренелого эллинского язычества, ясно видимого под налетом
христианства, лозунгом еврейства стало упорно продолжать свидетельствовать
вечное Божье слово.
Это «упорное глубокое презрение», с которым оставшееся
равнодушным и непреклонным иудейство продолжало относиться к неожиданному
успеху христианства, меньше бы смущало христиан, если бы само христианство не
соединило искреннюю теоретическую преданность иудейскому наследию монотеизма и
аниконизма с теми уступками политеизму и идолопоклонству эллинских
новообращенных, за которые оно подвергалось обвинениям со стороны своих
иудейских критиков. Новое освящение христианской Церковью иудейских Писаний в
качестве Ветхого Завета христианской веры было слабым местом в доспехах христианства,
через которое стрелы иудейской критики пронзали христианское сознание. Ветхий
Завет был одним из тех камней, которые составляли фундамент христианского
здания. Но были также учение о Троице, культ святых и изображение не только
святых, но также и Трех Лиц Божества в трехмерных, равно как и в двухмерных,
произведениях изобразительного искусства. Как могли ответить христианские
апологеты на иудейские насмешки по поводу того, что эллинская практика Церкви
несовместима с ее иудейской теорией? Требовался некий ответ, который бы убедил
христианские умы в том, что эти иудейские аргументы лишены смысла, поскольку
логика этих аргументов откладывала ответное чувство греха в христианских душах.
После номинального массового обращения эллинского языческого
мира в христианство в IV в. внутренние разногласия в лоне Церкви затмили спор
между христианами и иудеями. Но богословская война на этом давнем фронте вновь
вспыхнула в VI–VII вв. как результат пуританского самоочищения еврейства,
которое началось в палестинской еврейской общине в конце V в. Эта внутренняя
кампания в еврействе против распущенности, допускавшей под влиянием
христианства изображения на стенах синагог, имела свои последствия в иудейско‑христианской
борьбе. Однако когда мы обращаемся к аналогичной полемике внутри христианской
Церкви между иконопочитателями и иконоборцами, то поражаемся ее упорству и
масштабу. Мы находим, что этот «неудержимый конфликт» вспыхивает почти в каждой
области христианского мира и почти в каждое последующее столетие христианской
эры. Нет необходимости приводить здесь длинный список всех примеров, начиная с
36‑го правила Эльвирскогособора (ок. 300‑311)[664], которое
запрещает выставлять изображения в церквах.
В VII в. христианской эры в спор был введен новый фактор в
виде нового действующего лица, чье появление на исторической сцене было
неожиданным и блестящим. Еще одна религия теперь распространялась, как некогда
распространялось христианство, но и она выросла в лоне иудейства. Ислам был
предан монотеизму и аниконизму так фанатично, как иудеи могли только мечтать, и
поразительный успех его приверженцев в военной (а вскоре и в миссионерской)
сфере дал христианскому миру новый повод для раздумий. Как военные и
миссионерские победы приверженцев коммунизма вызвали в современных западных
людях искреннюю переоценку традиционных западных социальных и экономических
механизмов, так и победы примитивных арабо‑мусульманских завоевателей послужили
свежим топливом для споров, которые долго теплились вокруг проблемы
христианского «идолопоклонства».
В 726 г. призрак иудейского иконоборчества, долгое время
витавший в воздухе, был поставлен в центр сцены иконоборческим указом великого
восточно‑римского императора Льва Сириянина. Эта попытка навязать при помощи
политической власти то, что означало в религиозной сфере ренессанс, потерпела
неудачу. Папство восторженно отождествило себя с народной «идолопоклоннической»
оппозицией и тем самым продвинулось далеко вперед на пути освобождения от
византийской власти. Последовавшее, возможно, нерешительное движение, начатое
на Западе Карлом Великим в поддержку политики Льва Сириянина, было решительно
отклонено папой Адрианом I[665]. Западу
пришлось ждать около восьми веков своего иудейского ренессанса. А когда он
наступил, то это было движением, шедшим снизу. Его Львом Сириянином стал Мартин
Лютер.
В протестантской Реформации в западно‑христианском мире
аниконизм был не единственным иудейским призраком, успешно утвердившим себя.
Иудейское субботничество также охватило раскольников римско‑католической
Церкви. Ренессанс этого иудейского элемента объяснить труднее, поскольку та
крайняя дотошность, с которой евреи рассеяния соблюдали свою субботу, была
специфическим ответом народа на специфический вызов. Почитание субботы являлось
частью способа сохранения еврейской диаспорой своей самобытности. Внешней целью
протестантов было возвращение к древней практике первоначальной Церкви. Однако
мы видим, что они сглаживали различие между первоначальным христианством и
иудаизмом, на котором настаивала первоначальная Церковь. Могли ли эти
«библейские христиане» не знать о многочисленных местах в Евангелиях, где
говорится, что Христос игнорировал субботние запреты? Могло ли укрыться от их
внимания, что апостол Павел, которого они с восхищением почитают, сам стал
знаменитым, отвергнув Закон Моисея? Объяснение состоит в том, что эти
религиозные энтузиасты в Германии, Англии, Шотландии, Новой Англии и других
странах находились во власти одного из самых мощных ренессансов и стремились
превратиться в подражателей иудеев, как итальянские художники и ученые
стремились превратиться в подражателей афинян. Их практика давать своим детям
при крещении совершенно не по‑тевтонски звучащие имена, которые можно найти в
Ветхом Завете, является обличающим симптомом этой мании вызывать умерший мир к
жизни.
Мы уже ознакомились с третьим элементом иудейского
ренессанса в западном протестантизме, а именно с библиопоклонством, то есть с
идолизацией сакрального текста в качестве заменителя идолизации священных
образов. Несомненно, от перевода Библии на национальные языки и от постоянного
чтения ее многими поколениями простых людей, редко читавших что‑либо другое,
величайшую культурную выгоду приобрели не только набожные протестанты или
пуритане, но и все западные люди. Это неизмеримо обогатило национальные
литературы и стимулировало народное образование. «Библейские истории» в
добавление к своей религиозной ценности стали фольклором, далеко превосходящим
по вызываемому им у западного человека интересу любой имеющийся фольклор
местного происхождения. Для более утонченного меньшинства критическое
исследование сакрального текста было обучением более высокой критике, которая
могла быть применена (и в должное время была применена впоследствии) ко всем
сферам научного знания. В то же время нравственной и интеллектуальной карой
Немезиды за обожествление священных текстов явилось порабощение протестантизма,
от которого остался свободным находящийся под властью духовенства «тридентский
католицизм». Стремление рассматривать как непогрешимое Слово Божие Ветхий
Завет, который был более или менее полным собранием, или, скорее, смешением,
человеческих сочинений различного уровня религиозного и исторического
достоинства, явилось религиозной расплатой за тупое упрямство, которое
заставило Мэтью Арнольда обвинить добродетельную буржуазию своей викторианской
эпохи в том, что она живет в «иудействующем болоте».

XI.
Закон и
свобода в истории
XXXV.
Постановка проблемы
1. Значение слова «закон»
На протяжении ста лет, предшествовавших 1914 г., западного
человека очень мало беспокоила проблема, которую нам придется решать теперь,
поскольку ни один из типов ее решения не кажется удовлетворительным по
сравнению с другим. Если и допускали, что человеческой судьбой управляет
сверхчеловеческий закон, то удовлетворялись тем, что называли этот закон
«законом прогресса». С другой стороны, если не допускали существование такого
закона, то могли с уверенностью предположить, что деятельность свободных и разумных
человеческих существ достигала бы подобного же результата. К середине XX в.
ситуация, несомненно, изменилась коренным образом. Стало известно, что
цивилизации в прошлом терпели крах, и в претенциозном небоскребе, возведенном
современным западным человеком, теперь стали замечать зловещие трещины.
Существует ли Закон наподобие того, какой установил Освальд Шпенглер[666] в своем пышном произведении «Закат Европы»,
опубликованном в 1919 г., Закон, согласно которому эта цивилизация последует по
пути своих предшественниц, или же мы вольны исправить свои ошибки и
смоделировать свою собственную судьбу?
Первое, что нам следует предпринять в нашем исследовании,
это уточнить, в каком смысле мы употребляем слово «закон». Очевидно, что мы не
подразумеваем созданное человеком законодательство, из которого посредством
метафоры, ставшей до такой степени обычной, что мы ее не замечаем, данный
термин был перенесен в разбираемую нами теперь область. «Закон», который мы
сейчас разбираем, похож на этот обычный, созданный человеком институт, будучи
набором правил, управляющих человеческими делами, однако он отличается от него
тем, что не создан человеком и не может быть им изменен. Мы уже замечали ранее
в данном «Исследовании», что эта идея закона, будучи перенесена в метафизический
план, обычно поляризуется на две явно противоположные концепции. Те мыслители,
в чьем мировоззрении личность человеческого законодателя приобретает большие
размеры, чем закон, который он проводит в жизнь, рассматривают метафизический
«закон», управляющий Вселенной, в качестве «закона» всемогущего Бога. Другие, в
чьем мировоззрении личность законодателя или правителя затмевается понятием
закона, который он проводит в жизнь, метафизический «закон», управляющий
Вселенной, понимается как безличный закон неизменной и неумолимой Природы.
Каждая из этих концепций имеет свои утешающие и ужасающие
характерные черты. Ужасающей чертой «законов Природы» является их неумолимость,
однако она компенсируется другой. Поскольку эти законы неумолимы, то
человеческий интеллект их может установить. Знание Природы находится в пределах
человеческой способности понимания, а это знание – сила. Человек может изучить
законы Природы, чтобы использовать ее в своих собственных целях. В этом
предприятии человек весьма преуспел. Он действительно расщепил атом – и каковы
результаты?
Человеческая душа, осознавшая свой грех и убежденная в том,
что не может достичь своего исправления без помощи Божией, подобно Давиду,
будет прибегать к руке Господней. Неумолимость наказания, равно как и обнаружения
человеческого греха, который является Страшным Судом «законов Природы», может
быть преодолена только благодаря принятию юрисдикции «Закона Бога». Ценой этого
переноса духовной преданности является потеря того точного и определенного
интеллектуального знания, которое было материальным вознаграждением и духовным
бременем для человеческих душ, удовольствовавшихся быть хозяевами Природы, став
ее рабами. «Страшно впасть в руки Бога живаго!»{147} Ибо Бог есть
дух, Его поступки по отношению к человеческим душам непредсказуемы и
непостижимы. Обращаясь к Закону Бога, человеческая душа должна отказаться от
уверенности, чтобы обрести надежду и страх, ибо закон, являющийся выражением
воли, воодушевляется духовной свободой, которая сама по себе есть антитезис единообразию
Природы. Произвольный же закон может вдохновляться или любовью, или ненавистью.
Прибегая к Закону Бога, человеческая душа, вероятно, обнаружит то, что он ей
приносит. С этих пор человеческие представления о Боге варьируются от видения
Бога‑Отца до видения Бога‑Тирана. Оба видения созвучны образу Бога как Личности
под антропоморфной маской, за которую человеческое воображение, по‑видимому,
неспособно проникнуть.
2. Антиномизм современных западных историков
Идея «Закона Бога» была выработана благодаря душевной работе
израильских и иранских пророков в ответ на вызовы вавилонской и сирийской
истории, тогда как классическое изложение концепции «законов Природы» было
сформировано философами, наблюдавшими распад индского и эллинского миров.
Однако две школы мысли не являются логически несовместимыми друг с другом, и
вполне вероятно, что эти две разновидности Закона будут действовать бок о бок.
«Закон Бога» обнаруживает единую постоянную цель, преследуемую разумом и волей
личности. «Законы Природы» демонстрируют регулярность периодического движения,
подобно колесу, вращающемуся вокруг своей оси. Если бы мы могли представить
колесо, появившееся без творческого акта колесного мастера, а затем вечно
вращающееся без всякой цели, то эти повторения действительно были бы тщетны.
Это как раз тот пессимистический вывод, который сделали древнеиндийские и
эллинские философы, видевшие, как «скорбное колесо существования» вечно
вращается в пустоте. В реальной жизни мы не находим колес без колесных
мастеров, а колесных мастеров без вожатых, которые дают заказ этим
ремесленникам сделать колеса и приладить их к телеге, чтобы без конца
повторяющиеся обороты колес могли перевозить телеги до требуемого места
назначения. «Законы Природы» имеют смысл лишь тогда, когда они изображаются
подобно колесам, которые Бог приспособил к Своей колеснице.
Вера в то, что вся жизнь Вселенной управляется «Законом
Бога», была наследием иудаизма, поделенным между христианским и мусульманским
обществами. Она выразилась в двух удивительно похожих, но при этом совершенно
независимых произведениях гения – в трактате «О Граде Божием» Августина
Блаженного и во «Введении» к «Истории берберов» Ибн Хальдуна[667].
Августиновская версия иудейского взгляда на историю принималась как должное
западно‑христианскими мыслителями на протяжении более тысячи лет и нашла свое
последнее авторитетное выражение в «Рассуждении о всемирной истории» Боссюэ,
опубликованном в 1681 г.
Отрицание этой теоцентрической философии истории на Западе в
Новое время можно и объяснить, и оправдать, поскольку картина, представленная
Боссюэ, после тщательного анализа оказалась несогласной ни с христианством, ни
со здравым смыслом. Ее дефекты беспощадно вскрыл Р. Дж. Коллингвуд[668], автор XX в.,
отличившийся и как историк, и как философ.
«Любая история, написанная в соответствии с христианскими
принципами, по необходимости должна быть универсальной, провиденциальной, апокалиптической
и периодизированной… Если бы от средневекового историка потребовали объяснить,
как он узнал, что история протекает в соответствии с неким объективным планом,
он ответил бы – через Божественное откровение. Оно – часть того, что Христос
открыл людям о Боге. И это Откровение давало ключ не только к пониманию прошлых
деяний Творца, но показывало нам и Его будущие намерения. Христово Откровение,
следовательно, позволяло нам охватить мыслью историю всего мира в целом – от
его сотворения в прошлом до его конца в будущем, ту историю, какой она
представляется вневременному и вечному видению Бога. Таким образом,
средневековая историография предвидела конец истории, конец, предопределенный
Богом и ставший известным людям через Его Откровение. Поэтому она включала в
себя эсхатологию…
Отсюда в средневековой мысли полная противоположность между
объективной целью Бога и субъективными целями человека мыслится таким образом,
что цель Бога навязывает истории некий объективный план, совершенно не
зависящий от субъективных целей человека. А это с необходимостью ведет к идее о
том, что намерения людей никак не влияют на ход истории, а единственной силой,
направляющей ее, оказывается Божественная Природа»{148}.
За такое искажение христианского Откровения мыслящие на средневековый
манер западные историки начала Нового времени подверглись атаке как со стороны
более позднего научного догматизма, так и со стороны агностического
скептицизма. Эти историки, говоря словами Коллингвуда, впали в «ошибочное
убеждение в том, что они могут предсказывать будущее», и, «стремясь обнаружить
общий план истории и веря, что этот план принадлежит Богу, а не человеку, они
стали заниматься поисками сущности истории вне самой истории, пренебрегая
деяниями людскими, для того чтобы открыть план Божественный».
«Вследствие этого конкретные факты человеческой деятельности
стали для них чем‑то малозначительным. Они пренебрегли первой обязанностью
историка – его готовностью любой ценой установить, что же произошло в действительности.
Вот почему средневековая историография так слаба в смысле критического метода.
Эта слабость не случайна. Она определяется не скудостью источников и
материалов, находившихся в распоряжении ученых. Она зависит не от
ограниченности того, что они могли делать, а от ограниченности того, что они
желали делать. Они стремились не к точному и научному исследованию подлинных
фактов прошлого, а к точному и научному исследованию атрибутов Божества, к
теологии… позволившей бы им определять априори, что должно было произойти и что
должно будет произойти в ходе исторического процесса.
Все это обусловило то, что в глазах ученого‑историка того
типа, который не заботится ни о чем другом, кроме точности в передаче фактов,
средневековая историография не просто неудовлетворительна, но преднамеренно и
отталкивающе ложная. Историки XIX столетия, которые, как правило, и занимали
именно такую чисто академическую позицию в своем отношении к природе истории,
воспринимали эту историографию с крайней антипатией»{149}.
Враждебность по отношению к средневековой концепции
характерна не только для поколения новейших историков, чей самодовольный
агностицизм являлся отражением приятного спокойствия их жизни. При более
сильном накале страстей ею вдохновлялись также их предшественники и
последователи. Возьмем сначала последних: поколение XX в., испытавшее один
неприятный опыт за другим благодаря человеческим диктаторам, стремившимся
заставить своих подданных действовать по пятилетним планам, с отвращением
восстало бы против предположения, что шеститысячелетний план навязан им
диктаторской волей Божества. Что касается западного человека XVIII столетия,
чьи непосредственные предшественники заплатили за свою верность средневековой
концепции тем, что сами вызвали свою агонию в виде Религиозных войн, то он не
смог бы отделаться от тезиса Боссюэ как от нелепого и устаревшего предрассудка.
Ибо для него он был «врагом», и «Écrasez l'Infâme» («Раздавите гадину!») было
лозунгом века Вольтера. Здесь не было существенного различия между деистами[669], которые
готовы были признать существование Божества, оговаривая, что, подобно королю из
Ганноверской династии в Великобритании, оно царствует, но не правит, и
атеистами, которые отрицали Бога как вступление к Декларации независимости
Природы. С этого времени законы природы становились совершенно неумолимыми и,
следовательно, находились в процессе превращения во всецело умопостигаемые. Это
была эпоха ньютоновской автоматической Вселенной и Божественного часовщика
Пейли[670], одновременно
заводящего часы и ликвидирующего свое предприятие.
Таким образом, от «Закона Бога» освободились как от
заблуждения той тьмы, из которой вышел западный человек Нового времени. Однако
когда ученые намеревались вступить во владение этим имением, из которого был
изгнан Бог, они обнаружили, что существует одна область, в которой их судебное
постановление – «законы Природы» – нельзя заставить действовать. Наука могла
объяснить нечеловеческую природу. Она могла даже объяснить действия
человеческого тела, которые, оказывается, очень похожи на действия тел других
млекопитающих. Но когда встал вопрос о деятельности человеческого рода не как
животных, а как человеческих существ, находящихся в процессе цивилизации, наука
отступила. Здесь был хаос, не поддающийся ее законам, бессмысленная последовательность
событий, которую английский писатель XX в. и поэт‑лауреат назвал абревиатурой
«Odtaa» («one damned thing after another»), что означает «одно проклятье за
другим»[671]. Наука не
могла ее осмыслить, оставив ее менее амбициозному братству историков.
Метафизические картографы XVIII в. разделили Вселенную. По
одну сторону линии раздела они поместили организованную область нечеловеческих
дел, в которой, как они верили, действуют «законы Природы» и которая тем самым,
как они полагали, постепенно становится доступной человеческому исследованию
благодаря совместной интеллектуальной активности. На другой стороне они
оставили хаотическую область человеческой истории, откуда, как они думали,
нельзя извлечь ничего, кроме занимательных рассказов, которые можно записывать
со все большей точностью, но которые ничего не могут «доказать». Именно это и
имел в виду некто (утверждают, что американский автомобильный промышленник
Генри Форд), когда сказал, что история – это «болтовня». Главной чертой
последующего периода вплоть до времени написания этой книги было то, что наука
принялась с переменным успехом присоединять к своим владениям различные
области, первоначально оставленные историкам, – такие, например, как область
антропологии, экономики, социологии и психологии. На оставшейся в их владении,
постоянно сокращавшейся территории, где еще не ступала нога науки, историки
невозмутимо продолжали заниматься своей деятельностью по «установлению фактов».
Однако основным верованием западного человека всегда была
вера в то, что Вселенная подчиняется Закону, а не предоставлена Хаосу.
Деистической и атеистической версией этого верования в Новое время была вера в
то, что Закон Вселенной – это система «законов Природы». Область действия этих
законов, правда, постоянно расширялась. Величайшими именами в истории науки
были имена тех, кто видел за внешним обличьем Хаоса лежащий в основе Порядок.
Деятельность, благодаря которой стали, например, известны Ньютон, Дарвин и
Эйнштейн, была деятельностью именно такого поясняющего рода. Кто бы осмелился
провести границу, за которой этим интеллектуальным конкистадорам было бы запрещено
простирать свои действия? Заявление о том, что одна область Вселенной –
метрополия, занимаемая цивилизованным человеком, – зарезервирована неким
неуказанным более высоким авторитетом в качестве святилища Хаоса, могло бы
удовлетворить историков‑антиномистов, но всеми здравомыслящими приверженцами
науки рассматривалось бы как богохульство.
Фактически современные западные историки склонны в гораздо
меньшей степени становиться антиномистами, чем предполагают сами, по признанию
одного выдающегося практика исторического ремесла середины XX в.
«Люди данного поколения обычно не подозревают, до какой
степени они рассматривают современную им историю в рамках вымышленной
структуры, классифицируя события по неким видам или втискивая их в некие
шаблоны, которые иногда принимают за грезы наяву. Они могут в возвышенных
чувствах не осознавать тот способ, которым их сознание сужается из‑за шаблонной
формулировки истории. И только когда мир меняется, и появляется новое
поколение, не связанное от рождения общепринятой схемой, узость этой схемы
становится очевидной для каждого… Это ошибка многих писателей и преподавателей
истории – воображать, что если они не христиане, то они воздерживаются от
впутывания в какое‑либо опасное дело или вовсе работают без какой‑либо
доктрины, обсуждая Историю без каких‑либо предрассудков. Среди историков, как и
в других областях, самыми слепыми из всех слепых являются те, кто неспособен
исследовать собственные предрассудки и, следовательно, весело воображает, что у
него их нет»{150}.
Это картина узника, не знающего о своих цепях, и в данном
контексте мы не можем воздержаться, чтобы не процитировать во второй раз
отрывок, ставший по причине своей вежливости и великолепия книги, которую он
предваряет, классическим исповеданием неверия антиномистов.
«Одна мысль не давала мне покоя. Люди и более мудрые, и
более образованные, чем я, различали в Истории план, ритм, заранее
установленную модель. Эта согласованность от меня скрывалась. Я мог видеть
только один случай, следующий за другим, как волна следует за волной; только
один большой факт, в отношении которого, поскольку он уникален, не может быть
никаких обобщений, только одно верное правило для историка: что ему следует
признавать в развитии человеческих судеб игру случайного и непредвиденного»{151}.
И тем не менее, историк, который таким образом публично
провозгласил свою преданность догме о том, что История – лишь «одно проклятье
за другим», в названии своей книги «История Европы» связывает себя почти тут же
заранее установленной моделью, в которой история одного неразличимого
«континента» приравнена ко всей истории человечества. И приходит он к этой
исторической условности Запада Нового времени, бессознательно подписываясь под
пунктами находящейся ныне в обращении на Западе religio historici[672].
Бессознательные умственные операции, требующиеся для веры в существование
«Европы», настолько тщательно разработаны, что количество негласно принимаемых
статей должно достигать, по меньшей мере, тридцати девяти[673].
XXXVI.
Подверженность человеческой деятельности «законам Природы»
1. Обзор фактических данных
а) Частная деятельность индивидуумов
Начнем в целях нашего исследования с допущения, что открытым
остается вопрос о том, имеют ли «законы Природы» какое‑либо основание в истории
цивилизованного человека. Затем мы должны рассмотреть различные области
человеческой деятельности, чтобы узнать, оказывается ли вопрос при ближайшей
проверке таким же открытым, как мы предполагаем в настоящее время. Было бы
удобнее сначала рассмотреть обычную деятельность частных людей – тему, в
изучение которой современные историки внесли значительный вклад под шапкой
«социальной истории». Здесь трудность, с которой мы сталкиваемся при поиске
законов, управляющих историей цивилизаций, явно отсутствует. Количество
отмеченных цивилизаций слишком мало, что затрудняет обобщение. Их менее двух
дюжин, и о некоторых из них наши сведения слишком фрагментарны. В свою очередь,
частные лица исчисляются миллионами, и их поведение в условиях современного
Запада подлежит тщательно разработанному статистическому анализу, на основе
которого практики делают прогнозы, рискуя не только своей репутацией, но и
своими деньгами. Те, кто контролирует промышленность и торговлю, уверенно
предполагают, что на таком‑то рынке будет такое‑то предложение товаров. Они
иногда будут ошибаться, но гораздо чаще не будут, иначе им придется оставить
бизнес.
Деловой операцией, которая яснее всего иллюстрирует
применимость закона средних убытков к человеческой деятельности, является
страхование. Несомненно, мы должны остерегаться слишком поспешного привлечения
на свою сторону всех видов страхования в подтверждение аргумента о применимости
«законов природы» к человеческой деятельности в том смысле, в каком мы
используем последнее понятие. Страхование жизни имеет отношение к перспективам
человеческого тела, а физиология явно входит в сферу деятельности науки. В то
же время нельзя отрицать, что это касается и души, ибо физическая жизнь может
быть продлена благодаря рассудительности и укорочена по причине различных
неблагоразумных действий – от героизма и безрассудства до скотства. Морское
страхование кораблей и их грузов аналогичным образом подразумевает исследование
метеорологии, которая также является областью науки, хотя в настоящее время в
некоторой степени непокорной. Но когда мы подходим к страхованию от краж и
пожаров, то, кажется, здесь страховые компании уверены в действии законов
средних убытков, примененных к характерным человеческим качествам –
преступности и халатности.
б) Производственная деятельность современного западного общества
Статистические модели, различимые в изменении спроса и
предложения в сделках между поставщиками и их покупателями, замечательно
показали себя в непрерывной цепи «бумов» и «спадов». Однако модель этих циклов
деловой активности ко времени написания книги еще не была разработана с
достаточной точностью, чтобы стимулировать страховые компании на открытие новых
отраслей своего бизнеса, назначая страховые премии от ужасного риска,
связанного с ними. Ученые‑исследователи, тем не менее, уже многое узнали об
этом предмете.
В интеллектуальной истории промышленного западного общества
феномен экономических циклов был открыт эмпирически из непосредственного
наблюдения за обществом еще до того, как был подтвержден статистически. Его
наиболее раннее описание было сделано в 1837 г. британским исследователем С.
Дж. Ллойдом (впоследствии – лордом Оверстоном)[674]. В книге,
впервые опубликованной в 1927 г., американский исследователь циклов деловой
активности У. К. Митчелл[675] провозгласил свою веру в то, что «характерные
черты циклов деловой активности, как можно ожидать, будут меняться по мере
того, как развивается экономическая организация». На основе «деловых анналов»,
составленных другим американским ученым, У. Д. Торпом, на материале
нестатистических данных, третий американский ученый, Ф. С. Миллс, подсчитал,
что средняя длина волны «короткого» экономического цикла будет 5, 86 лет на
ранних стадиях индустриализации, 4,09 лет на последующей стадии быстрого
переходного периода и 6, 39 лет на более поздней стадии сравнительной
стабильности.
Другие экономисты предлагали иные циклы, некоторые из
которых, как они полагали, имели более длинные волны. Другие говорили, что эти
«волны» демонстрируют тенденцию к затуханию в состоянии равновесия. Среди всех
их не было общего согласия, и исследование фактически находится на ранней
стадии своего развития. Нет необходимости продолжать его дальше. Положение,
которое мы хотели доказать, состоит в том, что в течение двухсот лет, истекших
с начала промышленной революции в Великобритании, отцы западной экономической
науки были заняты извлечением из массы спутанных данных, предоставленных им
экономической историей, свода законов, управляющих экономической сферой
человеческой деятельности, в которой начали действовать характерные
человеческие качества.
в) Соперничество национальных государств: «политическое равновесие»
Обнаружив, что экономисты используют результаты своих
исследований для выявления рабочих законов, применимых к экономической истории,
мы, естественно, обращаемся к политической сфере деятельности, чтобы
посмотреть, возможно ли и здесь нечто подобного рода. В качестве поля
деятельности в политической сфере мы выберем соперничество и войны национальных
государств западного мира в период Нового времени. Можно принять за начало
этого периода западной истории итальянизацию государственной системы
трансальпийской Европы в конце XV в., так что в целях настоящего исследования в
нашем распоряжении имеется около четырех столетий.
«Каждый школьник знает» (по оптимистической оценке Маколея),
что в четырех событиях, отделенных друг от друга приблизительно столетием,
английский (или британский) народ, используя преимущества относительной неприкосновенности,
обеспечиваемой своим островным положением, сперва отказывался, а затем помогал
в разрушении континентальной державы, которая пыталась, или грозилась, создать
для западно‑христианского мира универсальное государство или, во всяком случае,
говоря традиционным языком, «нарушала политическое равновесие». В первом
событии нарушителем была Испания – Испанская армада, 1588 г.; во втором –
Франция Людовика XIV – Бленхеймская битва, 1704 г.[676]; в третьем
событии – Франция Революции и Наполеона – Ватерлоо, 1815 г.; в четвертом
событии – Германия Вильгельма II – День перемирия, 1918 г., впоследствии снова
оживившаяся при Гитлере, – Нормандия, 1944 г. Здесь явно присутствует
циклическая модель, если смотреть на дело с островной точки зрения, ряд четырех
«великих войн», растягивающихся со странной регулярностью – каждый промежуток
больше предшествующего – как по интенсивности военных действий, так и по тому,
что мы назовем охватом воюющих сторон. Первая из ряда войн является делом
атлантических государств – Испании, Франции, Нидерландов и Англии. Вторая
вводит в действие центральноевропейские государства и даже Россию, если
рассматривать Северную войну как своего рода приложение к Войне за Испанское
наследство. Третий (наполеоновский) круг вводит Россию как ведущую воюющую
сторону и, возможно, включает Соединенные Штаты Америки, если рассматривать
Англо‑американскую войну 1812‑1814 гг. как приложение к наполеоновским войнам.
В четвертом Америка выступает в качестве ведущей военной стороны, а на всеобщий
характер борьбы указывает тот факт, что ее последовательные круги были названы
Первой и Второй мировыми войнами.
Каждая из этих четырех войн, имевших целью предотвратить
установление современного западного универсального государства, отделялась от
последующей и предшествующей временным промежутком примерно в столетие. Если мы
исследуем три столетия между войнами, то обнаружим в каждом из случаев то, что
можно назвать «на полпути» к войне или дополнительной войной, или группой войн:
в каждом из случаев мы обнаружим борьбу за превосходство не над всей Западной
Европой, а над ее центральной областью – Германией. Поскольку эти войны были
преимущественно центральноевропейскими, Великобритания ни в одной из них не
участвовала до конца, в то время как в некоторые из них она вообще не
вмешивалась. Следовательно, они не до такой степени непременно входили в то,
что «каждый школьник знает» (разумеется, имея в виду каждого британского
школьника). Первой из этих промежуточных войн была Тридцатилетняя война (1618‑1648),
вторая заключала в себе большую часть войн Фридриха «Великого» Прусского (1740‑1763),
а третья связана с Бисмарком, хотя включает в себя гораздо больший промежуток
времени и должна быть датирована 1848‑1871 гг.
Наконец, можно утверждать, что у этой драмы в четырех актах
была увертюра, которую открывает не Филипп II Испанский[677], а
«Итальянские войны» Габсбургов‑Валуа двумя поколениями раньше. Эти войны
начались с поразительно безрезультатного, но зловещего вторжения в Италию
короля Карла VIII Французского[678]. Дату этого
вторжения, 1494 г., образованные специалисты часто используют в качестве
жесткой линии разделения между поздним Средневековьем и ранним Новым временем.
Это произошло два года спустя после завоевания христианами последней
остававшейся у мусульман территории в Испании и первой высадки Колумба в Вест‑Индии.
Все это можно выразить в виде таблицы. Исследование циклов
мира и войны в послеалександровскои эллинской истории и в постконфуцианской
китайской истории[679] выявляет исторические «модели», удивительно
похожие по своей структуре и по своей продолжительности на те, которые
обнаружены в ходе западной истории Нового времени.
г) Распады цивилизаций
Если мы на минуту взглянем назад на нашу циклическую модель
войн в западном обществе Нового времени, то будем потрясены тем фактом, что это
не просто случай колеса, прокручивающегося четыре раза в пустоте и
возвращающегося каждый раз в то положение, из которого стартовало. Это также
случай колеса, двигающегося вперед по дороге в особо опасном направлении. С
одной стороны, здесь четыре случая государств, объединяющихся вместе для защиты
себя от сверхмогущественного и самонадеянного соседа и в конце концов показывающих
ему, что гордыня приводит его к падению. С другой стороны, есть один пункт,
который циклическая модель не выявляет, но который обнаруживает даже самое
элементарное знание истории: каждая из этих военных схваток была обширнее,
яростнее, разрушительнее в материальном и нравственном отношении, чем
предыдущая. В истории других обществ, таких как эллинское и древнекитайское,
подобные военные схватки заканчивались для борющихся шахматных фигур тем, что
все они были сметены с доски, кроме одной, которая затем устанавливала
универсальное государство.
Это самопогашение циклического ритма, которое оказывается
доминирующей тенденцией в борьбе за существование между национальными
государствами, ранее уже привлекало наше внимание в нашем исследовании распадов
цивилизаций. Неудивительно, что существует сходство между ритмами двух этих
процессов, явно связанных друг с другом. Наше исследование надломов, из которых
происходят распады, показало, что частым поводом, симптомом или даже причиной
надлома являлась вспышка особенно яростной войны между местными государствами,
из которых состоит общество. За заменой борющихся государств экуменической
империей обычно следует не полное прекращение вспышек насилия, а их появление в
новых формах, в качестве гражданских войн или социальных переворотов. Таким
образом, процесс распада, хотя и приостановленный на время, продолжается.
Мы заметили также, что распады, подобно войнам национальных
государств, следуют своему курсу в ряде ритмических колебаний. Из исследования
множества примеров мы установили, что циклический ритм «разгрома‑и‑оживления»,
в котором преобладающая тенденция к распаду борется с движением сопротивления,
обычно состоит из трех с половиной тактов – разгрома, оживления, спада,
оживления, спада, оживления, спада, – совершая свое историческое путешествие от
надлома цивилизации к ее окончательному исчезновению. Первый разгром
отбрасывает надломленное общество в состояние «смутного времени», которое
сменяется первым оживлением лишь для того, чтобы за ним последовал второй и еще
более сильный приступ. За этим спадом следует еще более длительное второе
оживление, проявляющееся в установлении универсального государства. Оно, в свою
очередь, переживает спад и оживление, и за этим последним оживлением уже
следует окончательный распад.
Можно увидеть, что драма «социального распада» имеет (если
судить о ней по имеющимся до настоящего времени представлениям) более
определенный и постоянный сюжет, чем драма «политического равновесия». И если
мы рассмотрим нашу таблицу универсальных государств, то обнаружим, что в тех
случаях, когда ход событий не нарушается воздействием чуждых социальных систем,
промежуток приблизительно в четыреста лет обычно занимает движение разгрома,
оживления, спада и более эффективного оживления, начиная с первоначального
надлома до установления универсального государства. Дальнейший период,
приблизительно такой же по продолжительности, занимает последующее движение
повторного спада, последнего оживления и окончательного спада, начиная с
установления универсального государства до его гибели. Однако универсальное
государство обычно сопротивляется до конца, и Римская империя, которая
развалилась в отсталых в социальном отношении западных провинциях вслед за
катастрофой при Адрианополе в 378 г.[680] (ровно через четыреста лет после основания ее
Августом), не следовала по тому же самому пути в центральных и восточных
провинциях вплоть до смерти Юстиниана в 565 г. Аналогичным образом Ханьской
империи, которой был нанесен второй удар в 184 г. и которая раскололась после
этого на три царства, удалось возродиться на время в объединенной Цзиньской
империи (280‑317), прежде чем она окончательно погибла.
д) Рост цивилизаций
Когда мы переносим свое внимание с социального распада на
социальный рост, то вспоминаем наш вывод, сделанный в предшествующей части
данного «Исследования», о том, что рост, подобно распаду, представляет собой
циклически ритмическое движение. Рост имеет место там, где на вызов следует
успешный ответ, который, в свою очередь, порождает еще один вызов. Мы не нашли
какой‑либо существенной причины, которая бы препятствовала бесконечному
повторению этого процесса, несмотря на то, что большинству цивилизаций, которые
появлялись вплоть до времени написания этой книги, не удалось (и это
исторический факт) удержать процесс своего роста. Им не удавалось дать больше,
чем небольшое количество раз, подряд такой ответ, который бы одновременно
являлся и эффективным ответом на брошенный вызов, и порождал бы новый вызов,
требующий иного ответа.
Мы, например, видели, что в истории эллинской цивилизации
первоначальный вызов анархического варварства породил эффективный ответ в виде
нового политического института – города‑государства. Мы заметили, что успех
этого ответа породил новый вызов, на этот раз в экономическом плане, в виде
растущей численности населения. Этот второй вызов породил множество
альтернативных ответов различной действенности. Имел место гибельный
спартанский ответ, состоявший в насильственном присоединении плодоносных земель
эллинских соседей Спарты. Был оказавшийся на какое‑то время эффективным ответ
коринфской и халкедонской колонизации, завоевавшей для эллинов новые пахотные
поля за морем в землях, отнятых у более отсталых народов западного бассейна
Средиземноморья. И был оказавшийся эффективным надолго афинский ответ,
состоявший в увеличении общей продуктивности этого расширенного эллинского мира
(после того как его географическая экспансия остановилась из‑за сопротивления
финикийских и тирренских конкурентов) посредством экономической революции, в ходе
которой натуральное хозяйство было заменено товарным и промышленным
производством на экспорт в обмен на импортируемые основные продукты и сырье.
Этот успешный ответ на экономический вызов породил, как мы
видели, дальнейший вызов в плане политическом. Ибо новый экономически
независимый эллинский мир требовал политического режима закона и порядка
экуменического масштаба. Существующий режим управления локальными городами‑государствами,
поощрявший рост самостоятельной сельскохозяйственной экономики в каждой
изолированной части равнины, более не обеспечивал адекватной политической
структуры для эллинского общества, экономическая структура которого теперь
стала единой. На этот третий вызов не был дан своевременный ответ, который мог
бы уберечь рост эллинской цивилизации от надлома.
В процессе роста западной цивилизации мы можем также
обнаружить ряд последовательных вызовов, порождающих успешные ответы, и этот
ряд длиннее эллинского, поскольку на третий вызов здесь был дан такой же
успешный ответ, как на первый и на второй.
Первоначальным вызовом было то же анархическое варварство
эпохи междуцарствия, с которым столкнулись и эллины, но ответ был иным, а
именно, этим ответом стало создание экуменического церковного института в виде
гильдебрандовского папства. Это спровоцировало второй вызов, поскольку растущий
западно‑христианский мир, достигший церковного единства, начал тогда нуждаться
в эффективной с политической и экономической точек зрения системе локальных
государств. Ответом на вызов стало возрождение эллинского института городов‑государств
в Италии и Фландрии. Тем не менее это решение, сослужившее в некоторых областях
хорошую службу, оказалось неспособным удовлетворить требованиям территориально
расширявшихся феодальных монархий. Могло ли решение проблемы по созданию
эффективных местных органов западной политической и экономической жизни,
появившихся в Италии и Фландрии благодаря системе городов‑государств, оказаться
полезным для остального западного мира путем переноса этой итальянской и
фламандской эффективности в масштаб большой нации?
Эта проблема, как мы уже видели, была решена в Англии
сначала в политическом плане, благодаря приданию эффективности средневековому
трансальпийскому институту парламента, а затем в экономическом плане благодаря
промышленной революции. Эта западная промышленная революция, однако же, подобно
афинской экономической революции в эллинской истории, привела к замене местной
экономической самостоятельности всемирной экономической взаимозависимостью.
Таким образом, в результате успешного ответа на третий вызов западная
цивилизация оказалась перед тем же самым новым вызовом, с которым столкнулась
эллинская цивилизация после своего успешного ответа на второй вызов. Ко времени
написания этой книги, в середине XX в., западный человек еще не дал успешного
ответа на этот политический вызов, но уже начал остро осознавать его опасность.
Этого беглого взгляда на рост двух цивилизаций достаточно,
чтобы показать, что в их историях нет единообразия в количестве звеньев в цепи
замкнутых кругов вызовов‑и‑ответов, благодаря которым достигается социальный
рост. И исследование историй всех других в достаточной степени
документированных цивилизаций подтверждает этот вывод. Результат нашего
настоящего исследования, по‑видимому, состоит в том, что действие «законов
Природы» в истории роста цивилизаций столь же незаметно, сколь и в истории их
распада. В последней главе мы обнаружим, что это неслучайно и составляет
внутреннее различие между процессом роста и процессом распада.
е) «Нет доспехов против Судьбы»[681]
Исследуя действие «законов Природы» в истории цивилизаций,
мы обнаружили, что ритм, в котором эти законы проявляются, обычно возникает из
борьбы двух неравных по силе тенденций. Существует доминирующая тенденция,
долгое время превалирующая над повторяющимися противодействующими движениями, в
которых утверждает себя упорно противящаяся тенденция. Борьба имеет
закономерный характер. Упорство более слабой тенденции в ее нежелании
подчиниться поражению объясняет повторение столкновений в ряде последовательных
циклов. Преобладание более сильной тенденции дает о себе знать в том, что
раньше или позже завершает этот ряд.
С этой точки зрения мы рассмотрели борьбу за существование
между локальными государствами, следующей – через три или четыре цикла войн,
ведущихся, с одной стороны, за уничтожение, а с другой стороны, за поддержание
равновесия сил – пути, который в каждом из случаев заканчивается уничтожением
этого равновесия. Мы также рассмотрели борьбу между тенденцией надломленного
общества к распаду и его противоположную попытку восстановить утерянное
здоровье – путь, ведущий в каждом из случаев к распаду. Изучая действие
«законов Природы» в экономической деятельности индустриального западного
общества, мы обнаружили предположения опытных исследователей экономических
циклов о том, что эти повторяющиеся движения могут оказаться волнами, бегущими
по воде, которая все время течет в потоке, продвижение которого вперед в
конечном итоге завершит эти ритмические колебания. В той же связи мы можем
вспомнить наш вывод о том, что когда конфликт между распадающейся цивилизацией
и отрядами непокорных варваров, живущих за ее границей, переходит от динамичной
войны к статичным военным действиям вдоль limes (военной границы)
универсального государства, то время обычно работает не на защитников военной
границы, а на их противников‑варваров, пока, наконец, дамба не прорывается и
поток варварства не сметает существующую социальную структуру с лица земли.
Все это иллюстрации нашего более общего вывода о том, что
циклические движения в человеческой истории, подобно физическим поворотам
тележного колеса, способствуют посредством собственного монотонно
повторяющегося циркулярного движения другому движению с более длительным
ритмом. Это второе движение, в противоположность первому, как можно увидеть,
является совокупным прогрессом в одном направлении, который в конце концов
достигает своей цели и, достигнув ее, завершает этот ряд. Тем не менее нет
никаких оснований для того, чтобы интерпретировать эти победы одной тенденции
над другой в качестве иллюстраций «законов Природы». Эмпирически исследованные
данные не являются с необходимостью результатами неумолимого рока. Бремя
доказательств здесь всецело лежит на детерминисте, а не на агностике –
соображение, которое Шпенглер с его догматическим и недокументированным
детерминизмом не смог принять в расчет.
Однако без ущерба для все еще незавершенного спора между
Законом и Свободой в истории мы предлагаем, прежде чем попытаемся продолжить
нашу дальнейшую аргументацию, обратить внимание на несколько других эпизодов, в
которых та же тенденция вновь отстаивает себя перед лицом последующих восстаний
против нее. В подобных развязках конфликтующих сил Шпенглер увидел бы руку «Судьбы»,
однако, невзирая на то, верна его догма о неизбежности или нет, он вряд ли
пытался ее доказать. Мы начнем с ситуации, возникшей в связи с установлением
благодаря военному героизму эллинского доминирующего влияния в Юго‑Западной
Азии.
Хотя это эллинское влияние насчитывало немногим менее
тысячелетия, когда в VII в. христианской эры было свергнуто арабо‑мусульманскими
военными отрядами, эллинизму никогда не удавалось южнее Тавра быть чем‑то
большим, нежели чуждой экзотической культурой, слабо излучающей свое влияние на
неисправимую сирийскую или египетскую сельскую местность из своих аванпостов в
немногочисленных эллинских или эллинизированных городах. Способность эллинизма
к массовым обращениям подверглась испытанию эллинизатором из династии Селевкидов
Антиохом Эпифаном (правил в 175‑163 гг. до н. э.), когда он намеревался сделать
из Иерусалима такой же эллинский город, как и Антиохия. Сокрушительное
поражение этого культурно‑военного предприятия предзнаменовало окончательное и
полное исчезновение культуры завоевателей. Ее неизменно болезненное
существование продолжилось еще на несколько столетий благодаря тому факту, что
римляне унаследовали власть от ослабевших Селевкидов и Птолемеев.
Эллинское влияние на сирийское и египетское общества было
установлено и поддерживалось силой оружия. И до тех пор, пока завоеванные
общества реагировали на него таким же образом, они терпели поражение. В
следующей главе истории массовое обращение жителей восточных провинций в
христианство в III в. христианской эры, по‑видимому, случайно смогло сделать
то, что безуспешно пытался сделать Антиох, ибо в этих провинциях православная
христианская Церковь пленила как подчиненное местное крестьянство, так и
городскую эллинскую «власть». А поскольку христианство произвело этот триумфальный
прогресс под эллинским покровом, казалось, будто бы жители Востока теперь
наконец‑то по недосмотру приняли вместе с христианством ту культуру, которую
они столь страстно отрицали, когда ее предлагали им в ее чистом и
незамаскированном виде. Однако эта оценка была бы неверной. Приняв
эллинизированное христианство, жители Востока принялись освобождать свою
религию от эллинского влияния, усваивая следующие одна за другой ереси, из
которых первой было несторианство. В таком возобновлении движения восточного
сопротивления эллинизму в невоенной форме теологической полемики жители Востока
додумались до новой техники ведения культурной войны, в которой они в конце
концов одержали победу.
Это антиэллинское культурное наступление выражалось в
течение нескольких столетий в циклической модели, которая нам уже знакома.
Несторианская волна поднялась и спала, за ней последовала монофизитская волна,
а за ней, в свою очередь, волна мусульманская, которая сметала на своем пути
все. Можно сказать, что мусульманская победа явилась возвращением к грубому
методу военного завоевания. Несомненно, арабо‑мусульманские военные отряды вряд
ли можно рассматривать в качестве предшественников ненасильственных доктрин
непротивления злу Толстого и Ганди. Они «завоевали» Сирию, Палестину и Египет с
637 по 640 г., однако это было завоевание того же самого рода, какое совершил
Гарибальди в 1860 г., когда «завоевал» Сицилию и Неаполь с 1 000 добровольцев в
красных рубашках при поддержке двух маленьких пушек, которые были взяты для видимости,
не обеспеченные никакими другими боеприпасами. Королевство Обеих Сицилии было
завоевано военной миссией «Объединенной Италии», поскольку оно хотело быть
завоеванным, и чувства жителей восточных провинций Римской империи по отношению
к арабским военным обрядам немногим отличались от чувства сицилийцев к
Гарибальди.
В уже приведенном нами примере мы видели последовательный
ряд еретических протестов против нежеланного единообразия, из которых третий
оказался успешным. История Франции с XII в. христианской эры представляет ту же
самую модель в ином контексте. Начиная с этого столетия, римско‑католическая
Церковь во Франции была занята лишь на короткое время приводившей к успеху
борьбой за установление церковного единства Франции в качестве католической страны
против раскольнических тенденций, которые продолжали вновь заявлять о себе в
новой форме, после того как предыдущая была подавлена. Восстание против
католического христианства, принявшее форму ереси катаров[682] в своей первой вспышке на юге Франции в XII
в., было подавлено там в XIII в., чтобы вновь появиться в том же самом регионе
в XVI в. в качестве кальвинизма. Объявленное вне закона в виде кальвинизма, оно
сразу же возникает вновь в виде янсенизма[683], который был
самым близким к кальвинизму из возможных среди католической паствы учений.
Запрещенное в виде янсенизма, это восстание появляется вновь в виде деизма,
рационализма, агностицизма и атеизма.
В других контекстах мы уже замечали, что судьбой иудейского
монотеизма было то, что он постоянно был окружаем неоднократно возрождавшимся
политеизмом, и такова же была судьба родственной иудейской концепции трансцендентности
единого истинного Бога, которая не меньшее число раз окружалась желанием Бога
Воплощенного. Монотеизм подавил культ Ваала и Астарты лишь для того, чтобы
осужденные соперники ревнивого Яхве коварно прокрались обратно в лоно иудейской
ортодоксии под маской персонификаций Божьего «Слова», «Премудрости» и «Ангела»,
а впоследствии утвердились в лоне христианской ортодоксии в учении о Святой
Троице и в культе Тела и Крови Господних, Божьей Матери и святых. Эти новые
вторжения политеизма вызвали искреннее возрождение монотеизма в исламе и менее
радикальное его утверждение в протестантизме. Двум этим пуританским движениям,
в свою очередь, доставляли беспокойство неукротимая склонность души к множеству
богов, которое бы отражало видимую множественность природных сил во Вселенной.
2. Возможные объяснения действия «законов
Природы» в истории
Если соглашаться с реальностью повторения и единообразия,
которые мы различили в ходе данного «Исследования», то, по‑видимому, существуют
два возможных их объяснения. Законами, управляющими ими, могут быть или законы,
действующие в нечеловеческом окружении человека и навязываемые ходу истории
извне, или законы, свойственные психической структуре и действующие в самой
человеческой природе. Мы начнем с рассмотрения первой гипотезы.
Цикл смены дня и ночи, например, очевидным образом
воздействует на повседневную жизнь обычных людей, однако мы можем исключить его
из нашего рассмотрения в данном контексте. Чем дальше человек отходит от своего
первобытного состояния, тем более он становится способным «превращать ночь в
день», когда ему это потребуется. Другим астрономическим циклом, рабом которого
некогда был человек, является годовой цикл смены времен года. Великий пост стал
временем христианского воздержания, поскольку еще за много веков до того, как в
мир пришло христианство, конец зимы постоянно был таким временем года, когда
человеку приходилось терпеть нужду независимо от того, являлось ли это для него
духовным благом или нет. Однако здесь снова западный и вестернизированный человек
освободились от законов Природы. Путем холодильного хранения и быстрой
транспортировки по технологически унифицированной поверхности планеты любое
мясо, овощи, фрукты или цветы можно теперь купить круглый год в любой части
света тем, у кого есть на это деньги.
Знакомый нам годовой цикл был, вероятно, не единственным
астрономическим циклом, которому подчиняется флора Земли и которой тем самым
косвенно порабощен человек, в той мере, в какой он зависит от
сельскохозяйственных продуктов. Современные метеорологи выявили симптомы более
продолжительных по времени погодных циклов. Исследуя набеги кочевников из
«степи» в «пахотные земли», мы обнаружили некоторые косвенные данные о погодном
цикле длительностью в шесть столетий, причем каждый из циклов состоял из
перемежающихся периодов сухости и влажности. Этот гипотетический цикл, по‑видимому,
ко времени написания книги был менее хорошо обоснован, чем некоторые другие
циклы того же рода, длина волны которых исчислялась лишь двойной или одинарной
величиной и которые проявлялись в регулировании колебаний в урожае,
искусственно посеянном и собранном при современных условиях. Было высказано
мнение, что существует соотношение между погодно‑урожайными и промышленно‑экономическими
циклами, выведенными некоторыми экономистами. Однако этот взгляд был перевешен
мнением современного эксперта. Блестящее предположение викторианского пионера в
этой области исследований Стенли Джевонса[684] о том, что торгово‑промышленные циклы могут
быть результатами колебаний солнечной активности, проявлявшейся в появлении и
исчезновении солнечных пятен, уже совершенно перестало пользоваться спросом.
Сам Джевонс позднее соглашался с тем, что «периодические экономические падения
по своей природе являются психическими, зависящими от изменений упадка духа,
оптимизма, волнения, разочарования и паники»{152}.
Кембриджский экономист А. С. Пигу[685] в 1929 г. высказал мнение, что значение
урожайных колебаний, каким бы оно ни было важным, в качестве фактора,
определяющего колебания в промышленной деятельности, в его время гораздо
меньше, чем пятьдесят или сто лет назад. Г. Хаберлер[686], который
писал через двенадцать лет после Пигу, высказал то же самое мнение. Мы
процитируем его здесь в качестве образца мнения ортодоксального экономиста
нашего времени.
«Убыль, равно как и рост, процветания… должна быть
обусловлена не влиянием “расстраивающих причин” извне, а процессом, который
постоянно проходит в самом мире бизнеса.
Таинственным [в этих колебаниях] является то, что они не
могут быть объяснены такими “внешними” причинами, как плохой урожай, вызванный
погодными условиями, болезнями, всеобщими забастовками, локаутами,
землетрясениями, неожиданными препятствиями в международных торговых каналах и
тому подобным. Резкое снижение объема продукции, реального дохода или уровня
занятости в результате неурожаев, войн, землетрясений и тому подобных
физических нарушений производственных процессов редко воздействует на
экономическую систему в целом и, несомненно, не вызывает депрессии в
техническом значении этого слова в теории экономических циклов. Под депрессиями
в техническом смысле этого слова мы имеем в виду те длительные и заметные спады
объема продукции, реального дохода и занятости, которые можно объяснить лишь
действием факторов, порождаемых внутри самой экономической системы, и прежде
всего нехваткой денежного спроса и отсутствием достаточной разницы между ценой
и себестоимостью.
В силу различных причин кажется желаемым при объяснении
экономического цикла придавать насколько можно меньшее значение влиянию внешних
волнений… Ответы экономической системы кажутся prima facie[687] более важными в формировании экономического
цикла, нежели внешние импульсы. Во‑вторых, исторический опыт демонстрирует, что
циклическое движение имеет устойчивую тенденцию к существованию даже там, где
нет выдающихся внешних влияний, на которые с определенной долей вероятности
можно было бы возложить ответственность. Это говорит о том, что в нашей
экономической системе есть внутренняя неустойчивость, тенденция к движению в
том или ином направлении»{153}.
Есть еще один, совершенно иной природный цикл, который
нельзя упустить из внимания, а именно человеческий цикл рождения, роста,
порождения потомства, старения и смерти. Яркой иллюстрацией его значимости для
специфической области истории явился для автора данного «Исследования» разговор,
который состоялся в 1932 г. на официальном завтраке в городе Троя, штат Нью‑Йорк.
Оказавшись за одним столом рядом с местным руководителем департамента по
общественному образованию, он спросил его, что среди его разнообразных
профессиональных обязанностей является для него наиболее интересным делом.
«Организация уроков английского языка для престарелых», – незамедлительно
ответил он. «Неужели же в англоязычной стране кто‑то умудряется дожить до
преклонных лет, так и не овладев английским?» – необдуманно продолжал
спрашивать британский гость. «Как видите, да, – сказал руководитель. – Троя –
это главный центр льняного производства в Соединенных Штатах, и еще до законов
об ограничении иммиграции 1921 и 1924 гг. большая часть местной рабочей силы
была набрана из иностранных иммигрантов и их семей. Теперь иммигранты, которые
все приехали из основных стран эмиграции, получили возможность оставаться
преданными, по мере сил, своему семейному прошлому, продолжая общаться с себе
подобными. Иммигранты одной национальности обычно не просто работали бок о бок,
но и жили в соседних квартирах. Таким образом, когда они выходили на пенсию,
большинство из них знали английский язык еще хуже, чем знали раньше, когда они
впервые высадились на американские берега. Им не приходилось узнавать что‑либо
новое в этом отношении в американской главе своей жизни, поскольку они
пользовались услугами доморощенных переводчиков. Их дети прибыли в Америку
достаточно молодыми, чтобы закончить среднюю школу до своего поступления на
фабрику, и соединение американского образования, скажем, с итальянским детством
делало их вполне двуязычными. Они говорили на английском на фабрике, на улице,
в магазине, а на итальянском – в домах своих родителей, почти не замечая, что
они постоянно переключаются с одного языка на другой. Их не требующий усилий
богатый билингвизм был очень удобен для их старых родителей. В самом деле, он
содействовал тому, что их родители после своего выхода на пенсию забывали даже
тот поверхностный английский, который они некогда переняли во время своей
рабочей жизни на фабрике. Тем не менее это еще не конец истории, поскольку со
временем дети вышедших на пенсию иммигрантов женились и завели собственных
детей. Для этих представителей третьего поколения английский был языком, на котором
они говорили как дома, так и в школе. Поскольку их родители женились после
того, как получили образование в Соединенных Штатах, один из них чаще всего был
уже неитальянского происхождения, и английский язык был тем lingua francha,
на котором отец и мать могли общаться друг с другом. Там рожденные в Америке
дети двуязычных родителей уже не могли знать родного языка своих итальянских
дедушек и бабушек, а кроме того, не пользовались им. Для чего им тратить силы
на изучение иностранного языка, выдающего их неамериканское происхождение, от
которого они желают избавиться и предать забвению? Так, деды обнаружили, что их
внуков нельзя заставить общаться с ними на единственном языке, на котором деды
могут с легкостью говорить. Тем самым они неожиданно столкнулись в своем
пожилом возрасте с ужасной перспективой невозможности установить какой‑либо
человеческий контакт со своими собственными живыми потомками. Для итальянцев и
других неанглоязычных континентальных европейцев с сильным чувством семейной
солидарности эта перспектива была невыносима. Впервые в своей жизни они
получили стимул для овладения до сих пор непривлекательным языком принявшей их
страны, и в прошлом году они решили обратиться ко мне за помощью. Конечно же, у
меня появилось желание устроить специальные курсы для них. И хотя общеизвестно,
что обучение иностранному языку становится труднее по мере старения человека, я
могу уверить вас, что эти английские уроки для престарелых являются одной из
наиболее успешных и ценных работ, которые я когда‑либо выполнял в нашем
департаменте».
Этот рассказ о Трое показывает, как ряд поколений может
совершить из‑за совокупного эффекта двух последовательных пропусков социальную
метаморфозу, которую никогда бы не совершили представители одного поколения в
пределах срока одной жизни. Процесс, в ходе которого итальянская семья
превратилась в американскую, нельзя проанализировать или ясно описать на основе
одной жизни. Для его осуществления потребовалось взаимодействие трех поколений.
А когда мы обращаемся от изменений национальности к рассмотрению религиозных и
классовых изменений, то обнаруживаем, что здесь также умопостигаемой единицей
является семья, а не индивид.
В классово сознательной современной Англии, которая в 1952
г. быстро разлагалась на глазах автора, обычно требовалось три поколения для
того, чтобы выбиться в «аристократию» из рабочего класса или мелкой буржуазии.
В сфере религии средняя длина волны, по‑видимому, та же самая. В истории
искоренения язычества в римском мире набожный до нетерпимости император Феодосии
I, христианин по рождению, следовал за обращенным в христианство из язычества
Константином I не в следующем поколении, а через одно. И в истории искоренения
протестантизма во Франции XVII в. тот же самый интервал отделял набожного
католика по рождению Людовика XIV от его деда, бывшего кальвиниста Генриха IV.
Во Франции на рубеже XIX‑XX вв. понадобилось такое же число поколений, чтобы
воспитать подлинно набожных католиков во внуках официально обратившихся к
агностицизму и атеизму буржуа, которые вновь приняли католицизм, поскольку
Церковь получила в их глазах новую ценность в качестве традиционного института,
могущего служить барьером против растущего потока социализма и других
идеологий, угрожающих уничтожить экономическое неравенство между буржуазией и
рабочим классом. В сирийском мире при халифате Омейядов понадобилось три
поколения, чтобы воспитать подлинно религиозных мусульман среди потомков бывших
христиан и зороастрийцев, которые приняли ислам, чтобы быть принятыми в
правящий класс примитивных мусульманских арабов. Продолжительность правления
Омейядов, поддерживавших власть завоевателей, зависела от периода в три
поколения, который должен был истечь, чтобы вывести на арену истории уже
рожденных в мусульманстве внуков первоначально обращенных в ислам. Омейядские
представители арабской власти были вытеснены аббасидскими представителями
равенства всех мусульман, когда во имя исламских религиозных принципов подлинно
набожные мусульманские внуки циничных новообращенных вступили в состязание с
индифферентными в религиозном отношении мусульманскими внуками индифферентных
мусульманских завоевателей‑арабов.
Если сцепление трех поколений таким образом оказывается
обычным психическим средством социального изменения в трех сферах –
религиозной, классовой и национальной, то будет неудивительно обнаружить, что
сцепление четырех поколений будет играть такую же роль в сфере международной
политики. Мы уже обнаружили, что в сфере столкновений цивилизаций временной
промежуток между созданием интеллигенции и ее восстанием против своих
создателей в среднем равняется приблизительно 137 годам в трех или четырех
примерах. Нетрудно увидеть, как сцепление четырех поколений также может
определять длину волны цикла войны‑и‑мира, если мы предположим, что агония
всеобщей войны производит на душу впечатление более глубокое, чем ряд умеренных
«дополнительных войн». Тем не менее если мы применим это соображение к циклам
войны‑и‑мира в Западной Европе Нового времени, то натолкнемся на камень
преткновения, обнаружив, что одна из «дополнительных» войн, а именно
Тридцатилетняя война, хотя и ограничивалась в географическом охвате Центральной
Европой, судя по всему, была более опустошительной для своей узкой
географической области распространения, чем «всеобщие войны», которые ей
предшествовали и следовали за ней.
Этот цикл войны‑и‑мира не является ни последней, ни наиболее
длительной из явно существующих, хотя и не строго действующих, закономерностей,
которые мы пытаемся объяснить. Каждый из этих циклов в сто или около того лет –
это лишь элемент в ряду, который в целом составляет то, что мы назвали «смутным
временем», следующим за надломом цивилизации. А оно, в свою очередь,
продолжается, например, в эллинской и древнекитайской истории, в универсальном
государстве, которое также демонстрирует уже отмеченные нами ритмы. Весь
процесс от начала до конца занимает в общем что‑то между 800 годами и 1000 лет.
Окажется ли полезным для нас здесь психологическое объяснение закономерностей в
человеческих делах, которое до сих пор в достаточной степени нас удовлетворяло?
Наш ответ непременно будет негативным, если мы будем принимать интеллектуальную
и волевую поверхность души за душу в целом.
В западном мире поколения автора западная наука психологии
все еще находилась во младенчестве. Однако ее первопроходцы уже произвели
достаточно глубокую разведку, чтобы К. Г. Юнг мог сообщить о том, что
подсознательная бездна, на поверхности которой находятся интеллект и воля
каждого отдельного человека, является не недифференцированным хаосом, а
расчлененной вселенной, где под одним слоем психической деятельности можно
распознать другой. Ближайшим к поверхности слоем, по‑видимому, является личное
бессознательное, откладывающееся индивидуальным опытом личности в ходе его или
ее собственной прожитой жизни. Наиболее глубоким слоем, до которого
исследователям удалось пока проникнуть, по‑видимому, является коллективное
бессознательное. Оно свойственно не какому‑либо отдельному индивиду, но обще
всем людям, так как первобытные образы, скрыто присутствующие в нем, отражают
тот общий опыт человечества, который был заложен в период младенчества
человеческого рода, если вообще не на той стадии, когда человек еще не совсем
стал человеком. Исходя из этого, вероятно, будет не лишено смысла высказать
догадку о том, что между самым верхним и самым нижним слоями подсознания,
которые западным ученым до сих пор удалось ввести в круг своих знаний, могут
находиться промежуточные слои, отложенные не родовым и не личным опытом, а тем
общим опытом, который выше личностного, но ниже родового. Это могут быть слои
опыта, общего семье, общине или обществу. И если следующим уровнем, находящимся
над уровнем первобытных образов, общих всему человеческому роду, в самом деле
окажется уровень образов, выражающих особый этос особого общества, то воздействие
их на душу может объяснить длительность периодов, которые, по‑видимому,
требуются для того, чтобы совершились определенные социальные процессы.
Например, одним из подобных социальных образов, которые
обычно глубоко воздействовали на подсознательную психическую жизнь детей
растущей цивилизации, был идол национального суверенного государства. И можно
легко вообразить, что даже после того как этот идол начал требовать у своих
приверженцев человеческих жертвоприношений, таких же жутких, как те, что
карфагеняне приносили некогда Баал‑Хамону[688] или бенгальцы – Джаггернауту[689], жертвам
демона, которого сами же эти жертвы вызвали, потребовался бы бедственный опыт
не просто периода одной жизни или одного цикла из цепочки трех поколений, но
опыт не менее чем четырехсотлетнего периода, чтобы дойти до такого момента,
когда бы они смогли вырвать это губительное идолопоклонство из своих сердец и
полностью отбросить его. Можно также легко вообразить, что им потребовалось бы
даже не четыреста лет, а восемьсот или тысяча, чтобы отделиться от всего
аппарата цивилизации, надлом и распад которой со всей очевидностью выявило
«смутное время», и открыть сердца для принятия впечатления какого‑либо другого
общества того же вида или иного вида, представленного некоторыми высшими
религиями. Образ цивилизации является, по‑видимому, гораздо более
привлекательным для подсознательной души, чем образ любых национальных
государств, на которые в политическом плане обычно разделяется цивилизация,
пока они наконец не входят в универсальное государство. Под этим углом зрения
мы можем подобным же образом понять, как универсальному государству после его
установления иногда удается сохранить свою власть над сердцами бывших подданных
или даже над сердцами своих истинных разрушителей на протяжении поколений или даже
целых столетий после того, как оно утрачивает свою пригодность, равно как и
власть, и становится почти таким же мучительно‑тяжелым грузом, как и
предшествующие национальные государства, для ликвидации которых оно было
создано.
«Отношение между внешними тревогами, испытываемыми
представителями взрослого поколения, – тревогами, которые непосредственно
обусловлены социальным положением испытывающего их народа, – и внутренними,
действующими автоматически тревогами детей этого народа в подрастающем поколении,
несомненно, является феноменом очень большого значения… Печать, которую ставит
вереница следующих друг за другом поколений как на физическое развитие
индивида, так и на ход исторических изменений, является тем, что мы только
тогда начнем понимать более адекватно, нежели понимаем сейчас, когда станем
более способны, чем сейчас, делать свои наблюдения и мыслить историю в терминах
длинных цепочек поколений»{154}.
Если социальные законы, существующие в истории цивилизаций,
действительно являются отражением психологических законов, управляющих
некоторым находящимся ниже личностного слоем подсознания, то это бы также могло
послужить объяснением того, почему данные социальные законы, обнаруженные нами,
гораздо яснее заявляют о себе и гораздо регулярнее в истории цивилизации в фазе
ее распада, нежели в предшествующей фазе роста.
Хотя фазу роста, как и фазу распада, можно разложить на ряд
схваток вызовов и ответов, мы обнаружили, что невозможно различить какую‑либо
стандартную длину волны, общую для следующих друг за другом схваток, благодаря
которым имеет место социальный рост – независимо от того, будем ли мы измерять
промежутки между следующими друг за другом вызовами или промежутки между
данными на них эффективными ответами. Мы увидели также, что в фазе роста эти последовательные
вызовы и ответы бесконечно разнообразны. В противоположность этому мы
обнаружили, что последовательные стадии фазы распада отмечены повторяющимися
появлениями идентичных вызовов, которые продолжают повторяться, поскольку
распадающемуся обществу не удается на них ответить. Мы обнаружили также, что во
всех предшествующих случаях социального распада, проверенных нами, те же самые
последовательные стадии встречались неизменно в таком же порядке, причем каждая
стадия занимала приблизительно один и тот же период времени, так что фаза
распада в целом представляет собой картину единообразного процесса с
единообразной временной продолжительностью в каждом случае. Действительно, чуть
только возникает социальный надлом, тенденцию к разнообразию и дифференциации,
являющуюся характерной чертой фазы роста, сменяет тенденция к единообразию,
проявляющая свою власть в победе, которую она рано или поздно одерживает как
над вмешательством извне, так и над непокорностью изнутри.
Мы наблюдали, например, как в случае, когда развитие сначала
сирийского, а затем индского универсального государства было преждевременно
прервано вторжением эллинской цивилизации еще до завершения этими
универсальными государствами их обычного жизненного срока, разрушенное и
завоеванное общество не могло или не хотело исчезнуть до тех пор, пока,
несмотря на беспокоящее влияние чуждой социальной системы, не завершало должным
образом обычный курс распада надломленного общества, со временем входя в
прерванную фазу и оставаясь во вновь объединенном универсальном государстве до
тех пор, пока не завершался его естественный срок жизни.
Этот разительный контраст между регулярностью и однообразием
феноменов социального распада и иррегулярностью и разнообразием феноменов
социального роста часто отмечался в данном «Исследовании» в качестве
исторического факта, без всякой попытки объяснить его. В настоящей части,
которая затрагивает отношение между Законом и Свободой в человеческой
деятельности, на нас лежит обязанность решить эту проблему. И ключ к ее решению
можно найти в различии между соответствующей природой сознательной личности на
поверхности души и подсознательными уровнями лежащей под поверхностью
психической жизни.
Особой властью, которая дается в даре сознательности,
является свобода выбора. Учитывая, что относительная свобода является одной из
характерных черт фазы роста, можно лишь ожидать, что в той мере, в какой люди
свободны в этих обстоятельствах определять свою собственную судьбу, курс,
которому они следуют, будет в действительности (как и в видимости) изменчивым в
смысле неподчинения власти «законов Природы». Царство Свободы, которое таким
образом отчаянно защищается от «законов Природы», тем не менее, опасно, ввиду
того что оно зависит от выполнения двух трудных условий. Первое условие состоит
в том, что сознательная личность должна держать подсознательный мир души под
контролем воли и разума. Второе условие состоит в том, что она должна также
уметь «жить вместе в единстве» с другими сознательными личностями, с которыми
ей приходится жить на тех или иных условиях в смертной жизни Homo sapiens,
являвшегося социальным животным еще прежде, чем он стал человеком, и
сексуальным организмом – прежде, чем он стал социальным животным. Два этих
необходимых условия для осуществления Свободы фактически неотделимы друг от
друга. Ведь если верно то, что «когда мошенники ссорятся, честные люди
выигрывают», то не менее верно и то, что когда ссорятся личности,
подсознательная душа выходит из‑под контроля каждого из них.
Таким образом, дар сознательности, миссией которой является
освобождение человеческого духа от «законов Природы», управляющими
подсознательной бездной души, обычно наносит себе поражение неправильным
употреблением в качестве оружия в братоубийственном конфликте между личностями
свободы, являющейся его причиной. Структура и действие человеческой души
объясняет это трагическое отклонение, без всякой необходимости прибегать к
нечестивой гипотезе Боссюэ об особых вторжениях со стороны всемогущего, но
ревнивого Бога, уверяя нас в том, что человеческие воли доведут друг друга до
полного бессилия, уравновешивая друг друга.
3. Являются ли законы Природы, действующие в
истории, неумолимыми или поддаются контролю?
Если наше предыдущее обозрение убедило нас в том, что
человеческая деятельность подчиняется законам Природы и что действие этих
законов в этой области также объяснимо, по крайней мере, до определенной
степени, то теперь мы можем продолжить исследование, задавшись вопросом:
являются ли законы Природы, действующие в истории, неумолимыми или поддаются
контролю? Если мы последуем здесь нашей предшествующей процедуре и рассмотрим
законы нечеловеческой Природы прежде законов человеческой Природы, то
обнаружим, что в отношении законов нечеловеческой Природы мы фактически
ответили на этот вопрос в предыдущей главе.
Вкратце ответ заключается в том, что хотя человек и бессилен
изменять условия любого закона нечеловеческой Природы или же приостанавливать
его действие, он может влиять на сферу действия этих законов, следуя своему
пути таким образом, что эти законы будут служить его собственным целям. Вот что
имел в виду уже процитированный нами «поэт», когда писал, что
Когда ученые узнают что‑то еще,
Мы будем счастливее, чем были
прежде.
Успех западного человека в изменении сферы действия законов
нечеловеческой Природы на его дела отразился в снижении тарифов страховых
взносов. Усовершенствования в морских картах, ставшие следствием установки
радио и радаров на кораблях, снизили риск кораблекрушений. Специальные
контейнеры для окуривания и марлевые сетки снизили риск потери урожая от
заморозков. Применение прививок, опыления и опрыскивания инсектицидами снизили
урон, приносимый сельскохозяйственным культурам, деревьям и стадам вредителями.
Количество заболеваний среди людей тоже было различными методами снижено, а
предполагаемая средняя продолжительность жизни увеличена.
Когда мы переходим к области действия законов человеческой
Природы, то обнаруживаем, что история повторяется, только акценты здесь
расставлены менее решительно. Риск от разнообразных несчастных случаев был
снижен благодаря усовершенствованиям в области образования и дисциплины. Риск
краж, как оказалось, изменился обратно пропорционально социальным условиям, в
которых грабители воспитывались, и, следовательно, на него можно воздействовать
посредством улучшения социальных условий.
Когда мы начинаем рассматривать те альтернативные приливы и
отливы западной экономической деятельности, которые были названы экономическими
циклами, то обнаруживаем, что их профессиональные исследователи проводят
различие между контролируемыми и неконтролируемыми факторами. А одна школа даже
утверждает, что эти циклы вызваны умышленной деятельностью банкиров. Однако
большинство придерживается того мнения, что рациональное воздействие банкиров
служит менее веским аргументом, чем неконтролируемая игра воображения и
чувства, бьющая ключом из подсознательных нижних слоев души. Не cherchez la
banque[690],
но более знакомое cherhez la femme[691],
по‑видимому, указывает то направление, куда обращались умы некоторых наиболее
значительных авторитетов в этой сфере:
«Одна причина, по какой трата денег является более отсталым
искусством по сравнению с наживой денег, состоит в том, что семья продолжает
оставаться доминирующей единицей организации траты денег, тогда как для наживы
денег семья в значительной степени вытесняется более высоко организованной
единицей. Домохозяйку, играющую столь большую роль в покупках во всем мире, не делают
за ее деловые качества управляющим, не увольняют за неэффективность, и у нее
есть лишь небольшой шанс расширить свою власть над своими домашними, если она
окажется способной… Неудивительно, что то, чему мир научился в искусстве
потребления, было в меньшей степени обязано инициативе потребителей, нежели
инициативе производителей, жаждущих завоевать рынок для своих товаров»{155}.
Эти соображения говорят о том, что колебания объема деловой
активности продолжали бы ускользать из‑под контроля до тех пор, пока единицами
потребления продолжали бы оставаться домашние хозяйства, а единицами
производства – свободно конкурирующие индивиды, фирмы или государства, чьи
входящие в конфликт желания оставляли бы экономическую арену открытой для игры
подсознательных психических сил. В то же время, по‑видимому, нет такой причины,
по какой легендарный успех еврейского патриарха Иосифа в качестве
экономического интенданта египетского мира в последние времена гиксосского
правления в заготовлении запасов провианта в течение лет изобилия,
предшествовавших годам голода, не мог бы быть повторен в глобальном масштабе в
современном экономически вестернизированном мире, который по своим размерам
сравнялся со всей поверхностью планеты. По‑видимому, нет такой причины, по
какой некий исторический американский или русский Иосиф однажды не подчинил бы
всю общую сумму экономической жизни человечества центральному контролю, который
волей‑неволей, несомненно, оставил бы далеко позади по своей эффективности
самые необузданные полеты как моисеевской, так и марксистской фантазии.
Когда мы переходим от экономических циклов длительностью в
несколько лет к циклам поколения с длиной волны приблизительно в четверть или
треть века, то мы можем видеть, что убыль, которой подвержено любое культурное
наследие, снижена в физическом плане благодаря книгопечатанию, фотосъемке и
другим техническим изобретениям, а в духовном плане – благодаря распространению
образования.
До сих пор результаты нашего нынешнего исследования казались
обнадеживающими. Однако когда мы переходим к социальным процессам со
значительно большей длиной волны, таким как «скорбное колесо [существования]»,
вращающееся в течение восьми или десяти столетий надлома и распада, то мы
сталкиваемся с проблемой, настойчиво вставшей перед возрастающим числом умов
западного мира накануне того события, которым явилась для одного поколения
Вторая мировая война. Когда цивилизация входит в фазу надлома, обречена ли она
следовать в этом неверном направлении вплоть до своего конца? Или же она может
вернуться? Вероятно, наиболее сильным практическим мотивом несомненного
интереса западных современников автора к обзорному исследованию истории
«цивилизованного человека» являлось желание определить свое собственное
положение в истории своей цивилизации, которая, как они чувствовали, находится
на переломе. В этом кризисе западные народы, и прежде всего народы Америки,
осознавали бремя своей ответственности. Оглядываясь на прошлый опыт в поисках
разъяснений, они обращались к единственному человеческому источнику мудрости,
который когда‑либо был в распоряжении человечества. Однако они не могли
обратиться к истории за разъяснениями, как они должны действовать, не задавшись
предварительно вопросом: «А дает ли им история какую‑нибудь гарантию, что они
действительно могут действовать свободно?» Уроком, извлеченным из истории,
стало не то, что один выбор был бы предпочтительнее другого, а то, что их
ощущение о свободе выбора было иллюзорным; что время, когда выбор мог оказаться
эффективным (если вообще когда‑либо было такое время), теперь прошло и что их
поколение теперь успешно вышло из фазы Г. А. Л. Фишера[692], в которой
события были непредсказуемы, и перешло в фазу Омара Хайяма, где
За знаком знак чертит бессмертный
Рок
Перстом своим. И ни одну из строк
Не умолишь его ты за черкнуть,
Не смоет буквы слез твоих поток[693].
Если мы постараемся ответить на вопрос в свете данных,
которые предоставляет история существовавших до настоящего времени цивилизаций,
то нам придется сообщить, что из четырнадцати явных случаев надлома мы не можем
указать ни одного, в котором от болезни братоубийственной войны освободились бы
при помощи менее радикального средства, нежели уничтожение всех (за исключением
одного) воюющих государств. Однако, принимая этот страшный вывод, мы не должны
позволять себе быть им обескураженными. Ибо индуктивный метод доказательства,
как хорошо известно, является несовершенным инструментом для доказательства
негативного утверждения. Чем меньше число рассматриваемых примеров, тем он
слабее. Опыт каких‑то четырнадцати цивилизаций за период не более чем 6000 лет
дает не слишком сильное основание для предположения о том, что в ответ на
вызов, которым были побеждены эти прокладывавшие путь цивилизации, какой‑либо
другой представитель этого относительно нового вида обществ может однажды
успешно открыть некий до сих пор неизвестный путь для беспрецедентного
духовного прогресса, обнаружив некое гораздо менее дорогостоящее средство, чем
насильственное навязывание универсального государства для излечения социальной
болезни братоубийственной войны.
Если, не теряя из виду эту возможность, мы теперь снова
взглянем на историю тех цивилизаций, которые прошли по всей via dolorosa[694] от надлома до финального распада, то
обнаружим, что, по крайней мере, некоторые из них заметили спасительное
альтернативное решение, хотя ни одной из них не удалось его достичь.
Например, в эллинском мире концепция Homonoia, или
Согласия, которое бы смогло достичь то, чего никогда не смогла бы сделать сила,
несомненно, была замечена некоторыми редкими эллинскими душами под духовным
давлением «смутного времени», начавшегося со вспышки Пелопоннесской войны 431 –
404 гг. до н. э. В современном западном мире тот же самый идеал получил
воплощение в создании Лиги Наций после войны 1914‑1918 гг. и Организации
Объединенных Наций – после войны 1939‑1945 гг. В истории Древнего Китая в
период первого оживления китайского общества после его надлома благочестивое
стремление Конфуция возродить традиционный кодекс поведения и ритуала и
квиетистская вера Лао‑Цзы в необходимость предоставить свободу
самопроизвольному действию подсознательных сил у‑вэй[695] вдохновлялись сильным желанием прикоснуться к
истокам чувства, которое бы смогло освободить спасительную силу духовной
гармонии, и для того, чтобы воплотить эти идеалы в действующих институтах, была
предпринята не одна попытка.
В политическом плане целью было найти срединный путь между
двумя смертельно опасными крайностями: опустошающей борьбой локальных
государств и опустошающим миром, навязанным посредством нанесения
нокаутирующего удара. Наградой за успешное прохождение этих несокрушимых
Симплегад[696], чьи
клацающие челюсти уничтожали всякое судно, пытавшееся до сих пор пройти между
ними, может стать легендарный опыт аргонавтов, бросившихся в плавание в
открытое море, еще не освоенное человечеством. Тем не менее, очевидно, что
этого не смог достичь ни один охранный проект федеральной конституции. Наиболее
искусная политическая инженерия, будучи приложенной к структуре социальной
системы, никогда не смогла бы послужить в качестве заменителя духовного
искупления душ. Непосредственные причины надломов в войне государств или борьбе
между классами были не более чем симптомами духовной болезни. Богатейший опыт
уже давным‑давно показал, что институты непригодны в деле спасения упрямых душ,
стремящихся довести себя и друг друга до беды. Если перспективы
«цивилизованного человека» в его трудном восхождении вдоль обрывистой скалы к
еще не достигнутому невидимому уступу наверху очевидным образом зависят от его
способности восстановить утраченный контроль над своей высотой, то не менее
очевидно, что этот вопрос будет решен ходом человеческих отношений не с себе
подобными и самим собой, но прежде всего со своим Спасителем Богом.
XXXVII.
Неподчинение человеческой природы законам Природы
Подобные доказательства, которые мы собрали относительно
способности человека контролировать свою деятельность или путем обмана законов
Природы, или путем использования ее в своих целях, поднимают вопрос: а не могут
ли возникнуть такие обстоятельства, при которых человеческая деятельность
вообще будет не поддаваться законам Природы? Мы можем начать наше исследование
этой возможности с изучения темпов социального изменения. Если темп окажется
изменчивым, то это будет доказательством того, что человеческая деятельность
неподвластна законам Природы, по крайней мере, во временном измерении.
Если бы темп истории действительно оказался постоянным при
всех обстоятельствах (в том смысле, что прохождение каждого десятилетия или
столетия могло бы продемонстрировать появление определенного и одинакового
количества психологических и социальных изменений), то следствием этого стало
бы то, что, зная количественную величину в одном ряду – психосоциальном или же
во временном, – мы могли бы вычислить соответствующую неизвестную величину в
другом ряду. Это предположение было высказано, по крайней мере, одним
выдающимся исследователем египетской истории, который отверг хронологическую
датировку, предлагаемую астрономией, на том основании, что ее принятие означало
бы для него принятие недопустимого предположения о том, что темп социальных
изменений в египетском мире должен был быть значительно быстрее в течение
одного периода продолжительностью в двести лет, чем в непосредственно предшествовавший
ему период такой же протяженности. Однако можно привести массу известных
примеров, чтобы показать, что испугавшее знаменитого египтолога предположение
фактически является историческим трюизмом.
Например, мы знаем, что Парфенон в Афинах был построен в V
в. до н. э., Олимпейон[697] императора Адриана – во II в. н. э., а церковь
Святой Софии в Константинополе – в VI в. н. э. Исходя из принципа, которого
придерживается наш египтолог, между первым и вторым из этих сооружений,
приблизительно одинаковых по стилю, должен был бы быть гораздо меньший
интервал, чем между вторым и третьим, построенными в совершенно различных
стилях. Однако здесь неопровержимо установленные даты показывают, что в данном
случае более коротким из двух был тот промежуток, который разделял два здания,
непохожие друг на друга по своему стилю.
Мы были бы аналогичным образом введены в заблуждение, если
бы доверились тому же самому априорному принципу при попытке оценить
относительные временные интервалы между снаряжением римского солдата последних
лет существования Имперьи на Западе, саксонского солдата императора Священной
Римской империи Оттона I и норманнского рыцаря, изображенного на Байенском
гобелене. Учитывая, что круглые щиты и гладиаторские шлемы с металлическими
ободами и гребнями, которыми были снабжены солдаты Оттона, представляли собой
просто модификацию оснащения солдат римского императора Майориана[698], тогда как
солдаты Вильгельма Завоевателя были оснащены сарматскими коническими шлемами,
чешуйчатыми панцирями и имеющими форму воздушного змея щитами, мы пришли бы,
следуя гипотезе о неизменности темпов изменения, к тому, что перестали бы считаться
с фактами, предполагая, что интервал между Оттоном I (правил в 936‑973 гг.) и
Вильгельмом Завоевателем (правил в Нормандии в 1035‑1087 гг.) должен был быть
гораздо больше, чем интервал между Майорианом (правил в 457‑461 гг.) и Оттоном.
С другой стороны, всякий, кто сделает обзор общепринятой
мужской штатской одежды, которую носили на Западе в 1700 и 1950 гг., сразу
увидит, что пиджак, жилет, брюки и зонтик 1950 г. – это просто модификации
пиджака, жилета, бриджей и шпаги 1700 г. и что та и другая одежда совершенно
отличны от камзола и коротких штанов 1600 г. В этом случае, который
противоположен двум предыдущим, более ранний и более короткий период
демонстрирует гораздо большую перемену, чем позднейший, более продолжительный.
Эти предупреждающие рассказы предостерегают нас, показывая, как опасно
доверяться гипотезе об устойчивости темпа изменения в качестве основы оценки
того промежутка времени, который должны будут занимать последующие
напластования следов человеческой деятельности, собранные на некоем месте,
историю которого придется реконструировать единственно на основе материальных
данных, выкопанных при помощи лопаты археолога, ввиду отсутствия
хронологической даты в памятниках письменности.
Мы можем довести до конца нашу открытую атаку на данную гипотезу
о том, что темп культурного изменения неизменен, приведя несколько примеров
сначала ускорения, затем замедления и, наконец, чередования темпа.
Известный пример ускорения представляет собой явление
революции, поскольку оно, как мы выяснили ранее в данном «Исследовании»,
является социальным движением, порожденным столкновением между двумя
обществами, одно из которых оказывается впереди другого в той или иной сфере
человеческой деятельности. Французская революция 1789 г., например, была в
первой своей фазе хаотичной попыткой наверстать конституционный прогресс, к
которому соседняя Британия медленно пришла на протяжении двух предшествующих
столетий. В самом деле, континентальный западный «либерализм», вдохновлявший
столь многие, по большей части безуспешные, революции в XIX в., некоторые
континентальные же историки назвали «англоманией».
Общий тип ускорения можно обнаружить в поведении
приграничных жителей, живущих на окраине цивилизации, или варваров, живущих за
ее границами, которые неожиданно воодушевляются и стараются нагнать своих более
развитых соседей. Автор этого «Исследования» ясно помнит то впечатление,
которое на него произвел визит в Скандинавский музей в Стокгольме в 1910 г.
Пройдя через ряд залов, где были выставлены образцы культур эпохи палеолита,
неолита, бронзового века и дохристианского железного века в Скандинавии, он был
поражен, оказавшись вдруг в зале, где были выставлены скандинавские памятники
культуры, выполненные в стиле итальянского Ренессанса. Удивившись, как он мог
упустить из внимания произведения средневекового периода, он вернулся назад.
Там действительно был средневековый зал. Однако его содержание было
незначительно. Тогда он понял, что Скандинавия за мгновение перешла из позднего
железного века, в котором начала создавать свою отличительную цивилизацию, в
раннее Новое время, в котором стала малозаметной участницей стандартизированной
и итальянизированной западно‑христианской культуры. Расплатой за подвиг
ускорения стало культурное обеднение, о котором свидетельствует Скандинавский
музей.
Сказанное о Скандинавии XV в. относится и ко всему
незападному, но стремительно вестернизирующемуся миру времени жизни автора.
Стало общим местом отмечать, что африканские народы, например, попытались
достичь на протяжении жизни одного или двух поколений политического,
социального и культурного прогресса, достигнутого западноевропейскими народами,
которым африканцы одновременно и подражали, и сопротивлялись на протяжении
тысячи и более лет. Эти народы стремились преувеличивать (а западный наблюдатель,
возможно, недооценивать) реальный размер ускорения, достигнутого Африкой.
Если революции являются драматическим обнаружением
ускорения, то феномен замедления можно наблюдать в отказе отставшего [общества]
идти в ногу с движением главных сил. Пример можно найти в упорном сохранении
института рабства южными штатами США спустя целое поколение после того, как
соседние Вест‑Индские острова освободились из‑под власти Британской империи.
Другие примеры предоставляет группа колонистов, которые переселились в «новые»
страны и сохранили там нормы, принятые у них на родине в то время, когда они ее
оставили, долгое время спустя после того, как их родственники в «старой» стране
отказались от этих норм и ушли далеко вперед. Это достаточно знакомый случай, и
достаточно упомянуть Квебек, Аппалачское нагорье и Трансвааль в XX в.
христианской эры по сравнению с Францией, Ольстером и Нидерландами того же
самого времени. Предыдущие страницы данного «Исследования» содержали множество
примеров как ускорения, так и замедления, которые читатель может припомнить
сам. Очевидно, например, что явление, называемое нами «иродианством», сродни
ускорению, а явление, называемое нами «зелотством», сродни замедлению. Также
очевидно, что поскольку изменение может быть как к худшему, так и к лучшему, то
ускорение не является обязательно благом, а замедление – злом.
Цепочку переменных изменений скорости, которая достигает не
двух, но непременно трех, а возможно, и четырех элементов, можно найти в
современной западной истории искусства кораблестроения и мореплавания. История
начинается с неожиданного ускорения, которое революционизировало оба этих
искусства в течение пятидесяти лет (1440‑1490). За этим рывком последовало
замедление, продолжавшееся в XVI, XVII и XVIII вв., за которым, однако, в свою
очередь, последовало после этой долгой паузы еще одно неожиданное ускорение в
течение пятидесяти лет (1840‑1890). В 1952 г. следующая фаза была неясна,
поскольку она находилась в развитии, однако дилетанту показалось бы, что
дальнейшие, тогда еще незавершенные, технические успехи, какими бы они ни были
замечательными, могут не оправдать ожиданий революционных достижений
викторианской половины столетия.
«В XV в. произошла стремительная и имевшая важное значение
перемена в кораблестроении… На протяжении пятидесяти лет морское парусное судно
прошло путь от одномачтового до трехмачтового с пятью или шестью парусами»{156}.
Эта техническая революция не только дала ее виновникам
доступ во все части земного шара, но также доставила им превосходство над всеми
незападными моряками, с которыми они могли бы столкнуться. Характерной чертой
нового корабля, которой он значительно превосходил своих предшественников, была
возможность оставаться в море на протяжении почти неограниченного времени, не
заходя в порт. «Корабль», как на протяжении его floruit[699] он стал по преимуществу называться, явился
плодом счастливого брака между различными традиционными конструкциями и
оснастками, каждая из которых имела свое особое преимущество, но вместе с тем и
вытекающую отсюда ограниченность. Западный корабль, появившийся на свет между
1440 и 1490 г., согласовал сильные места векового средиземноморского весельного
«длинного судна», иначе называемого «галерой», с сильными местами не менее чем
трех особых типов парусного судна: современного средиземноморского «круглого судна»
с прямым парусным вооружением, иначе называемого «каракой»; плававшей в
Индийском океане «каравеллы» с латинским парусом, предшественница которой
запечатлена в изобразительных памятниках египетской морской экспедиции к
восточно‑африканской стране Пунт в правление царицы Хатшепсут[700] (1486‑1468 гг. до н. э.), и плававшего в
Атлантическом океане массивного парусного судна, которое уловил взгляд Юлия
Цезаря в 56 г. до н. э., когда он занял полуостров, впоследствии названный
Бретанью. Новая конструкция, соединявшая лучшие достоинства этих четырех типов,
была завершена к концу XV в., и лучшие корабли, плававшие тогда, существенно не
отличались от кораблей времен Нельсона[701].
Затем, после трех с половиной веков замедления, западное
искусство кораблестроения оказалось накануне еще одного взрыва ускорения. На
этот раз создание на максимальной скорости должно было развиваться по двум
параллельным путям. С одной стороны, для плавания был приспособлен паровой
двигатель, и одновременно искусство парусного кораблестроения пробудило от
долгой спячки и продвинуло вперед старый тип, развив его до новой, до сих пор
даже и во сне не снившейся высшей ступени, которой парусный корабль мог
выдерживать соревнование с пароходом на протяжении творческого полувека 1840‑1890
гг.
Если мы теперь поищем объяснения этим процессам ускорения и
замедления, настолько поразительно отклоняющимся от единообразного движения,
которое бы мы ожидали встретить в обществах, всецело подчиненных законам
Природы, то мы найдем наше объяснение в формуле «вызова‑и‑ответа»,
рассмотренной нами и детально проиллюстрированной ранее в данном
«Исследовании». Давайте возьмем последний случай, приведенный нами, а именно
случай двух великих ускорений с долгим периодом замедления между ними в истории
западного кораблестроения и мореплавания.
Вызов, побудивший к созданию новейшего западного корабля на
протяжении полувека 1440‑1490 гг., был политическим вызовом. К концу Средних
веков все попытки западно‑христианского мира прорваться на юго‑восток в
исламский мир (то есть «Крестовые походы») оказались не только сорваны, но и
возникла серьезная опасность контратаки турков вверх по Дунаю и вдоль
Средиземного моря. Опасность положения Запада в этот момент усиливалась тем
фактом, что западно‑христианское общество, как оказалось, занимало верх одного
из полуостровов Евразийского континента. А общество, находящееся в таком
опасном положении, должно раньше или позже оказаться вытолкнутым в море
поддавлением более могущественных сил, проталкивающихся вовне из центра Старого
Света, если это осажденное общество не предупредит катастрофу, вырвавшись из
своего тупика в более обширные земли, расположенные в другом месте. В противном
случае можно ожидать, что оно испытает от рук ислама судьбу, на которую уже
само обрекло за много веков до того недоразвившийся дальнезападно‑христианский
мир «Кельтской окраины». В Крестовых походах латинские христиане, выбирая
Средиземноморье в качестве своей «тропы войны» и пересекая его на традиционных
средиземноморских судах, были движимы страстным желанием обладать колыбелью
своей христианской веры. Они потерпели неудачу. Угроза последующего продвижения
ислама привела к тому, что отраженные исламом западные антагонисты оказались
меж молотом и наковальней. Они выбрали молот и придумали новый корабль.
Последствия превосходили самые буйные фантазии самых оптимистичных учеников
португальского принца Генриха Мореплавателя[702].
Ошеломляющий успех ответа западных кораблестроителей XV в.
на вызов ислама объясняет долгий период замедления, который последовал в
западном кораблестроительном ремесле. Второй период ускорения в этой сфере был
вызван совершенно иной причиной, а именно экономической революцией, начавшей
воздействовать на части Западной Европы к концу XVIII столетия. Двумя
выдающимися чертами этой революции были неожиданный рост населения в
ускоряющемся темпе и подъем торговли и промышленного производства до уровня, на
котором они стали преобладать над сельским хозяйством. Нам не нужно здесь
приступать к сложной, но знакомой истории западной промышленной экспансии XIX
в. и современному ей росту населения, который не только в разной степени
умножил количество обитателей различных отечеств в западноевропейском «Старом
свете», но и начал стремительно заполнять новые огромные открытые пространства
в новых землях, приобретенных западными первопроходцами за морем Очевидно, что
океанский транспорт положительно оказался бы дроссельной «пробкой», тормозящей
это развитие, если бы кораблестроители не ответили на вызов столь усердно и
эффективно, как они ответили на него за четыреста лет до того.
Мы выбрали иллюстрацию из материальной сферы человеческой
деятельности: пару последовательных технических ответов в отдельном ремесле на
пару вызовов, первый из которых был военно‑политическим, а второй – социально‑экономическим.
Однако принцип «вызова‑и‑ответа» – это всегда один и тот же путь подъема вверх
или спуска вниз, является ли он вызовом пустых желудков, умоляющих хлеба, или
вызовом голодных душ, страстно желающих Бога. Как бы то ни было, вызов – это
всегда свобода выбора, предлагаемая человеческим душам Богом.
XXXVIII.
Закон Бога
В настоящей части данного «Исследования» мы пытаемся
проникнуть во взаимоотношения между Законом и Свободой в истории. И если мы
теперь вернемся к нашему вопросу, то обнаружим, что уже получили ответ. Как
Свобода относится к Закону? Наши данные говорят о том, что человек не живет
только по одному закону. Он живет по двум законам, и один из них – это закон
Бога, который является самой Свободой под другим, более понятным названием.
«Закон совершенный, закон свободы»{157}, как
называет его апостол Иаков в своем Послании, это также закон любви. Ибо
человеческая свобода могла быть дана человеку только Богом, который
непосредственно является любовью, и этот Божественный дар может быть
использован человеком для свободного выбора жизни и добра, а не смерти и зла,
только в том случае, если человек со своей стороны достаточно любит Бога,
чтобы, движимый этой ответной любовью, он поручил бы себя Богу, сделав Божью
волю своей собственной.
Наши воли – наши, мы не знаем как;
Наши воли – наши, чтобы стать
Твоими{158}.
«История… кроме всего прочего, есть зов, призвание, Божий
промысел, который должны услышать и на который должны ответить свободные люди,
короче говоря, взаимодействие Бога и человека»{159}. Закон и Свобода
в истории оказываются одним и тем же в том смысле, что человеческая свобода
оказывается законом Бога, который то же самое, что любовь. Однако этот вывод не
дает решение проблемы, поскольку, отвечая на первоначально поставленный вопрос,
мы поднимаем новый. Сделав вывод о том, что Свобода тождественна с одним из
двух Законов, мы подняли проблему того, в каком отношении эти Законы стоят друг
к другу. На первый взгляд, ответ, по‑видимому, состоял бы в следующем: Закон
Любви и Закон подсознательной человеческой природы, которые явно входят в сферу
человеческих действий, не только различны, но противоположны и даже
несовместимы. Закон подсознания держит в подчинении души, которые Бог призвал к
Себе в свободные соработники. Чем более детально мы сравним два этих «закона»,
тем, по‑видимому, будет шире нравственная пропасть между ними. Если мы оценим
Закон Природы по нормам Закона Любви и посмотрим сквозь призму Любви на все,
что сделала Природа, то увидим, что это очень плохо.
Да, взгляни: высокое Небо и Земля
страдают от самого начала –
Здесь все мысли, разрывающие
сердце, и все они напрасны{160}.
Один из выводов, которые сделали свидетели морального зла во
Вселенной, заключается в том, что эта комната ужасов не может быть созданием
какого‑либо Бога. Эпикурейцы утверждали, что она является непреднамеренным
следствием беспорядочного скопления неуничтожимых атомов. С другой стороны,
христиане оказались вынужденными выбирать между двумя альтернативами, обе из
которых приводили в мучительное смущение: или Бог, который есть Любовь, должен
быть создателем явно нездоровой Вселенной, или Вселенная должна быть создана
другим Богом, который не есть Бог Любви.
Еретик Маркион[703] в начале II в. и поэт Блейк[704] в начале XIX в. христианской эры приняли
последнюю из этих альтернатив. Их решение этой нравственной загадки заключалось
в приписывании творения богу, который не был ни любящим, ни любимым. В то время
как Бог‑Спаситель завоевывает души любовью, Бог‑Создатель может лишь навязывать
закон и налагать дикие наказания за формальное нарушение его. Этот мрачный бог‑надсмотрщик,
которого Маркион отождествлял с моисеевским Яхве и которого Блейк называет
Уризеном и уменьшительным именем Нободедди, был бы достаточно плох, если бы
компетентно выполнял свой долг в соответствии со своими ограниченными правами.
Однако общеизвестно, что ему не удается это делать, и его неудача должна быть
вызвана или некомпетентностью, или злобой. Очевидно, что не существует какой бы
то ни было разумной связи между грехами мира и страданиями в мире.
Хотя Маркион стоял на твердой почве, утверждая, что творение
связано со злом, его доводы в отрицании того, что творение каким‑то образом
связано с добром и любовью, оказались слабыми, ибо истина состоит в том, что
Божественная любовь есть источник человеческой свободы и что свобода, данная
творению, открыла двери греху. Каждый вызов можно рассматривать одинаково: и
как вызов со стороны Бога, и как искушение от дьявола. Оправдание Маркионом
любви Бога ценой отрицания Его единства дальше от истины, чем оправдание
Иринеем[705] тождественности Творца и Спасителя ценой
отождествления друг с другом двух явлений Божества, которые, с человеческой
точки зрения, морально несовместимы. Кроме того, доказательство христианским
опытом истинности логического и морального парадокса поразительным образом было
подтверждено современной западной наукой. Тяжелый труд по примирению двух
непримиримых образов Бога, не дававший покоя умам святых и ученых, как заявляла,
по крайней мере, одна школа современных западных психологов, уже не давала
покоя подсознательной душе в предшествующей борьбе, в ходе которой
первоначально развилась личность будущего святого и ученого на стадии раннего
детства, когда во вселенной души будущее место Бога занимала мать находившегося
в младенчестве ребенка.
«Как только младенец начинает… на втором году своей жизни
проводить различие между собой и внешней реальностью, именно мать становится
для него олицетворением внешнего мира и посредником влияний [этого мира] на
ребенка. Однако она предстает перед его растущим сознанием в двух
противоположных аспектах. Она выступает в качестве главного объекта любви
ребенка и источника удовлетворения, безопасности и спокойствия. Но вместе с тем
она выступает в качестве власти, главного источника силы, таинственным образом
стоящей над ребенком и произвольно пресекающей некоторые из его побуждений,
следуя которым его новая жизнь исследует внешний мир. Неудовлетворенность
детских побуждений порождает раздражение, ненависть и деструктивные желания
(то, что психологи обычно называют выражением агрессии), направленные на
мешающую исполнению желаний власть. Однако эта ненавистная власть является
также любящей матерью. Младенец таким образом сталкивается с основным
конфликтом. Два непримиримых ряда побуждений направлены на один и тот же
объект, и этот объект является центром ближайшей вселенной»{161}.
Таким образом, согласно психологической теории,
подсознательный конфликт раннего детства предвосхищает моральный конфликт,
возникающий в зрелом возрасте в сознании. И в младенческой борьбе, как и в
зрелой, духовная победа выигрывается духовной ценой. «Примитивная любовь
побеждает примитивную ненависть, обременяя ее ношей первобытного чувства вины»{162}.
Психология таким образом подтверждает сделанный Иринеем христианский
антимаркионитский вывод о том, что любовь и ненависть, праведность и
греховность неразрывно связаны друг с другом посредством цепи творения:
«Не будь матери, невозможно было бы сфокусировать сильную
любовь на личном объекте; не будь такой любви, не было бы конфликта
непримиримых влияний, не было бы чувства вины; а без такого чувства вины не
было никакого эффективного нравственного чувства»{163}.

XII.
Перспективы
западной цивилизации
XXXIX.
Необходимость данного исследования
Когда автор брался за перо для работы над данной частью
своего «Исследования», он испытывал неприязнь к возложенной им на самого себя
задаче, которая была больше чем естественным уклонением от опасностей
умозрительной темы. Конечно же, было ясно, что прогнозы, сделанные в 1950 г.,
могли быть опровергнуты событиями задолго до того, как рукопись можно было бы
напечатать и опубликовать. Однако если риск показаться смешным был бы основным
соображением для авторского сознания, то это удержало бы его от того, чтобы
вообще когда‑либо начинать какую‑либо из частей данного «Исследования». Приняв
на себя обязательство написать двенадцатую часть работы после того, как
одиннадцать уже стали заложницами фортуны, автор мог не терять мужества, исходя
из того соображения, что к этому времени перспективы западной цивилизации были,
во всяком случае, гораздо менее мрачными, чем в первые месяцы 1929 г., когда он
набросал первые заметки для этой части, лежащие сейчас у него под рукой.
Великая депрессия, которая тогда как раз только начиналась, со всеми ее
последствиями, которые включали в себя Вторую мировую войну, задолго до 1950 г.
полностью уничтожила иллюзию, господствовавшую в 1929 г., о том, что ситуация в
общем не слишком сильно отличается от ситуации перед 1914 г.
Авторская неприязнь к настоящему предмету тем самым должна
была существенно уменьшиться благодаря прошедшим за это время двум поучительным
десятилетиям истории, если бы это было просто отвращение к опасностям
предсказания. Тем не менее его нерасположенность была в малой степени или же
совсем не была связана с трудностями оценки перспектив западной цивилизации, но
коренилась в нежелании отказываться от одного из кардинальных принципов, которым
он руководствовался в своем «Исследовании». Его мучил страх, что он откажется
от точки зрения, по его мнению, единственно возможной, с которой он мог бы
видеть подлинную перспективу всей истории того рода обществ, лишь одним из
представителей которых является западная цивилизация. Его вера в правильность
неевропоцентристской точки зрения была подтверждена, на его взгляд,
результатами двух десятилетий, в течение которых он пытался прочесть карту
истории под отличным от европоцентристского углом зрения.
Одним из стимулов, который побудил автора начать настоящее
«Исследование», было восстание против текущего новоевропейского обыкновения
отождествлять историю западного общества с «Историей» с большой буквы. Это
обыкновение казалось ему продуктом искаженной эгоцентрической иллюзии, жертвой
которой стали дети западной цивилизации, подобно детям всех других известных
цивилизаций и примитивных обществ.[706] Наилучшая отправная точка отхода от этого
эгоцентрического предположения, казалось, заключается в принятии
противоположного предположения о том, что все представители любого вида обществ
в философском отношении равны друг другу. Автор принял это контрпредположение,
и оно, по‑видимому, оправдывало его веру в него на протяжении первых шести
частей данного «Исследования». В седьмой части он обнаружил, что ценность
цивилизаций неравна, в результате испытания, в котором в качестве критерия
выступала та роль, которую играли надломы и распады цивилизаций в истории
религии. Однако результат этого испытания не возвысил снова западную
цивилизацию. Наоборот, вывод состоял в том, что наиболее важными цивилизациями
были цивилизации второго поколения – сирийская, индская, эллинская и
древнекитайская, – с точки зрения наблюдателя, который видел генеральную линию
истории в постепенном росте духовных возможностей для человеческих душ,
проходящих через сей мир.
Принятие автором этой точки зрения усилило его
первоначальное нежелание выделять западную цивилизацию для специального
исследования. Тем не менее, решив следовать в 1950 г. плану, первоначально
набросанному в 1927‑1929 гг., он подчинился логике трех фактов, которые не
утратили своей убедительности на протяжении прошедших лет.
Первый из фактов состоял в том, что во второй четверти XX
столетия христианской эры западная цивилизация была единственной сохранившейся
представительницей этого рода, которая не демонстрировала неопровержимых
признаков процесса распада. Из семи других пять – а именно: основной ствол
православно‑христианского мира и его русское ответвление, основной ствол
дальневосточной цивилизации и его корейское и японское ответвления, а также
индусская цивилизация – не только вошли в стадию своего универсального
государства, но уже миновали ее. Внимательное рассмотрение истории иранской и
арабской мусульманских цивилизаций обнаружило веские данные в пользу того, что
два этих общества также были надломлены. Одно западное общество, возможно, все
еще находилось на стадии роста.
Второй факт состоял в том, что экспансия западного общества
и излучение западной культуры привели к тому, что все другие оставшиеся в живых
цивилизации и примитивные общества оказались в пределах охватывающего всю
планету вестернизированного мира.
Третьим фактом, настойчиво требовавшим данного исследования,
был тот тревожный факт, что впервые в истории человеческого рода на карту была
поставлена жизнь всего человечества.
Прошли дни, когда безумие
сдерживалось
Морями или горами, не
распространяясь на все человечество;
Когда, хотя Нерон и дурачился на
канате,
Мудрость все еще невозмутимо
правила в Пекине;
И Бог гостеприимно улыбался с лица
Будды,
Хотя Кальвин в Женеве проповедовал
благодать.
Теперь же наш связанный воедино
земной шар стал так мал,
Что один Гитлер на нем означает
безумные дни для всех.
Через весь мир распространяется
каждая тревожная волна,
И Ипох[707] боится войны, которой страшится Ипсден{164}
В Третьей мировой войне, которая будет вестись при помощи
атомного или бактериологического оружия, кажется маловероятным, чтобы Ангел
Смерти не заглянул даже в те укромные уголки обитаемой земли, которые еще
недавно были или непривлекательны, или недоступны, чтобы фактически освободить
их бедных, слабых, отсталых жителей от нежелательного внимания «цивилизованных»
милитаристов. В выступлении, которое состоялось в Принстоне за три недели до
провозглашения доктрины Трумэна[708] об американской поддержке Греции и Турции
против русского давления (12 марта 1947 г.), автор дал волю фантазии, сказав,
что если бы вестернизированный мир мог позволить себе вступить в Третью мировую
войну, то следствием ее могло бы стать исполнение в реальной жизни одного из
платоновских мифов, в котором афинский философ представляет горных пастухов,
время от времени выходящих из своей цитадели, чтобы построить новую цивилизацию
на освободившемся месте старой, которая погибла в последнем из множества
повторяющихся катаклизмов. В образах коллективного бессознательного пастухи
должны символизировать нерастраченные и неиспорченные первобытные творческие
возможности человека, которые Бог держал в резерве после того, как Он ввел
лишенное первоначальной простоты большинство в искушения, которые одолели
земледельца Каина, градостроителя Еноха и кузнеца Тувалкаина. Где бы человек
цивилизации ни терпел неудачу, пытаясь осуществить это самое последнее и,
возможно, самое опасное из новейших человеческих предприятий, он всегда
рассчитывал на то, что будет способен черпать резервную энергию, скрытую в его
пока еще первобытных братьях, которые были вытеснены им из избранных частей
земли, присвоенных им в качестве своих владений, и которые «скитались в милотях
и козьих кожах… по пустыням и горам»{165}. В прошлом эти
сравнительно невинные уцелевшие дети Авеля пристыжали детей Каина, приходя на
помощь своим убийцам, когда обнаруживались грехи Каинитов. Пастух из Аскры[709] в предгорьях Геликона произнес пролог к
трагедии эллинской истории, а пастухи из Негеба[710] на окраинах Аравийской пустыни стояли у
колыбели христианства в Вифлееме. В своей платонизирующей jeu d’esprit
(остроте) автор намекал в 1947 г., что если бы западная цивилизация, в которую
входят он и его аудитория, вызвала некую крупную катастрофу в Oikoumene
(ойкумене), то задача по начинанию культурного предприятия, которое
самостоятельно развивалось бы в течение последних пяти‑шести тысячелетий,
возможно, легла бы на тибетцев, до сих пор благополучно укрывавшихся за
укрепленными стенами своего нагорья, или на эскимосов, до сих пор тесно
прижимавшихся к ледяному покрову, который был менее злобным соседом, чем любой homo
homini lupus[711].
За три с половиной года, прошедших между произнесением этой речи и написанием
данных строк в пока еще мирных окрестностях университетского городка, эти
предварительные фантазии настиг неумолимый ход исторических событий. В момент
написания этих строк в декабре 1950 г. экспедиционные войска китайских
коммунистов, как сообщали, находились на пути к Лхасе, тогда как эскимосы,
прежде жившие счастливо, не зная никаких врагов или друзей, кроме природы,
оказались на пути заполярных маршрутов бомбардировщиков между бассейнами Волги
и Миссисипи и стремительного вторжения через плавучие льдины Берингова пролива
со стороны некогда изолированной среды обитания первобытных жителей северо‑восточной
оконечности Азиатской России на Аляску, которая отделена от основной,
континентальной части Соединенных Штатов одним канадским «польским коридором»[712].
Таким образом, распространенное теперь повсеместно западное
общество держало судьбу всего человечества в своих руках в тот момент, когда
собственная судьба Запада лежала под кончиками пальцев одного человека в Москве
и одного человека в Вашингтоне, которые одним нажатием кнопки могли взорвать
атомную бомбу.
Все эти факты заставили автора настоящей книги вынужденно
подтвердить вывод, к которому он вынужденно пришел в 1929 г., о том, что
исследование перспектив западной цивилизации является необходимой частью
исследования истории в XX в.
XL.
Неубедительность априорных выводов
Какова была предполагаемая средняя продолжительность жизни
западной цивилизации в 1950 г.? На первый взгляд исследователь истории был бы
склонен оценивать достаточно низко нынешние виды Запада на будущее, учитывая
хорошо известную расточительность природы. Западная цивилизация как‑никак одна
из не более чем двадцати одного представителя данного вида. Разумно ли ожидать,
что подвергающейся испытанию двадцать первой цивилизации удастся избежать
неудачи, ставшей уделом всех остальных? Учитывая множество неудач, которые
явились расплатой за каждый купленный дорогой ценой успех в предшествующей
истории развития жизни на Земле, могло бы показаться маловероятным, чтобы в
истории такого еще юного вида, как цивилизации, какой‑либо представитель
третьего поколения был бы назначен на роль нашедшего некий, еще не проторенный
путь продолжения жизни и безграничного роста или же создал мутацию, которая
произвела бы на свет новый вид общества.
Однако подобное умозаключение можно было бы вывести из опыта
жизни не человеческого, а дочеловеческого уровня. Верно, что когда природа была
вовлечена в процесс эволюции рудиментарных организмов, она, вероятно, создавала
миллионы образцов, чтобы у нее был хотя бы ничтожный шанс добиться удачного
попадания, которое бы породило новый и лучший образец. В процессе эволюции
растений, насекомых, рыб и т. п. двадцать экземпляров, несомненно, были бы до
смешного малым количеством для продолжения работы природы. Однако, конечно же,
было бы непростительной ошибкой предполагать, что законы эволюции, неизбежные
для развития животных и растительных организмов, столь же необходимым образом
могут быть применены к таким всецело отличным «экземплярам», как человеческие
общества, находящиеся в процессе цивилизации. Фактически, доказательство от
расточительности природы в данном контексте вовсе не является доказательством.
Мы привели его лишь для того, чтобы отклонить.
Остается пара эмоциональных априорных ответов на наш вопрос,
которые мы должны рассмотреть, прежде чем продолжим исследование свидетельств
самих цивилизаций. Два эмоциональных ответа взаимно противоположны, и автор
данного «Исследования», родившийся в 1889 г., видел на протяжении своей жизни,
как Запад начал возвращаться от одного из этих чувств к другому.
Последовательные происшествия в цикле войны и мира в новой и новейшей
западной истории
Фаза …… Увертюра
1494‑1568 / Первый регулярный цикл (1568‑1672) / Второй регулярный цикл (1672‑1792) / Третий регулярный цикл (1792‑1914) / Четвертый регулярный цикл (1914‑)
Предварительные войны (прелюдия) …… / … / … / 1667‑1668[713] / … / 1911‑1912[714]
ii) Всеобщая война …… 1494‑1525[715] / 1568‑1609[716] / 1672‑1713[717] / 1792‑1815[718] / 1914‑1945[719]
iii) Передышка …… 1525‑1536 / 1609‑1618 / 1713‑1733 / 1815‑1848
/ … /
iv) Дополнительные войны
(эпилог) …… 1536‑1559[720] / 1618‑1648 / 1733‑1763[721] / 1848‑1871[722] / … /
v) Всеобщий мир …… 1559‑1568 / 1648‑1672 / 1763‑1792 / 1871‑1914 / … /
Точку зрения, господствовавшую среди среднего класса
Великобритании в конце XIX в., лучше всего можно передать, процитировав
пародию, написанную двумя школьными учителями на экзаменационные сочинения
школьников по истории и озаглавленную «1066 г. и тому подобное».
«История теперь заканчивается; следовательно, история конечна».
Это мировоззрение английского среднего класса эпохи fin‑de‑siécle[723] разделяли их современники – дети немецких и
североамериканских победителей последнего круга современных западных войн.
Получившие наибольшую выгоду в результате этой всеобщей войны 1792‑1815 гг. к
тому времени не больше своих английских «противников» подозревали о том, что
современный век западной истории закончился лишь для того, чтобы начать
постсовременный век, чреватый трагическим опытом. Они воображали, что для их
блага нормальная, безопасная, приятная современная жизнь чудесным образом
задержалась в неожиданно начавшемся безвременном настоящем. Чувство отсутствия
времени, например, казалось, господствовало на протяжении шестидесятилетней
викторианской эпохи, хотя в действительности случайный осмотр картин в
популярном издании, выпущенном к «алмазному юбилею» правления королевы Виктории
«Шестьдесят лет королевы», наводит на мысль о быстрой череде перемен в каждой
области жизни – от техники до одежды.
К этому времени английские буржуазные консерваторы, для
которых наступил золотой век, и английские буржуазные либералы, для которых он
был совсем близко, конечно же, осознавали, что участие английского рабочего
класса в процветании буржуазии ужасающе мало и что британские подданные в
большинстве колоний и зависимых от Соединенного Королевства стран не пользуются
благами самоуправления, которое является привилегией их сограждан в Соединенном
Королевстве и в немногих других доминионах Британской короны. Однако это неравноправие
либералы списывали со счетов как непоправимое, а консерваторы – как неизбежное.
Их современники – граждане Соединенных Шатов, жившие на Севере, подобным же
образом осознавали, что в их экономическом процветании не участвуют их
сограждане, жившие на Юге. Современные им подданные Германской империи
осознавали, что жители «имперской земли», аннексированной у Франции, в душе еще
оставались французами и что остальная французская нация еще не примирилась с
ампутацией этих переданных немцам областей. Французы еще лелеяли надежду на
реванш, а подчиненное население Эльзаса‑Лотарингии вынашивало ту же мечту о
своем возможном освобождении, какую вынашивало подчиненное население Шлезвига,
Польши, Македонии и Ирландии. Эти народы не согласились с удобной верой в то,
что «история закончилась». Однако их непоколебимая уверенность в том, что
навязанная им невыносимая система рано или поздно будет побеждена «вечно
текущим потоком» времени, не производила в то время сильного впечатления на
апатичное воображение представителей господствовавших тогда держав. Можно с
уверенностью сказать, что в 1897 г. даже среди самых оптимистично настроенных
пророков националистической или социалистической революции не было такого
мужчины или женщины, которые бы могли мечтать о том, что через каких‑то
двадцать пять лет требование национального самоопределения развалит на части
империи Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых и Соединенное Королевство
Великобритании и Ирландии, или же что требование социальной демократии
распространится с городского рабочего класса нескольких рано развившихся
индустриализированных провинций западного мира на крестьянство Мексики и Китая.
Имена Ганди (родился в 1869 г.) и Ленина (родился в 1870 г.) были тогда еще
совсем неизвестны. Слово «коммунизм» символизировало страшный, но краткий и
явно не относящийся к делу эпизод в прошлом, который начинали рассматривать как
последнее извержение уже потухшего вулкана «Истории». Эта зловещая вспышка
дикости на парижском «дне» в 1871 г. была списана как потрясение от военной
катастрофы, и не было заметной опасности возобновления пожарища, которое было
потушено четверть века назад буржуазией Третьей республики.
Этот самодовольный оптимизм среднего класса не был чем‑то
новым во времена юбилея королевы Виктории. Мы обнаружим его за сто лет до того
в величественный период Гиббона и выпущенного в свет в Сорбонне в 1750 г.
«Второго рассуждения» Тюрго «о преимуществах, которые доставило человеческому
роду установление христианства». Еще за сто лет до того мы можем обнаружить его
в случайных наблюдениях Пипса[724].
Проницательный автор дневника обнаруживает подъем на политическом и
экономическом барометре. «1649 г. и тому подобное», включая Варфоломеевскую
ночь[725] и испанскую инквизицию, были позади.
Действительно, поколение Пипса было поколением, в котором уже находится начало
позднего Нового времени (1675‑1875), и это позднее Новое время является одним
из великих веков веры – веры в Прогресс и в человеческую способность к
самосовершенствованию. На два поколения раньше Пипса мы обнаруживаем более
высокопарного пророка этой веры во Фрэнсисе Бэконе[726].
Вера, просуществовавшая триста лет, была живучей, и мы можем
обнаружить ее выражение десять лет спустя после того, как она получила
очевидный нокаутирующий удар в 1914 г., в речи, произнесенной известным
историком и государственным деятелем допотопного поколения сэра Джеймса Хедлэма‑Морли
(1863‑1929)[727].
«В нашем анализе этой [западной] культуры первым величайшим
фактом, который мы отметим, является то, что хотя, несомненно, существует
история и цивилизация, общая для всей Западной Европы, ее народы не объединены
в какой‑либо формальный политический союз и ни одна из европейских стран не
подчиняется какому‑либо общему правительству. На время, правда, показалось,
будто Карл Великий установил свою власть над всей этой областью. Эта надежда,
как мы знаем, не оправдалась. Его попытка создать новую империю потерпела
неудачу, как и все последующие попытки. Попытки объединить всю Западную Европу
в одно большое государство или империю снова и снова предпринимались
позднейшими императорами, а также правителями Испании и Франции. Но всегда мы
обнаруживаем одно и то же: влечение к местному патриотизму и личной свободе
вдохновляет сопротивление, которое разбивает все усилия завоевателей. И эту
постоянно присутствующую характеристику Европы некоторые критики называют
анархией, ибо отсутствие общего правления подразумевает борьбу и войну,
непрерывные беспорядки между соперничающими правительствами, [борющимися друг с
другом] за территории и господство.
Это состояние, которое многим кажется весьма шокирующим.
Несомненно, оно предполагает огромную растрату энергии, значительное
уничтожение материальных ценностей, временами большую потерю времени. В
результате многие предпочли бы видеть постепенное установление некоего общего
правления и даже себе в ущерб противопоставлять историю Европы истории
императорского Рима или – в настоящее время – Соединенных Штатов Америки.
Многие со времен Данте тосковали по этому упорядоченному правлению, которое
могло бы показаться истинным отображением и орудием Божественного Провидения.
Как часто приходится слышать: если на земле Америки англичане и итальянцы,
поляки и русины, немцы и скандинавы могут жить бок о бок в мире и довольстве,
то почему бы им не жить так и у себя на первоначальной родине?
Мне не следует сейчас обсуждать идеалы будущего. Мы имеем
дело с прошлым, и все, что мы должны сделать, это отметить следующий факт: эта
анархия, эта война, это соперничество существуют именно в то время, когда
энергия континента находится в своей высшей точке. Отметим также, что энергии
средиземноморского мира – жизненная сила, художественный дух, интеллектуальная
изобретательность, – по‑видимому, постепенно, но неуклонно распадаются и что
начало распада совпадает с установлением общего правления. Не может ли
оказаться так, что разногласие и беспорядок в действительности не были простой
тратой энергии, но причиной, порождавшей эту энергию?»{166}
Странно слышать гиббоновский обнадеживающий голос, все еще
отдающийся эхом в Англии, которая теперь оглашается страшным звуком
апокалиптической трубы. К 1924 г., однако, противоположное чувство, выраженное
в различном понимании значения упадка и разрушения предшествующей эллинской
цивилизации, уже господствовало в пораженном западном мире.
За пять лет до того, как Хедлэм‑Морли произнес свою речь,
Поль Валери[728] красноречиво заявил, что все цивилизации
смертны. Шпенглер говорил то же самое в то же время. Мы можем теперь видеть,
что доктрина Прогресса была основана на множестве ложных предпосылок. Однако
заставляет ли нас признание этого принять доктрину Фатума? Это было бы слишком
простым умозаключением. Можно было бы с таким же успехом доказать, что
поскольку человек «не от мира сего» впал в пучину уныния, то, следовательно,
через нее не было пути. Пессимизм Валери и оптимизм Гиббона в одинаковой
степени являются рационализацией эмоций, которые соответственно оказались свойственны
краткому времени их жизней.
XLI.
Доказательства истории цивилизаций
1. Западный опыт, имеющий незападные
прецеденты
В предшествующих частях данного «Исследования» мы
постарались постичь причины надломов цивилизаций и процесс их распада путем
обзора относящихся к делу исторических фактов. Исследуя надломы, мы обнаружили,
что причиной в каждом из случаев выступала некоторая неудача в самоопределении.
Надломленное общество теряло благотворную свободу выбора, попав в рабство к
некоему идолу собственного изготовления. В середине XX в. христианской эры
западное общество явно поклонялось множеству идолов. Однако среди них один
возвышался над всеми остальными, а именно культ национального государства. Эта
черта западной жизни новейшего времени была ужасающим предзнаменованием в двух
отношениях: во‑первых, потому что эта идолизация представляла собой настоящую,
хотя и непризнанную, религию огромного большинства жителей вестернизированного
мира, а во‑вторых, потому что эта ложная религия явилась причиной гибели не
менее чем четырнадцати, а возможно, и шестнадцати из двадцати одной известной
нам цивилизации.
Братоубийственная война все возрастающей силы была намного
более частой причиной смертности среди цивилизаций всех трех поколений. В
первом поколении она, несомненно, явилась причиной гибели шумерской и андской,
а, возможно, также и минойской цивилизаций. Во втором поколении она разрушила
вавилонскую, индскую, сирийскую, эллинскую, древнекитайскую, мексиканскую и
юкатанскую цивилизации. В третьем поколении она разрушила православно‑христианскую
цивилизацию – как в ее основном стволе, так и в ее русском ответвлении,
дальневосточную цивилизацию в ее японской ветви, индусскую и иранскую
цивилизации. По поводу пяти оставшихся цивилизаций (кроме западной) мы можем предположить,
что хеттская довела себя до разорения в результате братоубийственной войны у
себя на родине еще до того, как изо всех сил устремилась на окаменевший
египетский мир и затем стала жертвой варварского Völkerwanderung.
Майянская цивилизация пока не предоставила каких‑либо данных о
братоубийственной войне. Египетская цивилизация и дальневосточная цивилизация в
Китае, по‑видимому, принесли свои жизни в жертву другому идолу, а именно
экуменическому государству со все увеличивающейся паразитической бюрократией.
Единственным оставшимся экземпляром является арабское общество, которое,
возможно, было уничтожено под грузом паразитического кочевнического института,
существовавшего в некочевническом мире – рабской власти египетских мамлюков,
если это общество представляет собой единичный случай гибели от иноземного
противника.
Кроме того, в новейшей главе западной истории опустошающее
воздействие идолизации национального суверенного государства усугубилось
демонической энергией. Сдерживающее влияние вселенской церкви было устранено.
Воздействие демократии в форме национализма, соединявшегося во многих случаях с
некоей новомодной идеологией, делало войну еще сильнее, и импульс, приданный
индустриализмом и технологией, снабдил воюющие стороны все более и более разрушительным
оружием.
Промышленная революция, которая начала воздействовать на
западный мир в XVIII в. христианской эры, находит своего несомненного двойника
в экономической революции, охватившей эллинский мир в VI в. до н. э. В обоих
случаях общества, которые прежде существовали более или менее изолированно и
жили натуральным хозяйством, теперь вступили в экономическое партнерство друг с
другом, чтобы увеличить свою производительность и свой доход, научившись
производить и обменивать особые предметы потребления. Добившись этого, они
перестали быть экономически самостоятельными и более не могли восстановить свою
самостоятельность, даже если бы и захотели. В обоих случаях следствием всего
этого явилось то, что общество приобрело новую структуру в экономическом плане,
несовместимую с его политической структурой. Неизбежный результат этого
«дефекта» в социальном строе эллинского общества уже неоднократно привлекал
наше внимание.
Одним из обескураживающих симптомов в современном западном
обществе стало появление сначала в Пруссии, а затем и во всей Германии
милитаризма, который оказывался смертельным в истории других цивилизаций. Этот
милитаризм впервые появился в период правления прусских королей Фридриха
Вильгельма I и Фридриха Великого (1713‑1786) в то время, когда из всех периодов
новоевропейской истории ведение войны было наиболее формальным, а ее
разрушительность была сведена к минимуму. В своей финальной фазе, вплоть до
времени написания, бешеный милитаризм национал‑социалистской Германии можно
было бы сравнить лишь с furor Assuriacus[729] после того, как ее температура дошла до своей
крайней степени при Тиглатпаласаре III (правил в 746‑727 гг. до н. э.). То, что
беспрецедентно полное уничтожение национал‑социалистской военной машины сможет
уничтожить волю к милитаризму во всех частях вестернизированного мира, во время
написания этих строк казалось более чем сомнительным.
Этим дурным предзнаменованиям противостоят также и
благоприятные симптомы. Существовал один древний институт, не менее пагубный,
чем война, от которого западная цивилизация освободилась. Общество, которому
удалось упразднить рабство, могло бы уверенно воспрянуть духом от этой
беспрецедентной победы христианского идеала и направить свои силы на решение
задачи по упразднению современного института войны. Война и рабство – два тесно
связанных друг с другом бича цивилизации с тех пор, как этот вид обществ
появился впервые. Победа над одним из них является добрым предзнаменованием для
будущей борьбы против другого.
Кроме того, западное общество, которое все еще побеждаемо
войной, могло бы воспрянуть духом, вспомнив о своих духовных боях. В ответ на
вызов, порожденный влиянием индустриализма на институт частной собственности,
западное общество уже во многих странах сделало успехи в форсировании перехода
между Сциллой неограниченного экономического индивидуализма и Харибдой
тоталитарного контроля экономической деятельности со стороны государства. Был
также достигнут определенный успех в деле сдерживания влияния демократии на образование.
Распахнув для всех двери интеллектуальной сокровищницы, которая с начала
цивилизации была заповедником, ревниво охраняемым немногочисленным меньшинством
и деспотически эксплуатируемым, современный западный дух демократии дал
человечеству новую надежду ценой появления новой опасности. Опасность
заключается в возможностях, которые открывает для пропаганды рудиментарное
универсальное образование, а также в мастерстве и беспринципности, с которыми
эта возможность реализуется рекламными торговцами, новыми агентствами, группами
влияния, политическими партиями и тоталитарными правительствами. Надежда
заключается в возможности, что эти эксплуататоры из полуобразованной публики
могут оказаться до такой степени неспособны улучшить состояние своих жертв, что
не смогут им воспрепятствовать продолжать свое образование до такой точки,
когда они стали бы свободны от подобной эксплуатации.
Однако план, в котором, по‑видимому, произошла решающая
духовная битва, был не военным, не социальным, не экономическим и не
интеллектуальным. В 1955 г. все решающие вопросы, с которыми столкнулся
западный человек, были религиозными.
Были ли безвозвратно дискредитированы фанатически уверенные
в своей правоте религии иудейского происхождения теми обвинительными
свидетельствами их нетерпимости, которые изобличали их вероисповедание? Было ли
какое‑то преимущество в той религиозной терпимости, до которой недоверчивый
западный мир дошел в конце XVII в. христианской эры? Как долго западные души
будут считать для себя приемлемым продолжать жить без религии? И в наши дни,
когда этот дискомфорт от духовного вакуума заставляет их открывать двери для
таких зол, как национализм, фашизм и коммунизм, как долго продержится эта
новейшая вера в веротерпимость? Веротерпимость была хороша в эпоху равнодушия,
когда различные разновидности западного христианства утратили свою власть над
западными сердцами и умами, тогда как еще не было найдено альтернативных
объектов для их расстроенной преданности. Теперь, когда они стали распутничать
с другими богами, устоит ли веротерпимость XVIII в. перед фанатизмом XX в.?
Скитальцы в западной пустыне, отступившие от единого
истинного Бога своих предков, научившись в результате своего разочаровывающего
опыта тому, что национальные государства, подобно сектантским церквям, являются
идолами, поклонение которым приносит не мир, но меч, могли бы соблазниться и
воспользоваться коллективным человечеством в качестве альтернативного объекта
идолизации. «Религия человечества», которую не удалось разжечь в холодной
атмосфере контовского позитивизма, подожгла мир, когда была выпущена из
пушечного жерла марксистского коммунизма. Будет ли та борьба не на жизнь, а на
смерть за спасение душ, которую христианство вело и выиграло в своей юности у
эллинского культа коллективного человечества, воплощенного в культах Деи Ромы и
божественного Цезаря, продолжена через две тысячи лет – уже против некоего
современного воплощения культа того же самого Левиафана? Эллинский прецедент
ставит вопрос, не давая ответа.
Если теперь мы перейдем от симптомов надлома в западном мире
к симптомам распада, то вспомним, что в нашем анализе «раскола в социальной
системе» мы обнаружили в современном западном мире явные следы появления
характерного тройственного разделения на правящее меньшинство, внутренний пролетариат
и внешний пролетариат.
На внешнем пролетариате западного мира вряд ли стоит
задерживаться, поскольку бывшие варвары были устранены не в результате истребления,
а в результате перехода в ряды западного внутреннего пролетариата, который стал
охватывать подавляющее большинство ныне живущего человечества. Таким образом,
насильственно цивилизованные варвары фактически представляли собой один из
самых малых отрядов, из которых состоял огромный внутренний пролетариат
западного общества. Гораздо большую долю внесли выходцы из незападных
цивилизаций, которые были уловлены в наброшенную на весь мир западную сеть.
Третьей составляющей (наиболее несчастной и, следовательно, наиболее
диссидентски настроенной) были deracines (утратившие свои корни)
различного происхождения – как западного, так и незападного, которые
подверглись различным степеням принуждения. Сюда входили потомки африканских
негров‑рабов, насильственно перевезенных через Атлантику, потомки индийских и
китайских законтрактированных рабочих, чье переселение за море в
действительности часто было столь же вынужденным, сколь и переселение
африканских рабов. Были также и другие, которые были оторваны от своих корней,
не переселяясь за море. Наиболее ужасающими примерами пролетаризации были
«белые бедняки» на «старом Юге» Соединенных Штатов и в Южно‑Африканском Союзе,
которые опустились до социального уровня вывезенных своими более успешными
собратьями или же местных африканских невольников. Однако в добавление ко всем
этим известным злополучным группам можно было бы сказать о том, что везде, где
были народные массы – сельские или городские, – которые чувствовали, что
западная социальная система не дает им того, на что они имеют право, там
существовал и внутренний пролетариат. Ибо наше определение «пролетариата» на
всем протяжении данного «Исследования» было психологическим, и мы
последовательно использовали его для обозначения тех, кто чувствовал, что более
«не принадлежит» духовно к обществу, в которое оказался физически включен.
Реакция пролетариата на правящее меньшинство принимала
насильственную форму множество раз в различных местах – от средневековых
Крестьянских войн до якобинства Французской революции. В середине XX в.
христианской эры она выразилась еще более мощно, чем когда‑либо ранее, причем
двумя путями. Там, где причины для недовольства в основном носили экономический
характер, этим путем стал коммунизм, а там, где причины для недовольства были
политическими или расовыми, этим путем становилось националистическое восстание
против колониализма.
В 1955 г. опасность для западной цивилизации со стороны
русско‑китайского коммунистического блока была очевидной и угрожающей. В то же
время было множество менее сенсационных, но не обязательно менее важных записей
в актив противоположной стороны.
Первым пунктом, который можно было бы назвать благоприятным
для находящейся под угрозой западной цивилизации, явилась примесь русского
национализма к экуменическому коммунизму, который исповедовал со свойственным
апостолу Павлу пылом, что надо быть выше всех индивидуальных различий между
иудеем и эллином. Это неискреннее настроение стало трещиной в духовных доспехах
коммунизма. В момент, когда в Восточной Азии дела Запада были чрезвычайно
плохи, западный телепат, умевший заглядывать в сердца молчаливых
государственных деятелей в Кремле, мог бы узнать, что они наблюдают за
захватывающими успехами китайских союзников со смешанными чувствами. Будущее
Маньчжурии, Монголии и Синьцзяна все‑таки имело гораздо большее значение для
Китая, равно как и для России, нежели будущее Индокитая, Гонконга и Тайваня.
Вполне возможно, что Маленков[730], или его
преемник Хрущев[731], или будущий
преемник Хрущева, в настоящее время еще не показавшийся на горизонте, мог бы
стать вторым Тито[732], и что после
того как Германия и Япония были разоружены Западом, а Китай – Советским Союзом,
напуганный Запад мог бы приветствовать напуганную Россию в качестве «надежды
белого человека». Уже давным‑давно дискредитированный кайзер Вильгельм II[733] обратил внимание на «желтую опасность» и за
свои труды был сочтен за глупца. Однако некоторые авторы все еще продолжают
отстаивать тот взгляд, что он был не только благонамеренным, но также и очень
умным человеком. И весьма знаменательно, что даже Гитлер хвалил мнение кайзера
по этому вопросу.
Это на первый взгляд неубедительное предсказание имеет
солидное основание в двух неоспоримых фактах. Россия была единственной большой
областью наследия белой расы, в которой население в XX в. росло с такой же
скоростью, с какой оно росло в XIX в. в Западной Европе и Северной Америке.
Россия была также областью наследия белой расы, которая граничила на континенте
с Китаем и Индией. Если одному из этих субконтинентов или обоим, каждый из
которых вмещает около четверти человеческого рода, удастся довести процесс
вестернизации в технологическом и организационном планах до такой точки, когда
китайская или индийская рабочая сила начнет подсчитывать мировой военный и
политический баланс соразмерно численности населения, то можно ожидать, что
такой укрепивший свою силу Самсон настоит на пересмотре остающегося до сих пор
чрезвычайно несправедливым распределения территории и природных ресурсов в
мире. В подобной ситуации Россия, борясь за свое собственное существование,
могла бы невольно оказать для западного мира, удобно укрывшегося под ее
защитой, маловыгодную для себя услугу, послужив в качестве буфера. Ту же самую
услугу однажды оказал основной ствол православно‑христианского мира, когда
взрывчатой частью света оказалась не Индия или Китай, а Юго‑Западная Азия,
объединенная динамичным руководством примитивных мусульманских арабов.
Это весьма умозрительные прогнозы, относящиеся к будущему,
пока еще не видимому на горизонте. Возможно, более солидное основание для
ободрения содержалось в том факте, что западное сообщество, которое вступило в
опрометчивое столкновение с китайцами в Корее и безнадежно впуталось в
Индокитае, сумело прийти к соглашению с индонезийцами накануне их освобождения
из‑под власти японцев и добровольно отказалось от своего владычества над
филиппинцами, цейлонцами, бирманцами, индийцами и пакистанцами. Примирение
между Азией в лице различных общин, прежде подвластных Британской империи в
Индии, и западным обществом в лице британских протагонистов в драме западного
империализма позднего Нового времени открыло ту перспективу, что, по крайней
мере, некоторая часть обширного азиатского контингента, входящего в состав
всемирного западного внутреннего пролетариата, направленная на отделение от
западного правящего меньшинства, может изменить свой курс и направиться к
альтернативной цели партнерства на равных правах со своими бывшими западными
хозяевами.
На аналогичный исход можно надеяться в азиатских и североафриканских
областях исламского мира, а также в большей части Африки к югу от Сахары. Более
трудноразрешимую проблему представляли собой те области, в которых
климатические условия привлекали западных европейцев не только устанавливать
свое господство, но и поселяться. Та же самая проблема возникала в менее
угрожающих формах в регионах, откуда цветное население вывозилось для того,
чтобы выполнять более неприятные и элементарные рутинные операции для белого
человека. Различие в уровне опасности, с точки зрения белого человека,
выражалось в статистике расового состава местного населения. Там, где цветные
были туземным населением, например в Южной Африке, они обычно численно
превосходили правящую белую расу. Там, куда они были насильственно вывезены,
как в Соединенных Штатах, пропорции были обратными.
В Соединенных Штатах во время написания этих строк тенденция
«цветного барьера» превращаться в кастовое разделение по индийскому образцу
вызывала сопротивление со стороны противодействовавшего духа христианства. И хотя
еще нельзя было сказать, является ли это христианское контрнаступление
безнадежным предприятием или же «волной Будущего», добрым предзнаменованием
было то, что в Соединенных Штатах, как и в Индии, спасительный дух действовал с
обеих сторон. В сердцах правящего белого большинства христианская совесть,
настоявшая на отмене негритянского рабства, стала осознавать, что простой
юридической эмансипации недостаточно, а с другой стороны, цветное пролетарское
меньшинство проявило признаки ответственности в том же духе.
Отчуждение внутреннего пролетариата является, как мы
показали в предшествующей части данного «Исследования», самым заметным
симптомом распада цивилизации. Имея это в виду, мы думали: какие данные как об
отчуждении, так и о примирении могли бы найтись в западном обществе в середине
XX в. христианской эры? Пока мы рассматривали те элементы пролетариата, которые
сами были незападного происхождения, но которые были вовлечены в границы
западного общества в результате мировой экспансии Запада. Не приходится уже и
говорить о том, что оставалась вся та часть пролетариата, которая была в
расовом отношении неотделима от правящего меньшинства, то огромное большинство
западных мужчин и женщин, которых «высшие личности», рожденные в западном
привилегированном меньшинстве XIX в., называли такими разными именами, как
«рабочий класс», «низшие классы», «простой народ», «массы» и даже (в
презрительно‑насмешливом духе) «великий неумытый». Здесь безмерность данной
темы устрашает. Достаточно будет сказать, что практически во всех западных
странах, в особенности же в наиболее высоко индустриализированных и наиболее
полно модернизированных странах, в первой половине столетия имело место
огромное практическое движение в сторону социальной справедливости в каждой из
областей жизни. Политическая революция, в результате которой Индия добилась
освобождения от Британской империи, была не более удивительна, чем социальная
революция в Великобритании. В ходе этой революции западная страна, в которой
власть, богатство и благоприятные возможности еще совсем в недавнее время
строго охранялись одиозно немногочисленным и скандально привилегированным
меньшинством, превратилась, с поразительно небольшим чувством обиды с другой
стороны, в общество, где высокий уровень социальной справедливости
обеспечивался ценой минимальной потери индивидуальной свободы.
Предшествующий обзор фактов, говорящих как за, так и против
возможности неудачи западной цивилизации в результате отделения внутреннего
пролетариата, подсказывает два предварительных вывода. Во‑первых, тенденции к
примирению, по‑видимому, сильнее, чем какие‑либо соответствующие тенденции в
эллинском обществе на соответствующей стадии его истории. Во‑вторых, это
различие в пользу западного мира, по‑видимому, в основном вызвано продолжающим
действовать духом христианства, еще не утратившим своей власти над сердцами
западных мужчин и женщин, даже несмотря на то, что их умы и отрицают Символ
веры, в котором неизменные истины христианства были переведены на недолговечный
язык языческой эллинской философии.
Эта стойкая жизненность высшей религии, некогда ставшей для
находившейся на стадии личинки западной цивилизации ее куколкой, была
элементом, которого поразительным образом не хватало в сравнимой в других
отношениях эллинской ситуации. Можно было бы предположить, что существует некая
связь между этой видимой непобедимостью духовной сущности христианства и
малочисленностью и скудостью нового урожая религий, появление которых можно
было обнаружить то здесь, то там в вестернизированном мире этого времени.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что данные незападных
прецедентов, касающиеся будущего западной цивилизации, не являются решающими.
2. Беспрецедентный западный опыт
До сих пор мы рассматривали те элементы в постсовременной
западной ситуации, которые сравнимы с элементами в истории других цивилизаций.
Однако есть в ней также и другие элементы, которые не имеют аналогов в историях
других цивилизаций. Две из этих не имеющих аналогов черт резко бросаются в
глаза. Первой является та степень господства, которую западный человек приобрел
над нечеловеческой природой, второй – растущая скорость социальных изменений,
которые этим господством вызваны.
Со времен перехода человека в техническом прогрессе от эпохи
нижнего палеолита к эпохе верхнего человеческий род стал «владыкой творения» на
земле в том смысле, что с этого времени уже более было невозможно ни
неодушевленной природе, ни какому‑либо из других нечеловеческих созданий ни
истребить человечество, ни хотя бы прервать человеческий прогресс. С этого времени
ничто на Земле, за одним исключением, не могло встать на пути человека или же
погубить его. Однако это исключение было значительным – им был сам человек. Как
мы видели, человек уже довел себя до беды, дурно исполняя свои обязанности в
четырнадцати или пятнадцати цивилизациях. В конце концов, в 1945 г. взрыв
атомной бомбы ясно показал, что человек приобрел теперь тот уровень контроля
над нечеловеческой природой, который сделал для него невозможным уже более
избегать вызова двух зол, принесенных им в мир самим актом создания для себя
новых видов общества в форме цивилизаций. Эти два зла были двумя различными
проявлениями единого зла войны, хотя удобнее было бы различать их под двумя
разными названиями – войны в ее обычном понимании и классовой борьбы: другими
словами, горизонтальной войны и вертикальной войны.
Это ситуация, к решению которой человеческий род был очень
плохо подготовлен. Учитывая его перспективы, мы можем попытаться упростить нашу
задачу, отдельно обсудив вопрос сначала о технологии, войне и правительстве, а
затем о технологии, классовой борьбе и занятости.
XLII.
Технология, война и правительство
1. Перспективы Третьей мировой войны
В результате двух мировых войн количество великих держав
уменьшилось с переменного множества (среди которого некоторые государства,
например Италия, носили свой титул по обычаю, хотя каждый знал, что они не
смогли бы доказать на него свои права) до двух – Соединенных Штатов и
Советского Союза. Советский Союз установил свое господство над Восточной
Германией, равно как и над большинством государств‑наследников бывших
Габсбургской и Оттоманской империй, которые были завоеваны во время Второй
мировой войны недолговечным национал‑социалистским германским Третьим рейхом.
Единственная причина, по которой Западная Германия и образовавшаяся между двумя
войнами Австрийская республика не последовали за своими соседями в утробу
России в 1956 г., заключалась в том, что они тем временем оказались под защитой
Соединенных Штатов и их западноевропейских союзников. К этому времени стало
очевидно, что замена протекторатом Соединенных Штатов несостоятельной
независимости являлась единственной гарантией от русского (или китайского)
господства, которое со временем обещало стать действительностью для всякого
государства в мире.
Эта роль, которая в Старом Свете была для Соединенных Штатов
новой, была уже им давно знакома в Новом Свете. Со времен Священного союза[734] до времен Третьего рейха доктрина Монро[735] спасала государства‑наследники Испанской и
Португальской империй в Америках от господства некоторых европейских держав
ценой замены испанской и португальской колониальной администрации гегемонией
Соединенных Штатов. Благодетели редко бывают популярны, и пока их благодеяния
не являются совершенно бескорыстными, они не могут эту популярность заслужить.
Чувства, скажем, французов к Соединенным Штатам начиная с 1945 г. не слишком
отличались от чувств бразильцев на протяжении предшествующего столетия.
Но как бы то ни было, Советский Союз и Соединенные Штаты
оказались в 1956 г. противопоставленными друг другу в качестве двух
единственных оставшихся на планете великих держав. В международном балансе сил
два – в лучшем случае слишком неудобное число. Конечно, в противоположность
Германии и Японии двадцать лет назад обе страны были экономически «сытыми» и
могли найти мирное применение всей своей рабочей силе на много десятилетий
вперед, возделывая свои собственные угодья. Однако история прошлого показала,
что страх друг перед другом была таким же мощным источником военной агрессии,
как и экономическая нужда. Русский и американский народы плохо понимали друг
друга. Обычным настроением русского народа было покорное подчинение, а
американского – беспокойная нетерпимость. Эта разница в характерах отразилась в
различном отношении к деспотическому правлению. Русские соглашались с ним как с
неизбежностью, а американцы научились из своей собственной истории думать о нем
как о дурном институте, который любой народ мог бы при желании сбросить.
Американцы видели свое summum bonum[736] в личной свободе, которую они довольно
странным образом отождествляли с равенством, тогда как коммунистическое правящее
меньшинство в России видело свое summum bonum в теоретическом равенстве,
которое оно еще более странным образом отождествляло со свободой.
Эти различия в характере и учениях двух народов затрудняли
взаимопонимание и доверие друг к другу. И эта взаимное недоверие порождало
страх теперь, когда поле сражения, на котором они угрожали друг другу войной,
трансформировалось до неузнаваемости в результате беспрецедентного прогресса
техники, приведшего к тому, что некогда обширный мир съежился до карликовых
размеров, так что впредь соперникам стало невозможно находиться на этом поле
сражения, не стреляя друг в друга в упор.
Казалось, что в мире, унифицированном таким образом, исход
соперничества за обладание мировым господством между Советским Союзом и
Соединенными Штатами со временем мог быть решен голосами тех трех четвертей
ныне живущего человечества, которые спустя пять или шесть тысячелетий после начала
цивилизации по своему материальному уровню жизни все еще жили в веке неолита,
но которые начинали осознавать, что возможен и более высокий уровень жизни.
Осуществляя возникший перед ними выбор между американским и русским образами
жизни, это до сих пор подавленное большинство, как можно было бы ожидать,
выберет из двух такой путь, который покажется им более пригодным для
удовлетворения революционных стремлений пробудившегося большинства. Однако хотя
последнее слово, возможно, и остается за подавленным до сих пор незападным
большинством человечества, по‑видимому, вероятен и такой вариант, что в скором
времени решительный перевес на русско‑американских весах произведут не эти три
четверти населения мира, а одна четверть нынешнего мирового промышленного военного
потенциала, который все еще размещен в Западной Европе. В глобальном масштабе
можно было бы сказать, что теперь есть один‑единственный континент –
Еврафразия, расположенная рядом с двумя большими заморскими островами –
Северной и Южной Америкой. С этой глобальной точки зрения, Россия предстает в
такой же мере континентальной державой, в какой Соединенные Штаты – островной,
точно так же, как в «европейских» национальных войнах периода Нового времени
западной истории Британия играла роль островной державы, а Испания, Франция и
Германия последовательно выступали в качестве ее континентальных врагов. На
современном глобальном поле сражения западноевропейский участок до сих пор
оставался стратегически важным, поскольку он был континентальным плацдармом островной
державы. В прошлом Фландрия была «ареной для петушиных боев» Западной Европы,
на которой неисправимо воинственные национальные государства устраивали свои
сражения. Теперь вся Западная Европа, по‑видимому, предназначена для того,
чтобы стать в случае еще одной мировой войны «ареной для петушиных боев»
вестернизированного мира. Возможно, в этой трансформации стратегической карты
воплощается идеальная справедливость. Однако это не делает положение западных
европейцев, обитающих на «арене для петушиных боев», в целом менее нежеланным
начиная с 1946 г., нежели оно было для фламандцев с конца XV в.
Прогресс техники не смог уменьшить власть человеческих
чувств над ходом человеческих дел. Милитаризм представляет собой не
техническую, а психологическую проблему – проблему воли к войне. Войны
возбуждают, когда ведутся где‑нибудь в другом месте другим народом. Возможно,
они возбуждают более всего, когда заканчиваются. Историки цивилизаций
традиционно рассматривали их как наиболее интересную тему в своей области.
Большинство армий в прошлом были относительно небольшими и в основном состояли
из людей, которые предпочитали войну всем другим занятиям. Однако со времени levée
en masse[737] в революционной Франции в 1792 г. современная
западная война стала гораздо более серьезным делом. В будущем же война угрожает
стать еще более серьезным делом. Сейчас война стремится нейтрализовать
милитаризм у тех народов, которым он был свойственен, а воля народа является
той силой, с которой даже деспотические правительства, в конце концов,
вынуждены соглашаться. Среди стран, которые больше всего пострадали в Первой
мировой войне, Франция фактически отказалась выносить Вторую. Гитлеру удалось
возбудить немцев на новую вспышку милитаризма. Однако в 1956 г. казалось
сомнительным, чтобы второй Гитлер (если бы таковой когда‑нибудь появился) смог
бы предпринять тот же самый tourde force (усилие) снова. Знаменательно
то, что излюбленным традиционным эпитетом коммунистических диктаторов стало
слово «миролюбивый». Наполеон на острове св. Елены еще описывал войну как belle
occupation[738].
Однако он вряд ли применил бы эту фразу по отношению к атомной войне, если бы
дожил до этого события.
Эти размышления первоначально относились к народам развитых
цивилизаций, которые имели непосредственный опыт войны в XX в. С другой
стороны, традиционная покорность народов Азии с незапамятных времен принимала
политическую форму пассивного подчинения деспотическим правительствам.
Культурному процессу вестернизации придется идти гораздо дальше элементарного
овладения западной военной техникой, прежде чем азиатский крестьянин‑солдат
начнет обдумывать или игнорировать приказы о жертвовании своей жизнью даже в
агрессивной войне, которая для него лично ничего не значит. Как далеко могут
зайти азиатские правительства середины XX в. в эксплуатации закоренелой
покорности своих подданных в военных целях? Западному человеку могло бы
показаться, будто китайский или русский крестьянин‑солдат дал своему
правительству чек на свою жизнь для оплаты на предъявителя. Однако история
показала, что есть граница, за которую ни китайское, ни русское правительство
не рискует зайти безнаказанно. Китайские режимы – от цзиньского до
гоминьдановского, – которые опрометчиво повернули гайку еще на один оборот,
постоянно расплачивались за этот незначительный успех потерей мандата на
правление. В русской истории происходило то же самое.
Царская власть, которая была достаточно мудра, чтобы
облегчить страдания русского народа в Крымской войне, согласившись на реформы
1860‑х гг., заплатила своей жизнью, упорно отказываясь предотвратить новую
опасность ценой подобного же возмещения своих последующих военных неудач
сначала в Русско‑японской войне 1904‑1905 гг., которая спровоцировала
безуспешную русскую революцию 1905 г., а затем в Первой мировой войне, которая
спровоцировала сразу две революции в 1917 г. Тогда казалось, что существуют
границы, за которыми мораль России и любой другой крестьянской страны потерпит
крах. Тем не менее столь же вероятным казалось, что правительство Советского
Союза скорее столкнется с ужасами войны с Соединенными Штатами, нежели пойдет
на какие‑либо политические уступки им, что в глазах русских было бы равносильно
подчинению американскому господству.
Если возможно, что возникнут такие обстоятельства, при
которых Советский Союз сможет или действительно начнет войну с державой своего
масштаба, можно ли то же самое предсказать и в отношении Соединенных Штатов? В
1956 г. ответ на этот вопрос казался утвердительным. Со времени основания
своего первого поселения в старейшей из тринадцати колоний американский народ
был одним из самых невоенных, однако в то же самое время и одним из самых
воинственных народов западного мира. Он был невоенным в том смысле, что
испытывал неприязнь к подчинению военной дисциплине и не имел амбиций галлов,
желавших видеть свою страну в военной славе ради самой славы. Воинственным же
он был в том смысле, что вплоть до закрытия своей границы около 1890 г. всегда
имел в рядах своего контингента жителей пограничной зоны, которые привыкли не
только носить оружие, но и использовать его на свое усмотрение в своих частных
делах. Такое положение дел к тому времени уже давно было забыто на большей
части Западной Европы. Воинственный дух десяти поколений американских жителей
границы подтвердили бы североамериканские индейцы в любое время после того, как
впервые белые люди с Британских островов высадились на американское побережье.
Его подтвердили бы французские соперники английских колонистов в XVIII в., а
также их мексиканские жертвы в XIX в. Эти столкновения между англо‑американскими
жителями границы и их соперниками за обладание Северной Америкой были также тем
основанием, которое подготовило не только жителей границы, но и американский
народ в целом – исключительно и временно – к подчинению дисциплине, без которой
личный боевой дух и героизм жителей границы был бы не способен одержать победу
над противниками, равными им по своему культурному уровню.
Воинские качества, скрытые в американском народе в целом,
стали известны его немецким противникам в германо‑американских войнах 1917‑1918
и 1941‑1945 гг. Однако наиболее впечатляющей демонстрацией американского
героизма, дисциплины, полководческого искусства и выносливости явилась война, в
которой американцы сражались против американцев. Война 1861‑1865 гг. между
Союзом и Конфедерацией была самой долгой, самой упорной, самой дорогостоящей по
убыткам и самой плодотворной по техническим изобретениям из всех войн, которые
проходили в западном мире между падением Наполеона и началом Первой мировой
войны. Кроме того, две мировые войны, которые на памяти одного поколения
истерзали Германию и ее русских и западноевропейских жертв столь же жестоко,
как и американская Гражданская война истерзала Юг, оставили Соединенные Штаты фактически
невредимыми. Психологические последствия, порожденные в морали западных
европейцев двумя мировыми войнами, вряд ли дали о себе знать на американской
стороне Атлантики. В 1956 г. можно было не сомневаться в том, что американский
народ действительно, скорее, готов столкнуться с ужасами войны с Советским
Союзом, нежели пойти на какие‑либо уступки, что в глазах американцев было бы
равносильно подчинению русскому господству.
Однако предшествующие исторические данные, подтверждающие
возможность стремления к войне в определенных обстоятельствах со стороны
американского и русского народов, придется переоценить в свете развития атомной
войны и психологических следствий этого развития – следствий, которые в
условиях середины XX в. не запаздывали за самим техническим развитием. Смерть
за страну или за дело становится беспричинным и бессмысленным актом героизма,
если становится несомненным то, что страна погибнет вместе с патриотом, а дело
– вместе со своим приверженцем в одной всеохватывающей катастрофе.
2. На пути к будущему мировому порядку
К 1955 г. уничтожение войны фактически стало настоятельным.
Однако она не может быть уничтожена до тех пор, пока контроль над атомной
энергией не будет сосредоточен в руках единой политической власти. Эта
монополия на распоряжение главным оружием века дала бы возможность такой власти
(и фактически заставила бы ее) взять на себя роль мирового правительства.
Действительным местонахождением такого правительства в условиях 1955 г. должны
были стать или Вашингтон, или Москва. Однако ни Соединенные Штаты, ни Советский
Союз не готовы были отдаться на милость противника.
В этом затруднительном положении традиционной линией
наименьшего психологического сопротивления, несомненно, было бы обращение к
старомодному средству испытания в ходе сражения. «Нокаутирующий удар», как мы
уже видели, был бесчеловечным средством, при помощи которого одна надломленная
цивилизация за другой успешно переходила из периода своего «смутного времени» в
период универсального государства. Однако в данном случае нокаутирующий удар
мог бы нокаутировать не только противника, но также и победителя, судью,
боксерский ринг и всех зрителей.
В этих условиях самое большое, на что могло надеяться
человечество в будущем, это возможность того, что правительства и народы
Соединенных Штатов и Советского Союза будут иметь достаточно терпения, чтобы
продолжать политику, получившую название политики «мирного сосуществования». Но
наибольшую опасность для благосостояния, а в действительности для продолжения
существования человеческого рода представляло собой не изобретение атомного
оружия, а рост в человеческих душах настроения, которое было преобладающим в
западном мире на ранней стадии Нового времени на протяжении примерно ста лет,
начиная со вспышки Религиозных войн около 1560 г. В начале второй половины XX
в. именно капиталисты и коммунисты, подобно своим католическим и протестантским
предшественникам, чувствовали, что было бы невозможно и недопустимо уступать в
деле верности общества, разделенного бесчисленное количество раз, чтобы
отделить истинную веру (свою собственную) от ужасной ереси (своего противника).
Однако история Религиозных войн на Западе свидетельствует о том, что духовные
разногласия не могут быть разрешены при помощи военной силы. Приобретение
человечеством атомного оружия предупреждало о том, что капиталисты и коммунисты
были невосприимчивы к урокам о тщетности религиозных войн, преподанным при
помощи эмпирического метода продолжительного испытания, которое еще было
возможно для католиков и протестантов в эпоху, когда самым худшим оружием
человека были мечи, пики и мушкеты.
В таких опасных и неясных обстоятельствах догматический
оптимизм столь же непростителен, сколь и догматический пессимизм. Ныне живущее
поколение людей не имеет иного выбора. кроме как примириться с тем знанием, что
оно стоит перед проблемой, в которой само его существование поставлено на
карту, и что невозможно предугадать, каков у всего этого будет результат. В
1955 г. эти вечные беспризорники на борту Ноева ковчега находились в такой же
ситуации, в какой Тур Хейердал[739] и его пять спутников‑викингов на борту
деревянного плота оказались утром 7 августа 1947 г. В это роковое утро западное
течение, которое вынесло плот «Кон‑Тики» на 4300 миль в Тихий океан, несло его
теперь на риф Раройя. За линией прибоя, разбивавшегося об этот барьер,
приближавшиеся к нему мореплаватели могли рассмотреть легкие верхушки пальмовых
деревьев, и они знали, что эти украшенные пальмами идиллические острова
находятся в тихой лагуне. Однако между ними и этой гаванью находился вскипающий
пеной, грохочущий риф, расстилавшийся «во всю линию горизонта»{167},
и течение и ветер не давали путешественникам никакого шанса обойти этот риф
вокруг. Они волей‑неволей направились на неотвратимый вызов. И хотя они могли
знать, какие вообще альтернативы ожидают всякого путешественника в подобном
положении, они не могли предугадать, какой из этих альтернатив закончится их
собственная сага.
Если плот развалится среди бурных волн, то экипаж будет
разорван на клочки заостренными, словно нож, кораллами, не успев стремительно
утонуть, чтобы спастись от этой мучительной смерти. Если плот не развалится и
экипажу удастся удержаться на нем, пока волны не перестанут злобствовать,
вынеся плот над рифом сухим, потерпевший кораблекрушение экипаж сможет доплыть
до лагуны и достичь живыми одного из увенчанных пальмами островов. Если момент
прибытия плота на риф совпадет с приливом одной из тех высоких волн, которые
периодически затопляют риф до самой глубины, когда буруны стихают, «Кон‑Тики»
сможет освободиться от смертельной опасности в спокойной воде и выйти
невредимым. В результате, высокий поток действительно поднял его избитый остов
над рифом и перенес в лагуну через несколько дней после того, как буруны побили
его об обнаженный коралловый щебень. Однако утром 7 августа 1947 г. никто на
борту «Кон‑Тики» не мог сказать, какой из этих возможных уделов ждет его.
Опыт этих шести скандинавских мореплавателей нашего времени
является подходящей аналогией того испытания, которое все еще предстоит человечеству
в начале второй половины XX в. христианской эры. Ковчег цивилизации, на
протяжении пяти‑шести тысячелетий плававший по океану истории, теперь
направлялся к рифу, который экипаж не мог обойти вокруг. Этой предстоящей
неотвратимой опасностью был рискованный переход между миром, разделенным на
сферы влияния Америки и России, и миром, объединенным под контролем единой
политической власти, которая в век атомного оружия рано или поздно должна
заменить нынешнее разделение властей тем или иным путем. Будет ли этот переход
мирным или катастрофическим, и если будет катастрофическим, то окажется ли
катастрофа полной и необратимой или же будет частичной и оставит после себя те
элементы, на основе которых в конечном счете можно будет добиться медленного и
мучительного восстановления? Во время, когда писались эти слова, никто не мог
знать наперед исход того испытания, к которому явным образом направлялся мир.
Тем не менее, не ожидая легко дающейся после свершившихся
событий мудрости, наблюдатель мог бы, вероятно, успешно делать предположения о
порядке будущих обстоятельств до тех пор, пока он будет ограничивать свои
рассуждения о будущем мировом порядке теми элементами, которые для всемирного
управления, по‑видимому, являются общими с управлениями двух занимающих полмира
держав, выкристаллизовавшись соответственно вокруг Соединенных Штатов и вокруг
Советского Союза.
Что касается возможностей техники в снабжении оборудованием
для транспортировки, то мировое правительство стало уже вполне осуществимым
проектом. Однако как только мы поднимаемся (или опускаемся) с технического
уровня до уровня человеческой природы, то обнаруживаем, что земной рай, умело
сконструированный благодаря изобретательности Homo faber («человека
умелого») оказывается призрачным счастьем благодаря порочности Homo
politicus («человека политического»). «Парламент человека», введение
которого пророк Теннисон[740], по‑видимому,
связывал во времени приблизительно с изобретением аэроплана, был введен теперь
под более прозаическим названием «Организации Объединенных Наций»[741], и ООН
оказалась не такой неэффективной, как порой утверждали ее критики. С другой
стороны, ООН, очевидно, была не способна стать зародышем мирового
правительства. Реальное распределение власти не было отражено в ее грубой
конституции, воплощавшей нереалистичный принцип «одно государство – один
голос», а затем не нашли лучшего средства привести фиктивное равенство
государств в соответствие с суровой действительностью, нежели уступить пяти
державам (одна из которых с тех пор сократилась от размеров Китая до размеров
Тайваня[742]) права вето,
отрицавшего их номинальное равенство. Наилучшей перспективой ООН было то, что
она могла развиться из форума в союз государств. Однако существует огромная
пропасть между любым союзом независимых государств и любой конфедерацией
народов с центральным правительством, претендующим и пользующимся
непосредственной личной преданностью каждого отдельного гражданина союза.
Общеизвестно, что история политических институтов не знает такого случая, в
котором бы эта пропасть была преодолена каким‑то иным образом, нежели
революционным скачком.
Исходя из этого, можно сказать, что, по‑видимому, ООН вряд
ли является тем институциональным ядром, из которого в конечном итоге неизбежно
должно вырасти мировое правительство. Вероятнее всего оно примет форму
правительства не ООН, а одного из двух более старых и более жестких
политических «действующих предприятий» – правительства Соединенных Штатов или правительства
Советского Союза.
Если бы живущее ныне поколение человечества освободилось,
чтобы выбирать между ними, то у любого западного наблюдателя были бы небольшие
сомнения в том, что подавляющее большинство все живущих мужчин и женщин,
способных высказать какое‑либо суждение по данной проблеме, предпочли бы,
скорее, стать подданными Соединенных Штатов, нежели Советского Союза. Те
преимущества, которые сделали Соединенные Штаты несравненно предпочтительнее,
заметно выделяются на коммунистическом русском фоне.
Основным преимуществом Америки в глазах ее нынешних и
будущих подданных было ее совершенно искреннее нежелание, чтобы ее вообще
заставляли играть эту роль. Значительная доля современного поколения
американских граждан, равно как и предков всех тех американских граждан,
которые сами не были эмигрантами, вырвала свои корни в Старом Свете и начала в
Новом Свете жизнь сначала, стремясь освободиться от дел континента, чью пыль
они демонстративно отряхивали со своих ног. И жизнерадостности надежды, с которой
они совершали свой уход, противостояла мучительность сожаления, с которым ныне
живущее поколение американцев совершало принудительный возврат. Принуждение
было, как мы видели, одним из аспектов того «уничтожения дистанции», которое
сделало Старый и Новый Свет единым и неделимым целым. Однако всевозрастающая
ясность, с которой происходило осознание этого принуждения, не ослабляла
нежелание, с которым оно принималось.
Вторым заметным преимуществом американцев было их
благородство. И Соединенные Штаты, и Советский Союз были «сытыми» державами, но
их социально‑экономическое положение было идентичным лишь в общем смысле.
Россия, подобно Америке, распоряжалась громадными неразработанными ресурсами. В
противоположность Америке, Россия едва только начала использовать свой
потенциал, и те достижения, которые она осуществила ценой человеческих усилий и
страданий в течение двенадцати лет, непосредственно предшествовавших
германскому нападению на нее в 1941 г., в значительной степени были уничтожены
в результате вторжения. Соответственно, русские использовали несправедливое
преимущество победившей стороны, компенсировав разрушение немцами русского
промышленного оборудования за счет конфискации и перевоза оборудования не
только из виновной Германии, но также и из стран Центральной и Восточной
Европы, освобожденных русскими, как они заявляли, от нацистов, и из китайских
провинций в Маньчжурии, освобожденных ими от японцев. Это было прямой
противоположностью американской послевоенной политики восстановления,
осуществляемой согласно плану Маршалла[743], и другим
мероприятиям. В соответствии с этой политикой множество стран, жизнь которых
была дезорганизована войной, были вновь поставлены на ноги при помощи денег,
ассигнованных Конгрессом в Вашингтоне в согласии с доброй волей американского
налогоплательщика, из чьих карманов пришлось взять все эти деньги. В прошлом
для держав‑победительниц было обычным делом не давать, но брать, и в политике
Советского Союза не было никакого исключения из этой дурной привычки. План
Маршалла установил новую норму, которая не имела сравнимого прецедента в
истории. Можно сказать, что на далеко смотрящий вперед просвещенный взгляд эта
благородная политика была в собственных интересах Америки. Однако хорошие дела
не перестают быть хорошими, если они в то же самое время являются
благоразумными.
Граждан западноевропейских стран, тем не менее, теперь стал
преследовать страх, что какое‑либо американское решение, в котором
западноевропейские народы никак не смогут участвовать, обрушит русское атомное
оружие на их головы в качестве непроизвольного побочного продукта импульсивного
ответа американцев на русскую провокацию. Хотя государства‑сателлиты
Американского Союза пользовались в большинстве других отношений завидной
свободой действия, которой были совершенно лишены сателлиты Советского Союза,
они оказались в почти таком же беспомощном положении в вопросах жизни и смерти.
В 1895 г. в связи с англо‑американским спором по поводу
определения границы между Британской Гвианой и Венесуэлой американский
государственный секретарь Ричард Олни[744] отправил получившую широкий резонанс
официальную депешу, обеспечившую его имени такую славу, которой он пользуется
до сих пор.
«Сегодня Соединенные Штаты практически полновластны на этом
континенте, и их указ является законом для их подданных, которые придерживаются
их посредничества. Почему? Не потому, что испытывают к ним чистую дружбу или
доброжелательные отношения. И не просто по причине их возвышенного характера
как цивилизованного государства; также не потому, что их мудрость,
справедливость и беспристрастие являются неизменными характеристиками действий
Соединенных Штатов. А потому, что в добавление ко всем прочим мотивам,
бесчисленные ресурсы Соединенных Штатов в соединении с их изолированной
позицией делают их хозяевами положения и практически неуязвимыми против той или
иной державы».
Эти слова не утратили своей неопровержимости, будучи
применимы к гораздо более широкой сфере гегемонии, нежели одна Латинская
Америка, и хотя неамериканцы могут не соглашаться с тем фактом, что
американские бичи предпочтительнее русских «скорпионов», «философ» мог бы
(говоря языком Гиббона) «позволить расширить свои взгляды», заметив, что
фактическая монополия первостепенной державы в определении и осуществлении
политики, когда на карту поставлены жизнь и судьба союзных народов, чревата
конституционной проблемой, которая может быть разрешена только при помощи
некоего рода федерального союза. Конституционные проблемы, поднятые
наступлением сверхнационального порядка, вряд ли будут разрешены легко и
быстро, но, по крайней мере, хорошим предзнаменованием явилось то, что
Соединенные Штаты уже осуществили в своей истории утверждение федерального
принципа.
XLIII.
Технология, классовые противоречия и занятость
1. Природа проблемы
Если значение слова «занятость» можно распространить не
только на количество и распределение работы и досуга, но также и на тот дух, с
которым сделана работа, и на ту пользу, с которой проведен досуг, то было бы
верно сказать, что воздействие беспрецедентно мощной западной техники на
всемирное вестернизированное общество, которое все еще остается разделенным на
множество отдельных классов с весьма отличающимся друг от друга уровнем жизни,
поставило перед наследниками западной цивилизации проблему занятости, сравнимую
с проблемой правительства, которую мы обсуждали в предыдущей главе.
Подобно проблеме правительства, проблема занятости сама по
себе не представляла ничего нового, поскольку если первопричиной надломов и
распадов других цивилизаций была неспособность избежать войны путем
добровольного и своевременного расширения кругозора правительства с
национального уровня до всемирного, то вторичной причиной была неспособность
избежать классового конфликта путем добровольных и своевременных изменений в
напряжении и результатах труда и в удовольствии и пользе досуга. Тем не менее в
этой сфере, как и в первой, различие в уровнях между современным западным и
любым предшествующим человеческим господством над нечеловеческой природой было
равносильно различию по природе. Направив беспрецедентно мощную новую энергию
на экономическое производство, современная технология привела к тому, что
привычная социальная несправедливость стала казаться поправимой и,
следовательно, ощущаться невыносимой. Когда новоявленный рог изобилия в виде
механизированной индустрии произвел свое баснословное богатство для тех
западных предпринимателей, которые посеяли семена и пожали урожай промышленной
революции, почему богатство и досуг все еще должны быть монополизированы
привилегированным меньшинством? Почему бы это новонайденное изобилие не
разделить между западными капиталистами и западными промышленными рабочими, а
также между западными промышленными рабочими и азиатскими, африканскими и
индейско‑американскими крестьянами, которые всей массой были согнаны в ряды
внутреннего пролетариата охватывающего весь мир западного общества?
Эта новая мечта о возможности изобилия для всего
человечества породила беспрецедентно настойчивые и нетерпеливые требования
«свободы от нужды». Повсеместность этих требований поставила вопрос: а
действительно ли производительность рога изобилия неисчерпаема, как то
предполагалось раньше? На этот вопрос можно было ответить только, решив
уравнение, в котором было, по крайней мере, три неизвестных.
Первой из этих неизвестных была степень потенциальной
возможности технологии удовлетворить растущие требования человеческого рода,
который продолжал умножаться и начинал требовать досуга. Каковы на планете
резервы невосстановимых природных ресурсов в виде минералов и восстановимых
природных ресурсов в виде гидроэнергии, сельскохозяйственных культур, скота,
рабочей силы и человеческого умения? Как долго используемые до сих пор ресурсы
будут служить увеличению их дохода и через какое время растраченное имущество
человечества можно будет компенсировать использованием альтернативных ресурсов,
которые до сих пор не эксплуатировались?
Современные выводы западной науки, по‑видимому, говорят о
том, что возможности технологии огромны. Однако в то же самое время современная
реакция человеческой природы делает очевидным тот факт, что в человеческом
плане могут возникнуть практические ограничения производительности, которая
фактически безгранична в абстрактных понятиях технологических возможностей.
Производительность, которая возможна в техническом смысле, не может быть
воплощена в жизнь, пока человеческие руки не дернут за рычаг. Однако ценой
такого огромного потенциального увеличения власти над нечеловеческой природой
явилось пропорциональное количество поворотов гаек в дисциплине рабочих.
Неизбежное сопротивление подобным посягательствам на их личную свободу
заставило их бороться против реализации того, что технически было возможно.
Какова та степень жертвования своей личной свободой, на
которую готовы идти рабочие ради увеличения размеров пирога, от которого они
требует каждый раз все больший и больший кусок? Как далеко может зайти
городской промышленный рабочий в подчинении «научной организации управления»?
Как далеко может зайти примитивное крестьянское большинство человечества в
усвоении западных научных методов сельского хозяйства и в принятии ограничений
в области традиционно неприкосновенного права и обязанности произведения
потомства? На данной стадии самое большее, что можно сказать, это то, что
потенциальные возможности технологии увеличивать производительность бегут
наперегонки с естественной человеческой настойчивостью промышленных рабочих и
крестьян. Переполняющее мир крестьянство угрожает аннулировать блага
технического прогресса, продолжая увеличивать число мирового населения pari
passu (одновременно) с каждым последующим увеличением средств к
существованию. В то же время промышленные рабочие угрожают аннулировать блага
технического прогресса, ограничивая производительность профсоюзными методами
борьбы против сокращения рабочей силы одновременно с каждым последующим увеличением
возможностей повышения производительности труда.
2. Механизация и частное предпринимательство
В социально‑экономическом плане выдающейся чертой была
упорная конкурентная борьба между строгой регламентацией жизни, навязываемой
механизированной промышленностью, и упорным нежеланием людей подчиняться этой
строгой регламентации. Наиболее сложным моментом в этой ситуации являлся тот
факт, что механизация и полиция, к сожалению, были нераздельны. На впечатления
наблюдателя могло бы воздействовать то освещение, в котором ему бы случилось
увидеть сцену. С точки зрения человека, имеющего отношение к технике, упорное
отношение промышленных рабочих могло бы показаться по‑детски неразумным.
Неужели же действительно эти люди не осознают, что у каждого желанного объекта
есть своя цена? Неужели они действительно думают, что они могли бы добиться
«свободы от нужды», не подчинившись тем условиям, которые должны быть
выполнены, прежде чем их нужда будет удовлетворена? Однако историк мог бы
посмотреть на это зрелище другими глазами. Он бы припомнил, что промышленная
революция началась в Британии XVIII в., в то время и в том месте, где
исключительно высоким уровнем свободы от регламентации жизни пользовалось
меньшинство, и что члены этого меньшинства стали создателями системы
механизированного производства. Свобода предпринимательства доиндустриального
периода, которую эти первопроходцы индустриализма унаследовали от
предшествовавшей системы социального распределения, явилась вдохновением и
источником жизненной силы для новой системы распределения, которую их
инициатива вызвала к жизни.
Кроме того, доиндустриальный дух свободы предпринимателей‑промышленников,
который был основной пружиной промышленной революции, продолжал быть движущей
силой и в следующей главе истории. Пока промышленные магнаты продолжали таким
образом некоторое время уклоняться от судьбы быть уничтоженными всесокрушающей
силой своей собственной мануфактуры, эта судьба стала родовой отметиной нового
городского промышленного рабочего класса, который чувствовал с самого начала
губительное воздействие на человеческую жизнь триумфального успеха технологии
по овладению нечеловеческой природой. В предшествующем контексте мы видели, как
техника освободила человека от тирании цикла дня и ночи и цикла смены времен года.
Однако, освободив его от этого древнего рабства, она навязала ему новое.
Профсоюзные организации, которые были характерным вкладом
нового промышленного рабочего класса в новую структуру общества, действительно
явились наследием того же самого доиндустриального рая частного
предпринимательства, который породил и промышленных магнатов. Будучи
рассмотренными в качестве инструментов, дающих рабочим возможность вести борьбу
со своими работодателями, они фактически были созданием той же самой системы
социального распределения, что и их капиталистические противники. Свидетельства
об этой общности этоса можно найти в том факте, что в коммунистической России
за ликвидацией частных предпринимателей последовала строгая регламентация
профсоюзов, тогда как в национал‑социалистской Германии за ликвидацией
профсоюзов последовала строгая регламентация частных предпринимателей. С другой
стороны, в Великобритании после всеобщих выборов 1945 г. при лейбористском
правительстве, чья программа состояла в изъятии промышленных предприятий из
частных рук без вмешательства в область личной свободы, рабочие на
национализированных предприятиях никогда не думали о роспуске своих профсоюзов
или же отказе от права поддерживать интересы своих членов всеми теми способами,
которые использовались против лишенных собственности частных «спекулянтов». И
от этого порядка вещей нельзя было избавиться, объявив его нелогичным, ибо
целью профсоюзов являлось сопротивление строгой регламентации, независимо
оттого, навязывал ее частный капиталист или же Национальное управление.
К несчастью, результатом сопротивления рабочих строгой
регламентации со стороны работодателя явилась регламентация ими самих себя.
Борясь против превращения себя в роботов на фабрике, они обрекли себя на судьбу
служить роботами в профсоюзах, и этой судьбы им, по‑видимому, было не избежать.
Не было утешения и в том факте, что их старинный и привычный враг – частный
предприниматель – сам теперь был строго регламентирован и роботизирован.
Противником уже перестал быть понятный человеческий тиран, чьи глаза могли быть
прокляты, а окна разбиты, когда пробуждалась раздражительность. Последним
врагом рабочих стала безличная коллективная сила, которая была более мощной и
более неуловимой, нежели любое отвратительное и, следовательно, опознаваемое
человеческое существо.
Если эта прочная саморегламентация промышленных рабочих была
мрачным предзнаменованием, то благоговейный ужас внушало также и зрелище того,
как западный средний класс начинает выбирать путь, по которому долгое время
следовал промышленный рабочий класс. Столетие, закончившееся 1914 г., было
золотым веком западного среднего класса. Однако новая эра явилась
свидетельницей того, как этот класс подвергся, в свою очередь, тем бедствиям,
на которые промышленная революция осудила промышленных рабочих. Ликвидация
буржуазии в Советской России была поразительным предзнаменованием. Однако более
точное указание на то, что произойдет, можно было найти в современной
социальной истории Великобритании и других англоязычных стран, которые не испытали
политических революций.
В период между промышленной революцией и началом Первой
мировой войны отличительной психологической чертой западного среднего класса (в
противоположность «рабочему» классу – работникам и физического, и умственного
труда) было его стремление к работе. В цитадели капитализма на Манхэттене можно
было найти обыденную, хотя и показательную иллюстрацию этой разницы отношения
не далее как в 1949 г. В этом году финансовые дома на Уолл‑Стрит[745] безуспешно пытались побудить своих
стенографистов путем предложения особого вознаграждения за сверхурочную работу
к тому, чтобы они пересмотрели коллективное решение об отказе впредь выполнять
свои обязанности в субботу утром. Работодатели стенографистов желали посвятить
свои субботние утра работе ради сохранения тех прибылей, которых они лишились
бы, если бы подчинились этому сокращению своей рабочей недели. Однако они уже
не могли выполнять свою работу без стенографистов, готовых им ассистировать, и
оказались не способны убедить этих не допускающих никаких исключений
сотрудников по своему бизнесу в том, что игра, то есть работа по субботам,
стоит свеч. Стенографисты занимали такую позицию, что однодневный или даже
полдневный дополнительный досуг значит для них больше, чем любой денежный
стимул к отказу от требования этого удовольствия. Дополнительные деньги в их
карманах не имели для них смысла, если им приходилось зарабатывать их ценой
потери вышеупомянутого дополнительного досуга, без которого они бы не имели
времени тратить эти деньги. В этом выборе между деньгами и жизнью они предпочли
жизнь ценой потери денег, и их работодатели не имели успеха, пытаясь убедить их
изменить свое сознание. К 1956 г. начало казаться, что пока стенографистов с
Уолл‑Стрит убеждали при помощи денежного вознаграждения встать на точку зрения
финансистов с Уолл‑Стрит, неблагоприятная экономическая обстановка могла в
конце концов самих финансистов привести к принятию точки зрения стенографистов.
Ибо к этому времени даже Уолл‑Стрит начала чувствовать тот бриз, который уже
заставил охладиться некогда жизнерадостные сердца на Ломбард‑Стрит[746].
В XX в. христианской эры возможности западного среднего
класса вести выгодный бизнес постепенно сокращались в одном западном центре
капиталистической активности за другим. И эти экономические перемены имели
тягостное воздействие на этос среднего класса. Традиционное рвение этого класса
к работе было подорвано постепенным ограничением сферы их частного
предпринимательства. Инфляция и налогообложение делали бессмысленными их
традиционные добродетели, состоявшие в усердном зарабатывании денег и
экономности. Растущий прожиточный минимум вместе с одновременным повышением
уровня жизни сокращали размеры их семей. Утрата личной домашней прислуги
угрожала уничтожить их профессиональную работоспособность. Утрата досуга
угрожала уничтожить их культуру. Кроме того, женщина из среднего класса – мать,
от которой, как показывает множество биографий, главным образом зависело
сохранение высоких стандартов этого класса, – получила еще более тяжкий удар,
чем мужчина.
Постепенный исход среднего класса из частного
предпринимательства на государственную службу или на психологически
эквивалентную ей службу в больших негосударственных корпорациях принес с собой
для западного общества как выигрыш, так и потери. Основным выигрышем явилось
подчинение эгоистического корыстолюбивого побуждения альтруистическому мотиву
общественного служения, и социальное значение этой перемены можно измерить
последствиями соответствующих перемен в историях других цивилизаций. Например,
в историях эллинской, древнекитайской и индусской цивилизаций социальное
оживление, начавшееся с установлением универсальных государств, было
ознаменовано и достигнуто по большей части благодаря переориентации
способностей до тех пор преследовавшего свои хищнические интересы класса на
общественное служение. Август и его преемники сделали хороших государственных
служащих из хищных римских торгашей, Хань Лю Бан и его преемники – из хищных
феодальных землевладельцев, а Корнуоллис и его преемники – из хищных торговых
агентов британской Ост‑Индской компании. Однако в каждом из случаев, хотя и
различными способами, результаты вскрывали характерную слабость, а
окончательную неудачу можно объяснить амбивалентностью этоса гражданского
служащего, в котором независимая добродетель честности уравновешивалась
недостатком рвения и нежеланием брать на себя инициативу и подвергаться риску.
Эти характерные черты проявлялись теперь в широком масштабе государственными
служащими XX в. из среды среднего класса, и это не служит хорошим знамением для
будущего в успешном решении той огромной задачи, с которой они рано или поздно
столкнутся, – задачи по организации и поддержанию мирового правительства.
Когда мы начинаем исследовать причины образования этого
этоса гражданского служащего, то обнаруживаем, что он явился ответом на вызов
давления машины, которая хотя и была сконструирована не из металлических, а из
психологических материалов, тем не менее, оказывала не менее пагубное
воздействие на человеческие души. Стремление к созданию машины
высокоорганизованного государства, управляющего многими миллионами подданных,
было столь же душепагубной задачей, сколь и действие любого типичного набора
научно регулируемых физических движений на фабрике. Бюрократизм фактически мог
оказаться более сжимающим, чем железо, и бюрократизм входил в души
государственных служащих, тогда как роль, которую в сверхурочной
государственной службе играли формальности и рутина, в сверхурочных выборных
законодательных органах теперь играла все более жесткая и дисциплинирующая
партийная система.
Значение всех этих тенденций для перспектив нынешней
«капиталистической» системы было нетрудно оценить. Движущей силой капитализма
являлся запас доиндустриальной психической энергии западного среднего класса.
Если бы эту энергию теперь лишили сил и в то же самое время направили из
области частного предпринимательства в сферу государственной службы, то этот
процесс означал бы гибель капитализма.
«Капитализм по своей сути является процессом экономического
изменения… Без нововведений нет предпринимателей, а без предпринимательских
достижений нет капиталистической прибыли и капиталистического движения вперед.
Атмосфера промышленных революций – “прогресса” – это единственная атмосфера, в
которой может сохраниться капитализм… Стабилизированный капитализм – это
противоречие в терминах»{168}.
Казалось, что регламентация, навязанная промышленной
технологией, может лишить жизни доиндустриальный дух частного
предпринимательства. И эта перспектива поднимала следующий вопрос. Будет ли
способна техническая система механизированной промышленности пережить социальную
систему частного предпринимательства? А если нет, то сможет ли сама западная
цивилизация пережить смерть механизированной промышленности, которой она
оставила заложников, позволив своему населению в машинный век далеко превзойти
по своей численности то количество, какое могла бы прокормить любая
неиндустриальная экономика?
Неоспоримым фактом является то, что промышленная система
могла работать до тех пор, пока существовал запас двигавшей ее творческой
психической энергии, и эту‑то движущую силу до сих пор обеспечивал средний
класс. Следовательно, основным вопросом, по‑видимому, является вопрос о том,
существует ли какой‑либо альтернативный источник психической энергии, способный
служить тем же самым экономическим целям, из которого вестернизированный мир
мог бы черпать, если бы энергия среднего класса разрядилась или была направлена
в другое русло. Если практическая альтернатива в пределах досягаемости, то мир
мог бы позволить себе хладнокровно ожидать кончину капиталистической системы.
Однако если такой альтернативы нет, то тогда перспектива неутешительна. Если
механизация означает регламентацию и если регламентация вынимает дух у
промышленного рабочего класса, а впоследствии и у среднего класса, то возможно
ли человеческими руками управлять всемогущей машиной безнаказанно?
3. Альтернативные подходы к социальной
гармонии
К социальной проблеме, с которой столкнулось человечество,
можно подойти с различных углов зрения в разных странах. Один подход был
осуществлен в Северной Америке, другой – в Советском Союзе, третий – в Западной
Европе.
Североамериканский подход вдохновлялся идеалом создания
«земного рая» в Новом Свете, и этот «рай земной» должен был основываться на
системе частного предпринимательства, жизнеспособность которой, как верили
северные американцы (включая сюда наравне с жителями Соединенных Штатов и
англоязычных канадцев), они могут поддерживать – какова бы ни была ее судьба в
других местах – путем поднятия экономического и социального уровней рабочего
класса до уровня среднего класса, тем самым противодействуя тому, что мы
описали в предыдущем параграфе как естественные психологические следствия
промышленной механизации. Это была вдохновляющая, хотя, возможно, слишком
простая вера, основанная, так сказать, на множестве иллюзий, которые в конечном
счете можно свести к основной иллюзии изоляционизма. Новый Свет не был столь
«новым», как желали бы его поклонники. Человеческая натура, включающая в себя
первородный грех, пересекла Атлантику вместе с первыми эмигрантами и со всеми
их наследниками. Даже в XIX в., когда изоляционизм казался достижимым в
политическом плане, этот «земной рай» содержал в себе множество змеев, и по
мере того как наступал XX в. и закрывал собою предыдущее столетие, становилось
все более и более ясно, что двойственность двух миров – Старого и Нового Света
– была теорией, которая не соответствовала фактам. Человеческий род весь
находился в одной лодке, и философия жизни, которая не могла быть применимой ко
всему человеческому роду, в общем не могла быть применимой и к любой из его
частей.
Русский подход к проблеме классовой борьбы вдохновлялся,
подобно американскому, идеалом создания «земного рая» и, подобно американскому,
принял форму политики освобождения от классового конфликта путем устранения
классовых различий. Однако на этом сходство заканчивается. Если американцы
пытались ассимилировать промышленный рабочий класс в среднем классе, то русские
ликвидировали средний класс и запретили всякую свободу частного
предпринимательства не только для капиталистов, но также и для профсоюзов.
В политике коммунистической России были серьезные
достоинства, которых западные соперники Советского Союза не могли не учитывать.
Первым и самым большим из этих ценных качеств был этос самого коммунизма. В
конечном итоге эта идеология могла оказаться неудовлетворительной заменой
религии, но на первое время она предлагала всякому, чей дом был пуст, ничтожен
или неукрашен, незамедлительное удовлетворение одной из глубочайших религиозных
потребностей человека, предлагая ему цель, превосходящую его ничтожные личные
цели. Миссия по обращению мира в коммунизм была более оживленной, чем миссия по
сохранению для мира права извлекать выгоду или права бастовать. «Святая Русь»
была более воодушевляющим боевым кличем, чем «счастливая Америка».
Другим серьезным преимуществом русского подхода было то, что
географическое положение России делало невозможным для русских питать иллюзию
изоляционизма. Россия не имела «естественных границ». Кроме того, марксизм,
проповедуемый из Кремля, выступил с убедительным обращением к мировому
крестьянству от Китая до Перу и от Мексики до тропической Африки. В своей
социально‑экономической ситуации Россия имела гораздо большее сходство, нежели
Соединенные Штаты, с угнетенными тремя четвертями человеческого рода, за
преданность которых соревновались две державы. Россия могла заявлять (при
внешнем правдоподобии этих слов), что она освободилась путем собственных усилий
и освободит весь остальной мировой пролетариат благодаря своему примеру. Часть
этого пролетариата проживала в самих Соединенных Штатах, и беспокойство по
поводу действенности этого марксистского призыва было нескрываемым, а в
некоторых своих проявлениях – прямо истеричным. Западноевропейский подход к
решению проблемы классового конфликта – подход, который заметнее всего проявился
в Великобритании и скандинавских странах, – отличался от американского и
русского тем, что был менее доктринерским, чем оба эти подхода. В странах,
которые теряли власть и богатство, уходившее к возвышающимся гигантам на
окраинах западного мира, в то самое время, когда их собственные промышленные
рабочие требовали «нового курса»[747], явно было
невозможно западноевропейскому среднему классу следовать за североамериканским
средним классом, предлагая рабочему классу двумя руками удобства своего уровня
жизни и обилие возможностей для удовлетворения личных амбиций. Еще более
нереально было предлагать западноевропейскому рабочему классу «смирительную
рубашку» тоталитарного режима. Соответственно, нынешний англо‑скандинавский
подход явился попыткой найти средний путь, экспериментируя в области сочетания
частного предпринимательства с государственным регламентированием в интересах
социальной справедливости. Это была политика, которую часто идентифицируют с
«социализмом» – термином, являющимся похвальным в устах его британских
почитателей, тогда как в устах его американских критиков он был умаляющим. Что
касается британской системы «государства всеобщего благосостояния», то она была
построена постепенно и не догматически благодаря законодательному вкладу всех
политических партий.
4. Возможная цена социальной справедливости
Социальная жизнь невозможна для человека без некоторой меры
его личной свободы и социальной справедливости. Личная свобода является
необходимым условием для всякого человеческого достижения – доброго или злого,
тогда как социальная справедливость является прекрасным правилом игры
человеческих отношений. Неограниченная личная свобода ставит слабейших в
безвыходное положение, а социальная справедливость не может быть приведена в
действие без подавления свободы, без которой человеческая натура не может быть
творческой. Все известные конституции обществ располагались где‑то между двумя
этими теоретическими крайностями. В действующих Конституциях Советского Союза и
Соединенных Штатов, например, элементы личной свободы и социальной
справедливости комбинировались в различных отношениях. А в вестернизированном
мире середины XX в. эта смесь, какой бы она ни была, неизменно носила название
«демократии», поскольку этот термин, отысканный в эллинском политическом
словаре (где он часто использовался в уничижительном смысле), теперь стал
обязательным тайным паролем для каждого уважающего себя политического алхимика.
Использованный таким образом термин «демократия» был просто
дымовой завесой для маскировки реального конфликта между идеалами свободы и
равенства. Единственное подлинное примирение этих конфликтующих идеалов можно
было найти в промежуточном идеале братства. И если бы спасение человека
зависело от его перспектив по переносу этого высшего идеала в реальность, то он
обнаружил бы, что изобретательность политика не зашла далеко, поскольку
достижение братства будет находиться вне досягаемости людей до тех пор, пока
они будут полагаться исключительно на свои силы. Братство человека происходит
от отцовства Бога.
В том шатком равновесии, когда личная свобода и социальная
справедливость почти уравновешивали друг друга, гаечный ключ техники был брошен
на чашу противников свободы. Этот вывод можно проиллюстрировать и обосновать
путем наблюдения за наступающим состоянием общества, которое уже находится в
поле нашего зрения, хотя, возможно, еще и не в пределах досягаемости. Давайте
предположим, в качестве обсуждения, что всемогущая техника уже выполнила
следующую главную задачу, стоящую на повестке дня. Дав атомную бомбу в руки
человека, она заставила его уничтожить войну и в то же самое время сделала его
способным снизить уровень смертности до беспрецедентно низкого минимального
уровня, беспристрастно даровав всем классам и всем расам преимущества
профилактической медицины. Давайте также предположим (что действительно вполне
вероятно), что эти поразительные усовершенствования в материальных условиях
жизни осуществились с такой скоростью, с какой не удавалось идти наравне
культурным изменениям. Эти предположения требуют от нас представить, что
крестьянские три четверти человечества еще не утратят к этому времени своей
привычки воспроизводить свой род до пределов истощения своих средств к
существованию. А это предположение, в свою очередь, потребует от нас
представить, что они все еще будут тратить на увеличение своей численности
населения все те дополнительные средства к существованию, которые будут отданы
им в руки в результате установления мирового порядка, следствием чего станут
преимущества мира, порядка, гигиены и использование науки в производстве
продуктов питания.
Подобные предсказания не так уж фантастичны. Они просто
представляют собой проекцию в будущее давно существующих нынешних тенденций. В
Китае, например, рост численности населения поглотил рост средств к
существованию, достигнутый в результате ввоза прежде неизвестных
продовольственных культур из обеих Америк в XVI в. и установления в XVII в. Pax
Manchuana[748].
Благодаря акклиматизации маиса в Китае около 1550 г., сладкого картофеля около
1590 г. и арахиса несколькими годами спустя, население здесь выросло с 63 599
541 человека, по результатам переписи 1578 г., до цифры 108 300 000 в 1661 г.
После этого оно продолжало расти и дальше – до 143 411 559 человеке 1741 г.,
300 млн. в середине XIX в. и до порядка 600 млн. в середине XX в. Эти цифры
показывают не просто рост, но рост в геометрической прогрессии. И это несмотря
на периодические вспышки чумы, эпидемий и голода, сражения, убийства и
внезапные смерти. Цифры современного роста населения в Индии, Индонезии и
других странах показывают ту же картину.
Если такие события происходят сегодня, то что можно ожидать
завтра? Хотя рог изобилия науки порождает такое богатство, которое опровергает
новейший мальтузианский пессимизм, непреодолимая ограниченность поверхности
земного шара должна установить предел постепенному росту продуктов питания для
человечества. И, по‑видимому, вполне вероятно, что этот предел будет достигнут
незадолго до того, как привычка крестьянства размножаться неограниченно будет
преодолена.
Предсказывая, таким образом, посмертное исполнение ожиданий
Мальтуса, мы должны предсказать и то, что ко времени «великого голода»
некоторая всемирная власть возьмет на себя ответственность наблюдать за
материальными потребностями всего населения планеты. При подобном положении дел
производство детей перестанет быть частным делом жен и мужей и станет
общественной заботой вездесущей безличной дисциплинарной власти. Самое первое,
что правительства сделают для вторжения в остававшееся до сих пор закрытым
святая святых частной жизни, будет учреждение негативных и позитивных наград
родителям необычайно больших семейств, если власти будут озабочены увеличением
рабочей силы для «труда» или для «пушечного мяса». Однако они не в большей мере
мечтали о том, чтобы запретить своим подданным ограничивать размеры своих
семей, нежели заставить их размножаться. В самом деле, свобода воспроизводить
потомство или не воспроизводить его так необдуманно считалась чем‑то само собой
разумеющимся, что не далее как в 1941 г. президенту Рузвельту[749] не пришло на ум увеличить число
аксиоматических свобод человека, освященных его Атлантической хартией, с
четырех до пяти, особо записав в список священное право родителей определять
размеры своих собственных семей. Как кажется теперь, будущее покажет, что была
непроизвольная логика в рузвельтовском простодушном молчании по поводу этого
пункта, поскольку, по‑видимому, в крайнем случае, новая «свобода от нужды» не
может быть гарантирована человечеству до тех пор, пока привычная «свобода
воспроизводства» не будет у него отнята.
Если действительно придет такое время, когда воспроизводство
детей придется регулировать при помощи внешней власти, то как это урезание
личной свободы будет воспринято, с одной стороны, крестьянским большинством
человечества, а с другой – меньшинством, которое промышленная технология уже
освободила от крестьянской подвластности неоспариваемого обычая? Дискуссия
между двумя этими частями человеческого рода, вероятно, была бы резкой,
поскольку каждая имеет повод для недовольства другой. Промышленные рабочие
возмущались бы предположением, что на них лежит моральная обязанность
обеспечивать средства к существованию для неограниченно растущего числа
крестьянских ртов. Со своей стороны, крестьяне обиделись бы, если бы им
угрожала потеря традиционной свободы воспроизводить свой род под тем предлогом,
что это единственная альтернатива голодной смерти. Ибо это жертвоприношение
потребовалось бы от них в то время, когда пропасть между их низким уровнем
жизни и уровнем жизни промышленных рабочих на Западе или в вестернизированных
странах, вероятно, стала бы больше, чем когда‑либо прежде.
Постепенное расширение этой пропасти было бы поистине одним
из ожидаемых следствий, если мы правы, предсказывая, что во время, когда производство
продуктов во всем мире достигнет своего предела, крестьянство будет все еще
тратить большинство своих дополнительных предметов потребления на рост своей
численности, а индустриализированные рабочие – на повышение своего уровня
жизни. В этой ситуации крестьяне не будут понимать, почему прежде чем они будут
вынуждены отказаться от наиболее священного из человеческих прав, богатеющее
меньшинство не будет вынуждено отдать большую часть своих вызывающих излишеств.
Подобное требование показалось бы изощренной западной элите абсурдным и
необоснованным. Почему должна западная или вестернизированная элита, которая
обязана своим процветанием своему интеллекту и предусмотрительности, нести
наказание, расплачиваясь за недальновидную несдержанность крестьян? Это
требование показалось бы ей еще более неразумным, учитывая, что принесение в
жертву западного уровня жизни не прогнало бы призрак всемирного голода, но
просто задержало бы его на незначительный период времени, в течение которого
эта жертва свела бы наиболее развитые народы до материального уровня
бездельников.
Столь резкая реакция, как эта, не смогла бы решить данную
проблему. В действительности же можно было бы предположить, что если бы такой
продовольственный кризис, какой мы предсказывали, в конце концов произошел, то
преобладающая реакция западного человека не была бы столь не сочувствующей.
Холодный расчет просвещенного эгоизма, человеческое желание облегчить страдания
и чувство морального долга, которые являются сохранившимся духовным наследием
догматически отвергнутого христианства, – соединение мотивов, которое уже
вдохновляло множество международных попыток поднять уровень жизни в азиатских и
африканских странах, – заставили бы западного человека сыграть скорее роль
доброго самарянина, нежели роль священника, или левита[750].
Когда вспыхнет этот спор, то, по‑видимому, он будет
перенесен из области экономики и политики в область религии, и это произойдет
по нескольким причинам. Во‑первых, упорство крестьян в воспроизводстве своего
рода, превышающем возможности производства пищевых запасов, явилось социальным
следствием религиозной причины, которая не может быть изменена без перемены в
крестьянском религиозном отношении и мировоззрении. Религиозное мировоззрение,
которое заставило крестьянские обычаи размножения столь сильно сопротивляться
доводам разума, может быть, и не было по своему происхождению иррациональным,
ибо являлось пережитком примитивного состояния общества, в котором домочадцы
являлись оптимальной социальной и экономической единицей сельскохозяйственного
производства. Механизированная технология теперь устранила то социально‑экономическое
окружение, в котором культ семейного изобилия имел экономический и социальный
смысл. Однако сохранение этого культа после того, как уже не было никакого
смысла поддерживать его в дальнейшем, явилось последствием относительной
медлительности движения души на подсознательном уровне по сравнению со
скоростью интеллекта и воли.
Без религиозной революции в душах крестьян трудно ожидать,
что эта всемирная мальтузианская проблема будет решена. Однако в данной
ситуации не одному только крестьянству требуется достичь перемены в сердце,
если человечество хочет обрести счастливый выход из неминуемой катастрофы. Ибо
если верно, что «не хлебом одним будет жить человек»{169}, то тогда
и самодовольно процветающему западному меньшинству придется поучиться духовному
настроению в этосе крестьянства.
Западный человек подверг себя опасности потерять свою душу из‑за
концентрации на сенсационно успешном стремлении повысить уровень своего
материального благосостояния. Если ему суждено найти спасение, то он найдет его
только в том, что будет делиться результатами своих материальных достижений с
менее материально успешным большинством человеческого рода. Регулирующему
рождаемость инженеру‑агностику придется столь же многому научиться у
невоздержанного и суеверного крестьянина, сколь и крестьянину – у инженера.
Какую роль будет суждено сыграть историческим высшим религиям мира в
просвещении обеих сторон и в достижении между ними взаимопонимания, остается
вопросом, на который пока нельзя ответить.
5. Жили счастливо с тех пор?
Если бы мы могли представить мировое сообщество, в котором
человечество впервые избавилось бы от войны и классовой борьбы и продолжало
решать проблему перенаселенности, то мы могли бы предположить, что следующей
проблемой, с которой столкнется человечество, будет роль досуга в жизни
механизированного общества.
Досуг всегда играл роль первоочередной важности в истории,
ибо если необходимость была матерью цивилизации, то досуг был ее кормилицей.
Одной из отличительных черт цивилизации была та скорость, с какой этот новый
образ жизни раскрывал свои потенциальные возможности. И этот толчок был сообщен
цивилизациям меньшинством из меньшинств – немногими целеустремленными людьми
среди привилегированного класса, чьей привилегией было обладание досугом. Все
великие достижения человека в области искусств и наук были плодами выгодно
использованного досуга этого творческого меньшинства. Однако промышленная
революция нарушила – и сделала это несколькими различными путями – прежнее
отношение между досугом и жизнью.
Наиболее значительной из этих перемен была психологическая.
Механизация нарушила существовавшую в сознании промышленного рабочего
напряженность между его восприятием своей работы и восприятием своего досуга,
от которого в доиндустриальную эпоху ни крестьянское большинство, ни
привилегированное меньшинство не зависели. В аграрном обществе цикл времен года,
который являлся земледельческим календарем, устанавливал также и для праздного
меньшинства распределение времени между приемами при дворе и войной или между
заседаниями в парламенте и охотой и рыбной ловлей. Крестьяне и их правители
воспринимали работу и досуг как должное, как перемежающиеся фазы ритма Инь‑и‑Ян,
отбиваемого постоянно повторяющимися циклами дня и ночи, лета и зимы. Каждая
фаза была освобождением от другой. Однако эти доиндустриальные
взаимозависимость и равенство работы и досуга были выведены из строя, когда
рабочий превратился в оператора машин, которые могли продолжать работу день и
ночь круглый год. Постоянная промышленная война, которую рабочий теперь
оказался вынужденным вести, чтобы помешать машинам и их хозяевам загнать себя
до смерти, пропитала его сознание враждебностью к тяжелому труду, который его
крестьянские предки воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Это новое
отношение к работе привело его к новому отношению к досугу, поскольку если
работа по своей сути есть зло, то в таком случае досуг должен обладать
абсолютной ценностью сам по себе.
Реакция человеческой природы против рутины фабрики и офиса к
середине XX в. зашла уже так далеко, что свобода от чрезмерного гнета работы
стала цениться больше, чем вознаграждение, которое рабочий мог бы получить,
работая без выходных. Однако в то же время необузданное до сих пор развитие
технологии сыграло мрачную шутку со своими человеческими жертвами. Когда им уже
не угрожала работа до полусмерти, им стало угрожать сокращение по причине
«безработицы». Таким образом, профсоюзная ограничительная практика, которая
была задумана как форма организованной неспособности затормозить смертельную
гонку машины, стала служить дальнейшей цели рабочих экономить остаток
занятости, который в целом явно вырывали из человеческих рук[751]. Можно было
бы предсказать наступление «земного возвращенного рая», где режим «полной
занятости» был бы также режимом, при котором рабочее время, затраченное каждым
индивидом, занимало бы такую малую часть его дня, что он обладал бы досугом,
почти равным досугу давно угасшего привилегированного класса «праздных
богачей», к которому его предки привыкли относиться неодобрительно. В подобных
обстоятельствах использование досуга явно стало бы важнее, чем было когда‑либо
прежде.
Как человечество будет использовать этот будущий
универсальный досуг? Этот волнующий вопрос был поднят сэром Альфредом Эвингом[752] в президентском обращении к Британской
ассоциации 31 августа 1932 г.
«Некоторые могут предвидеть отдаленную Утопию, в которой
будет совершенное регулирование труда и плодов труда, справедливое
распределение занятости, заработной платы и всех предметов потребления, которые
произведены машинами. Но даже в этих условиях будет оставаться нерешенным
вопрос: как человеку проводить свой досуг, который он завоевал, переложив почти
всю свою ношу на неутомимого механического раба? Смеет ли он надеяться на такое
же духовное улучшение, которое сделает его способным использовать свой досуг
разумно? Дай Бог, чтобы он стремился и достиг этого! Только ища он найдет. Я не
могу думать, что человечество обречено на истощение и прекращение развития
того, что является одной из его самых больших дарованных Богом способностей –
творческой изобретательности инженера».
Pax Romana (римский мир) был очень далек от того
будущего, которое мы предугадываем теперь в отношении досуга, который он
обеспечивал для человеческого существования. Однако несмотря даже на это, автор
трактата «О возвышенном стиле», писавший в неопределенное время расцвета
Римской империи, чувствовал, что ослабление напряжения, вызванное установлением
эллинского универсального государства, привело к ухудшению человеческих
качеств.
«Одним из бедствий духовной жизни людей, рожденных в
нынешнем поколении, является низкое духовное напряжение, в котором лишь
немногие среди нас избранные души проводят свои дни. В нашей работе, равно как
и в нашем отдыхе, единственной нашей целью является популярность и наслаждение.
Мы не заботимся о завоевании того подлинного духовного сокровища, которое
заключалось бы в ободрении человека на его дело и в завоевании признания, которого
тот действительно был бы достоин».
Эти выводы эллинского критика были поддержаны в начале
Нового времени западной истории одним из первооткрывателей современного
научного духа. Следующий отрывок взят из сочинения «Успехи и развитие знания
[божественного и человеческого]», опубликованного Фрэнсисом Бэконом в 1605 г.
«Как было хорошо замечено, когда добродетели растут,
процветают военные искусства, когда добродетели находятся в статичном
состоянии, процветают свободные искусства, а когда добродетели в упадке –
чувственные. Так, я подозреваю, что этот век мира – где‑то внизу колеса. С
чувственными искусствами я соединяю шутливые обычаи, ибо введение в заблуждение
чувств является одним из чувственных удовольствий».
«Шутливые обычаи» обеспечили бы добрую часть использования
досуга в век телевидения и радио. Повышение рабочего класса до материального
уровня среднего класса явно сопровождалось в духовном плане пролетаризацией
жизни большей части среднего класса.
Гости на пиру у Цирцеи вскоре оказались в ее свинарнике[753]. Открытым
оставался вопрос: останутся ли они там на неограниченное время? Неужели это
судьба, которая ожидает человеческий род? Неужели действительно человеческий
род удовольствуется тем, что будет «жить счастливо с тех пор» в «прекрасном
новом мире»[754], в котором
единственной сменой однообразия безвкусного досуга будет однообразие
механической работы? Подобный прогноз, несомненно, не учитывал бы творческое
меньшинство, которое во все века истории было солью земли. Мрачный диагноз
автора позднеэллинистического трактата «О возвышенном стиле» упустил из виду
наиболее важный элемент в современной ему ситуации. Он, по‑видимому, ничего не
знал о христианских мучениках.
Может показаться (и так оно в действительности и есть), что
существует большая разница между перспективой технологической безработицы и
ожиданием второй Пятидесятницы. Читатель может задаться скептическим вопросом:
«Как это может быть?»
В середине XX в. невозможно сказать, как это будет. Однако
кое‑что можно было бы сказать в подтверждение того, что подобная надежда
является не просто «принятием желаемого за действительное».
Одним из способов, какими Жизни удается предпринять tour
de force (усилие) по сохранению себя, является компенсация нехватки или
избытка в одной области за счет накопления избытка или образования нехватки в
другой области. Тем самым мы могли бы ожидать, что в социальной среде, где
существует нехватка свободы и избыток регламентации в экономической и
политической сферах, результатом действия подобного закона Природы оказалось бы
стимулирование свободы и ослабление тирании регламентации в сфере религии.
Таким, несомненно, было развитие событий во времена Римской империи.
Одним из уроков этого эллинского эпизода было то, что в
Жизни всегда есть некий несокращаемый минимум психической энергии, который
будет настойчиво требовать своего освобождения через тот или иной канал. Однако
в равной мере верно и то, что существует максимальный предел количества
психической энергии, которая Жизнь имеет в своем распоряжении. Отсюда следует,
что если усиление энергии требуется для придания большей активности одного рода
деятельности, то необходимый дополнительный запас придется получать путем
экономии энергии в других частях света. Способом экономии энергии, имеющимся у
Жизни, является механизация. Например, сделав биение сердца и перемежающиеся
вдохи и выдохи легких автоматическими, Жизнь освободила человеческую мысль и
волю для других целей, нежели постоянное поддержание физической жизненности от
одного момента до другого. Если бы сознательный акт мысли и волевой акт никогда
не перестали требоваться для осуществления каждого последующего вдоха и каждого
последующего биения сердца, то человеческое существо никогда бы не имело
никакого запаса интеллектуальной и волевой энергии, чтобы сделать что‑либо еще,
кроме поддержания своей жизни. Или же, выражаясь точнее, недочеловеческое
существо никогда не стало бы человеческим. По аналогии с этим творческим результатом
экономии энергии в жизни физического тела человека мы могли бы предположить,
что в жизни его социального тела религия, вероятно, была бы лишена пищи до тех
пор, пока мысль и воля были бы заняты экономикой (как было на Западе со времени
начала промышленной революции) и политикой (как было на Западе со времен
западного Ренессанса обожествленного эллинского государства). И наоборот, мы
можем сделать вывод о том, что регламентация, которая теперь была навязана
экономической и политической жизни западного общества, вероятно, освободила бы
западные души для выполнения истинного назначения человека по прославлению Бога
и удовольствию общения с Ним вновь.
Эта более счастливая духовная перспектива была, по крайней
мере, возможностью, в которой подавленное поколение западных мужчин и женщин
могло бы уловить манящий луч доброго света.

Заключение
XLIV.
Как была написана эта книга
Почему люди изучают историю? Автор настоящей работы ответил
бы, что историк, подобно всякому человеку, которому посчастливилось обрести
цель в жизни, нашел свое призвание в призыве Бога «ощущать Его и искать Его»[755]. Точка зрения
историка – лишь одна из других бесчисленных точек зрения. Его особый вклад
состоит в том, что он позволяет увидеть нам зрелище творческой деятельности
Бога в движении, которое открывается нашему человеческому опыту в шести
измерениях. Историческая точка зрения показывает нам физический космос,
движущийся по кругу в рамках четырехмерного пространства‑времени, показывает
нам Жизнь на нашей планете, эволюционирующую в рамках пятимерной системы Жизни‑времени‑пространства,
а также человеческие души, поднимающиеся в шестое измерение посредством дара
Духа, движущиеся через роковое осуществление духовной свободы или к своему
Творцу, или прочь от Него.
Если мы правы, усматривая в Истории зрелище Божественного
творения, находящегося в движении, то нас не должно удивлять, что в
человеческих умах, чья внутренняя восприимчивость к впечатлениям Истории
остается всегда примерно на одном уровне, действительная сила впечатления будет
различаться в соответствии с историческими обстоятельствами воспринимающего.
Простая восприимчивость должна усиливаться любопытством, а любопытство будет
стимулироваться только в том случае, когда процесс социального изменения
обнаруживается ярко и интенсивно. Примитивное крестьянство никогда не мыслило
исторически, поскольку его социальная среда всегда говорила ему не об Истории,
а о Природе. Его праздниками не были ни 4 июля[756], ни День Гая
Фокса[757], ни День
перемирия[758], но
неисторические праздничные и будние дни ежегодно повторяющегося
сельскохозяйственного года.
Однако даже для меньшинства, социальное окружение которого
говорило ему об Истории, эта подверженность излучению исторического социального
окружения сама по себе не была достаточной, чтобы вдохновить историка. Без
творческого возбуждения любопытства наиболее известные и наиболее впечатляющие
памятники Истории не произведут своей красноречивой пантомимой должного
эффекта, поскольку глаза, обращенные к ним, будут слепы. Эта истина о том, что
творческую искру нельзя высечь без ответа, равно как и без вызова, была подтверждена
западным философом‑пилигримом Вольнеем, когда он посетил исламский мир в 1783‑1785
гг. Вольней прибыл из страны, которая была вовлечена в текущую историю
цивилизаций лишь со времен войны с Ганнибалом, тогда как тот регион, который он
посетил, являлся сценой действия Истории примерно на три‑четыре тысячелетия
дольше, чем Галлия, и, соответственно, больше был снабжен видимыми реликвиями
прошлого. Однако в последней четверти XVIII в. христианской эры поколение,
жившее тогда на Среднем Востоке, селилось среди ошеломляющих руин исчезнувших
цивилизаций, не пытаясь исследовать, чем некогда были эти монументы. В то же
время именно этот вопрос привел Вольнея из его родной Франции в Египет, а по
его следам – большую компанию французских savants (ученых), которые воспользовались
возможностью, предоставленной им военной экспедицией Бонапарта спустя
пятнадцать лет. Наполеон знал, что вызовет определенное впечатление, на которое
отреагируют даже неграмотные рядовые его армии, когда напомнил им перед началом
решающего сражения у Имбаба, что сорок веков истории смотрят на них с высоты
пирамид. Мы можем быть уверены, что Мурат‑бею, командующему вооруженными силами
мамлюков, никогда не пришло бы в голову попусту тратить слова, обращаясь с
аналогичным призывом к своим собственным нелюбопытным товарищам.
Французские ученые, которые посетили Египет в обозе
Наполеона, отличились тем, что обнаружили новое измерение Истории, которое
должно было удовлетворить ненасытное любопытство западного общества. С этого
времени не менее одиннадцати утраченных и забытых цивилизаций – египетская,
вавилонская, шумерская, минойская и хеттская вместе с культурой долины реки Инд
и культурой Шан в Старом свете и майянская, юкатанская, мексиканская и андская
цивилизации в Новом свете – были вновь вызваны к жизни.
Без вдохновляющего любопытства никто не смог бы стать
историком. Однако самого по себе этого недостаточно. Ибо если любопытство не
направлено, то оно может найти выход лишь в погоне за бесцельным всезнайством.
Любопытство каждого великого историка всегда было направлено на то, чтобы
ответить на некий вопрос, имеющий практическое значение для его поколения,
который в общих словах можно сформулировать так: «Как это получилось из того!»
Если мы сделаем обзор созданных великими историками интеллектуальных историй,
то обнаружим, что в большинстве случаев некоторое важное и вместе с тем, как
правило, потрясающее общественное событие было тем вызовом, который вдохновил
ответ в форме исторического диагноза. Это могло быть событие, свидетелем
которого был сам историк или в котором он даже играл активную роль, как Фукидид
в великой Пелопоннесской войне, а Кларендон[759] – в гражданских войнах в Англии. Или же это
могло быть событие далекого прошлого, отзвуки которого пробудились в
чувствительном историческом сознании, как интеллектуальный и эмоциональный
вызов упадка и разрушения Римской империи послужил стимулом для Гиббона, когда
спустя столетия он задумчиво смотрел на руины Капитолия. Творческим стимулом
могло стать важное событие, которое вызвало чувство удовлетворения, такое,
например, как умственный вызов, полученный Геродотом от Персидской войны.
Однако по большей части именно великие исторические катастрофы, бросающие вызов
природному оптимизму человека, порождают наилучшие труды историка.
Историк, являющийся автором этой книги, родился в 1889 г. и
был еще жив в 1955 г. Он уже слышал долгие раскаты перемен, раздававшиеся в
ответ на основной вопрос историка: «Как это произошло из того!»
Как, прежде всего, случилось, что он дожил до того времени, когда предыдущее
поколение было так грубо разочаровано в своих явно разумных ожиданиях? В
либерально мыслящих кругах среднего класса в странах западной демократии
поколению, рожденному около 1860 г., казалось очевидным к концу XIX в., что
победоносно продвигающаяся вперед западная цивилизация теперь доведет
человеческий прогресс до такой точки, на которой сможет считать обретение
земного рая уже вполне достижимым. Как случилось, что это поколение так
горестно разочаровалось? Точнее, что не удалось? Как в результате
столпотворения войны и злобы, которые принесло с собою новое столетие,
политическая карта мира изменилась до неузнаваемости, и доброе содружество
восьми великих держав сократилось до двух, каждая из которых находилась за
пределами Западной Европы?
Список аналогичных вопросов можно было бы развивать до
бесконечности, и они послужили бы темами для не менее объемных исторических
исследований. Благодаря своей счастливой профессиональной судьбе – рождению в
«смутное время», которое по определению является раем для историка, автор
настоящей книги фактически побуждал себя интересоваться всякой исторической
загадкой, бросаемой ему текущими событиями. Однако на этом его счастливая
профессиональная судьба не заканчивается. Он родился как раз вовремя, чтобы
получить еще не разбавленное западное «ренессансное» образование в области
классической филологии. К лету 1911 г. он изучал латынь уже пятнадцать лет, а
греческий – одиннадцать. И это традиционное образование имело благотворный
результат, делая получивших его невосприимчивыми к болезни культурного шовинизма.
Получившим классическое образование европейцам было сложно впасть в ошибку,
считая западно‑христианский мир наилучшим из возможных миров и рассматривая
исторические вопросы, которые ставило перед ним современное ему западное
социальное окружение, без отсылки к оракулам Эллады, ставшей для него его
духовной родиной.
Он, например, не мог наблюдать разочарование ожиданий своих
либерально мыслящих старших собратьев, не вспомнив о разочаровании Платона в
перикловской аттической демократии. Переживая опыт начала войны 1914 г., он не
мог не осознавать, что начало войны в 431 г. до н. э. принесло такой же опыт
Фукидиду. Как только этот опыт открыл ему впервые истинную природу
фукидидовских слов и фраз, которые до того значили для него очень мало или же совсем
ничего не значили, он осознал, что книга, написанная в другом мире более чем 2
300 лет назад, может быть сокровищницей опыта, который в мире читателя только
начинает настигать его собственное поколение. Именно в этом смысле две даты –
1914 г. и 431 г. до н. э. – были, с философской точки зрения, современны.
Можно увидеть, что в социальной среде автора настоящей
работы было два фактора (при этом ни один из них не был для него личным),
которые оказали решающее влияние на его подход к исследованию Истории. Первым
была текущая история его собственного западного мира, а вторым – его
классическое образование. Постоянно взаимодействуя друг с другом, они сделали
взгляд автора на Историю «бинокулярным». Когда основной вопрос историка «Как это
произошло из того?» был поставлен автору неким современным
катастрофическим событием, то этот вопрос принял в его сознании такую форму:
«Как это произошло из того в западной, равно как и в эллинской истории?» Тем
самым он начал смотреть на Историю как на сравнение двух элементов.
Этот бинокулярный взгляд на Историю могли бы оценить и
одобрить дальневосточные современники, в жизни которых тогда еще остававшееся
традиционным образование в области классического языка и литературы
предшествующей цивилизации сыграло не менее важную роль. Конфуцианский книжник,
подобно автору настоящей работы, столкнувшись с любым мимолетным событием, не
смог бы не припомнить какой‑либо его классический аналог, который для него
представлял большее значение, а возможно, был даже более яркой реальностью, чем
постклассическое происшествие, побудившее его сознание к решению близкой по
духу задачи по пережевыванию жвачки знакомых классических древнекитайских
знаний. Принципиальное различие в мировоззрении этого конфуциански мыслящего
китайского ученого конца эпохи Цин и его эллинистически мыслящего английского
современника конца викторианской эпохи, возможно, состояло бы в том, что
китайский исследователь человеческих дел все еще довольствовался проведением
исторических сравнений только двух элементов, тогда как англичанин, начав
некогда мыслить исторически на основании двух элементов, не мог более
останавливаться на этом, по мере расширения своего культурного диапазона.
Для китайского исследователя, получившего традиционное
классическое образование к концу XIX в. христианской эры, все еще новой была
идея о том, что любая цивилизация, за исключением древнекитайской и ее
дальневосточной преемницы, может быть достойной серьезного рассмотрения. Однако
подобным же образом ограниченный взгляд был бы невозможен для любого европейца
этого же поколения.
Это было невозможно, поскольку на протяжении
предшествовавших ста лет западное общество, к которому он принадлежал, вступило
в контакт с не менее чем восемью другими представителями своего рода в Старом
свете и Новом. И с этих пор стало вдвойне невозможно западному сознанию
игнорировать существование или же отрицать значение других цивилизаций, кроме
своей собственной и эллинской, поскольку на протяжении последнего столетия эти
ненасытные в своих поисках европейцы, которые уже завоевали прежде нетронутый
океан по следам Колумба и Васко да Гамы, продолжали раскапывать скрытое в земле
прошлое. В поколении, которое приобрело этот широкий исторический взгляд,
западный историк, побуждаемый своим классическим образованием к проведению
исторических сравнений двух элементов, не мог почувствовать удовлетворение до
тех пор, пока не собрал для сравнительного исследования столько экземпляров,
сколько мог найти, того вида общества, лишь двумя представителями которого были
эллинская и западная цивилизации.
Когда ему удалось увеличить элементы сравнения более чем в
десять раз, он не мог больше игнорировать главный вопрос, который уже грозило
поставить первоначальное сравнение двух элементов. Наиболее зловещим фактом в
истории эллинской цивилизации был окончательный распад того общества, надлом
которого отметила в 431 г. вспышка великой Пелопоннесской войны. Если была бы
какая‑то обоснованность в авторской процедуре проведения сравнений между
эллинской историей и западной, то, по‑видимому, отсюда следовало бы, что
западное общество в конечном итоге, должно быть, не является свободным от
возможности повторения подобной судьбы. А когда автор, проведя более обширные
исследования, обнаружил, что явное большинство в его коллекции цивилизаций уже
мертво, то он вынужден был сделать вывод, что смерть действительно является
возможностью, с которой сталкивается любая цивилизация, включая его
собственную.
Что являлось той «дверью смерти», за которой уже исчезло
такое множество цветущих цивилизаций? Этот вопрос привел автора к исследованию
надломов и распадов цивилизаций, а отсюда он пришел к дополнительному
исследованию их возникновения и роста. И таким образом было написано это
«Исследование истории».

Краткое
содержание II тома
V. Распады цивилизаций
XVII. Природа распада
1. Общий обзор
Является ли распад необходимым и неизменным следствием
надлома? Египетская и дальневосточная история показывает, что существует
альтернатива, а именно «окаменение», которое также чуть не стало судьбой
эллинской цивилизации и может стать судьбой западной цивилизации. Определяющим
критерием распада является раскол в социальной системе на три части: правящее
меньшинство, внутренний пролетариат и внешний пролетариат. То, что уже было
сказано об этих частях, резюмируется, и показывается план дальнейших глав.
2. Раскол‑и‑палингенез
Апокалиптическая философия Карла Маркса заявляет о том, что
за классовой борьбой и диктатурой пролетариата последует новый общественный
строй. Кроме специфического марксистского применения данной идеи, это
фактически то, что происходит, когда общество впадает в выше отмеченный
тройственный раскол. Каждая из частей успешно выполняет характерную для нее
творческую работу: правящее меньшинство создает универсальное государство,
внутренний пролетариат – вселенскую церковь, а внешний пролетариат – варварские
военные отряды.
XVIII. Раскол в социальной системе
1. Правящее меньшинство
Хотя милитаристы и эксплуататоры более всего бросаются в
глаза среди характерных типов правящего меньшинства, существуют также и более
благородные типы: юристы и администраторы, поддерживающие универсальные
государства, и исследователи‑философы, которые наделяют общества, находящиеся в
упадке, характерной для них философией, например, длинный ряд эллинских
философов от Сократа до Плотина. Приводятся и примеры из многих других
цивилизаций.
2. Внутренний пролетариат
История эллинского общества показывает, что внутренний пролетариат
набирался из трех источников: из граждан эллинских государств, лишившихся
наследства и разоренных в результате политико‑экономических переворотов; из
завоеванных народов и из жертв работорговли. Все они являются пролетариями,
чувствуя себя «в» обществе, но не чувствуя себя его членами. Их первые реакции
были насильственными, однако за ними следуют «добрые» реакции, достигающие
своей кульминации в открытии «высших религий», таких как христианство. Эта
религия, так же как митраизм и другие ее конкуренты в эллинском мире, появилась
в одном из «цивилизованных» обществ, завоеванных эллинскими войсками.
Исследуются внутренние пролетариаты других обществ, и замечаются подобные же
явления: например, истоки иудаизма и зороастризма во внутреннем пролетариате
вавилонского общества были аналогичны истокам христианства и митраизма в
эллинском обществе, хотя по ряду причин их дальнейшее развитие было различным.
Превращение первоначальной буддийской философии в махаяну обеспечило «высшую
религию» для древнекитайского внутреннего пролетариата.
3. Внутренний пролетариат западного мира
Здесь могут быть приведены имеющиеся в избытке фактические
данные о существовании внутреннего пролетариата – среди прочего и существование
«интеллигенции», вербуемой из рядов пролетариата в качестве агента правящего
меньшинства. Обсуждаются характерные черты интеллигенции. Внутренний
пролетариат современного западного общества, тем не менее, показал себя явно
бесплодным в деле выработки новых «высших религий». Высказывается мнение, что
это вызвано непрерывающейся жизненностью христианской Церкви, из которой
родился западно‑христианский мир.
4. Внешний пролетариат
Пока цивилизация находится в процессе роста, ее культурное
влияние излучается и распространяется на ее примитивных соседей на
неопределенное расстояние. Они становятся частью «нетворческого большинства»,
которое следует примеру творческого меньшинства. Однако когда цивилизация
входит в стадию надлома, очарование перестает действовать, варвары становятся
враждебными и устанавливается военная граница, которая могла бы продвигаться
далеко вперед, но в конце концов становится постоянной. Когда достигнута эта
стадия, время начинает работать на варваров. Эти факты иллюстрируются примерами
из эллинской истории. Показываются насильственный и добрый ответы внешнего
пролетариата. Давление враждебной цивилизации превращает примитивные религии
плодородия внешнего пролетариата в религии, напоминающие религию олимпийского
«божественного военного отряда». Типичным продуктом победившего внешнего
пролетариата является эпическая поэзия.
5. Внешний пролетариат западного мира
Рассматривается его история, приводятся примеры
насильственного и доброго ответов внешнего пролетариата. Вследствие подавляющей
материальной эффективности современного западного общества варварство
исторического типа почти исчезло. В двух из оставшихся его цитаделей –
Афганистане и Саудовской Аравии – местные правители защищают себя, усваивая
подражание западной культуре. Тем не менее, новое и еще более бесчеловечное
варварство стало буйно разрастаться в древних центрах самого западно‑христианского
мира.
6. Иностранные и туземные стимулы
Правящее меньшинство и внешний пролетариат оказываются в
невыгодном положении, если они имеют иностранный стимул. Например,
универсальные государства, основанные иностранным правящим меньшинством (такие,
как Британская Индия), менее успешно принимаются, чем туземные универсальные
государства вроде Римской империи. Варварские военные отряды вызывают гораздо
более упорное и горячее сопротивление, если, подобно гиксосам в Египте и
монголам в Китае, в их варварство примешано влияние иностранной цивилизации. С
другой стороны, «высшие религии», порожденные внутренним пролетариатом, обычно
обязаны своей привлекательностью иностранному стимулу. Почти все «высшие
религии» являются иллюстрацией этого факта.
Тот факт, что историю «высшей религии» нельзя понять до тех
пор, пока в расчет не будут приняты две цивилизации – цивилизация, от которой
она получает свой стимул, и цивилизация, в которой она укоренена, – этот факт
показывает, что предположение, на котором до сих пор основывалось данное
«Исследование», – предположение о том, что цивилизации, взятые в их
отдельности, являются «умопостигаемыми полями исследования», – начинает в этом
пункте терпеть неудачу.
XIX. Раскол в душе
1. Альтернативные формы поведения, чувствования и жизни
Когда общество начинает распадаться, различные формы
поведения, чувствования и жизни, характерные для индивидов в период роста,
замещаются альтернативными заменителями, один из которых (первый в каждой паре)
пассивен, а другой (второй) – активен.
Несдержанность и самоконтроль – альтернативные заменители
творчества; труантизм и мученичество – заменители ученичества мимесиса.
Чувство самотека и чувство греха – альтернативные заменители
élan (порыва), сопровождающего процесс роста. Чувство промискуитета и
чувство единства – заменители того «чувства стиля», которое является
субъективным двойником объективного процесса дифференциации, сопровождающей
рост.
В жизненном плане существует пара альтернативных
разновидностей движения по переносу поля действия из макрокосма в микрокосм,
что лежит в основе процесса, описанного выше как процесс этерификации. Первой
паре альтернатив – архаизму и футуризму – не удалось достичь этого переноса, и
они породили насилие. Вторая пара – отрешенность и преображение – преуспела в
осуществлении переноса, и эту пару характеризует доброта. Архаизм является
попыткой «передвинуть назад стрелки часов», футуризм – попыткой найти
кратчайшее расстояние до неосуществимого «золотого века» на Земле.
Отрешенность, представляющая собой спиритуализацию архаизма, есть уход в
крепость своей души, отказ от «мира». Преображение, представляющее собой
спиритуализацию футуризма, есть действие души, которая порождает «высшие
религии». Приведены примеры всех четырех образов жизни и отношений между ними.
В заключение показано, что одни их этих форм чувствования и жизни характерны
главным образом для душ из правящего меньшинства, другие – для душ из
пролетариата.
2. Определяются «несдержанность» и самоконтроль,
приводятся примеры
3. Определяются труантизм и мученичество, приводятся
примеры
4. Чувство самотека и чувство греха
Чувство самотека вызвано ощущением того, что всем миром
управляет Случай, или Необходимость, которая, как показано, является тем же
самым. Приводится большое количество иллюстраций подобной веры. Некоторые
религии предопределения, например кальвинизм, порождают поразительную энергию и
уверенность. Рассматривается причина этого, на первый взгляд, курьезного факта.
Если чувство самотека обычно действует как снотворное
средство, то чувство греха должно действовать как стимулирующее. Обсуждаются
учения о «карме» и о «первородном грехе» (соединяющие идеи греха и
детерминизма). Еврейские пророки показывают, что классический случай познания
греха является подлинной, хотя и не очевидной причиной национальных несчастий.
Учение пророков унаследовала христианская Церковь и, таким образом, познакомила
с ним эллинский мир, который в течение многих веков неосознанно готовился к его
принятию. Западное общество, хотя и унаследовало христианскую традицию, по‑видимому,
отбросило чувство греха, которое является неотъемлемой частью данной традиции.
5. Чувство промискуитета
Это пассивный заменитель чувства стиля, характерного для
цивилизаций в пору их роста. Оно проявляется различными способами, а) Вульгарность
и варварство манер . Правящее меньшинство проявляет склонность к
«пролетаризации», усваивая вульгарность внутреннего и варварство внешнего
пролетариатов, пока на конечной стадии своего распада ее образ жизни не
становится неотличимым от их образа жизни, б) Вульгарность и варварство в
искусстве – цена, которую обычно платит распадающаяся цивилизация за
ненормально широкое распространение искусства, в) Lingue Franche.
Смешение народов приводит к путанице и соперничеству в языках. Некоторые из них
распространяются в качестве «lingue franche», и в каждом случае их
распространение влечет за собой соответствующее ухудшение качества. В качестве
иллюстрации рассматривается множество примеров, г) Синкретизм в религии.
Можно выделить три движения: слияние отдельных школ в философии; слияние
отдельных религий, например растворение религии Израиля в результате
объединения с культами соседних племен, чему воспрепятствовал окончательный
успех еврейских пророков; и слияние или синкретизм философий и религий друг с
другом. Поскольку философии являются продуктом правящего меньшинства, а «высшие
религии» – продуктом внутреннего пролетариата, взаимодействие здесь сравнимо с
тем, которое представлено выше в пункте а). Здесь, как и там, пролетарии хотя и
идут некоторым путем по направлению к правящему меньшинству, правящее
меньшинство движется на гораздо более удаленном расстоянии от внутреннего
пролетариата. Например, христианская религия использует для своей богословской
экзегезы аппарат эллинской философии, однако это небольшая уступка по сравнению
с тем превращением, которому подверглась греческая философия между временем
Платона и Юлиана, д) Cuius Regio eius Religio? Этот параграф
представляет собой отступление, которое проистекает из случая философа‑императора
Юлиана, рассмотренного в конце предыдущего параграфа. Может ли правящее
меньшинство компенсировать свою духовную слабость, используя политическую силу
для насаждения выбранной им религии или философии? За некоторыми исключениями
оно потерпит неудачу, а религия, которую попытаются поддержать силой, нанесет
себе таким образом непоправимый вред. Одним явно поразительным примером является
случай распространения ислама. Этот случай рассматривается и показывается, что
в действительности это не такое уж и исключение, как кажется на первый взгляд.
Противоположная формула – religio regionis religio regis – гораздо ближе
к истине: правитель, который из цинизма или из убеждения принимает религию
своих подданных, тем самым преуспевает.
6. Чувство единства
Это «активный» антитезис пассивному чувству промискуитета.
Материально он выражается в создании универсальных государств, и тот же самый
дух вдохновляет идеи о всемогущем законе или вездесущем божестве, наполняющем
Вселенную и управляющем ею. Две эти идеи рассматриваются и приводятся примеры.
В связи с последней идеей прослеживается «карьера» Яхве от его истоков в
качестве «джинна» – вулкана горы Синай до окончательного возвышения в качестве
исторического посредника очищенной и возвышенной идеи единого истинного Бога,
которому поклоняется христианская Церковь. Дано объяснение его победы над всеми
его соперниками.
7. Архаизм
Это попытка бегства от невыносимого настоящего путем
восстановления более ранней фазы в жизни распадающегося общества. Приведены
древние и современные примеры. Современные примеры включают в себя «готическое
возрождение» и искусственное возрождение (из националистических соображений)
ряда более или менее вышедших из употребления языков. Архаизирующее движение
обычно оказывается или бесплодным, или превращается в свою противоположность, а
именно в футуризм.
8. Футуризм
Это попытка бегства от настоящего путем прыжка во мрак
неизведанного будущего. Футуризм влечет за собой отказ от традиционных связей с
прошлым и фактически носит революционный характер. В искусстве он выражает себя
как иконоборчество.
9. Самопревосхождение футуризма
Как архаизм может упасть в пропасть футуризма, так футуризм
может подняться до высот преображения. Другими словами, он может отказаться от
безнадежной идеи обрести свою Утопию в земном плане и может искать ее в жизни
души, не связанной временем и пространством. В этой связи рассматривается история
послепленных евреев. Футуризм выражает себя в ряде самоубийственных попыток
создать иудейскую империю на Земле – от Зоровавеля до Бар‑Кохбы. Преображение
выражает себя в основании христианской религии.
10. Отрешенность и преображение
Отрешенность – это отношение, которое находит свое наиболее
бескомпромиссное и возвышенное выражение в философии, претендующей на
[адекватное] изложение учения Будды. Ее логическим итогом является
самоубийство, ибо подлинная отрешенность возможна только для божества. С другой
стороны, христианская религия свидетельствует о Боге, добровольно отказавшемся
от отрешенности, наслаждаться которой, несомненно, было в Его власти. «Ибо так
возлюбил Бог мир…».
11. Палингенез
Из четырех рассмотренных здесь образов жизни только одно преображение
указывает проезжую дорогу, и оно делает это благодаря переносу поля действия из
макрокосма в микрокосм. Это верно и по отношению к отрешенности, но если
отрешенность – это только уход, то преображение – уход‑и‑возврат: палингенез,
не в смысле возрождения еще одного представителя старого вида, но в смысле
рождения нового вида общества.
XX. Отношение между распадающимися обществами и индивидами
1. Творческий гений как спаситель
На стадии роста творческие индивиды дают успешные ответы на
следующие друг за другом вызовы. На стадии распада они выступают в качестве
спасителей распадающегося общества или спасителей от распадающегося
общества.
2. Спаситель с мечом
Это основатели или охранители универсальных государств,
однако все дела меча оказываются недолговечными.
3. Спаситель с машиной времени
Это архаисты и футуристы. Они также берутся за меч, и их
постигает судьба меченосцев.
4. Философ в маске царя
Это знаменитое средство Платона. Оно терпит неудачу по
причине несовместимости отрешенности философа и насильственных методов
политических властителей.
5. Бог, воплощенный в человеке
Различные несовершенные приближения отпадают мимоходом, и
один Иисус из Назарета побеждает смерть.
XXI. Ритм распада
Распад происходит не равномерно, но посредством чередования
спадов и оживлений. Например, основание универсального государства – это
оживление после спада «смутного времени», а распад универсального государства –
это окончательный спад. Поскольку обычно встречается одно оживление, за которым
следует спад в ходе «смутного времени», и один спад, за которым следует
оживление в ходе существования универсального государства, то обычным ритмом,
по‑видимому, будет спад – оживление – спад – оживление – спад – оживление –
спад: три с половиной такта. Приводятся примеры этой модели из истории
нескольких угасших обществ, а затем она применяется к истории западно‑христианского
мира, чтобы определить, какая стадия наступила в развитии нашего общества.
XXII. Стандартизация в процессе распада
Как дифференциация является признаком роста, так
стандартизация является признаком распада. Глава завершается указанием на
проблемы, которые откладываются для рассмотрения в последующих томах.
VI. Универсальные государства
XXIII. Цели или средства?
Подводятся итоги проведенной до настоящего времени работы и
излагаются причины продолжения дальнейшего исследования в последующих частях
универсальных государств, Вселенских церквей и варварских военных отрядов.
Можно ли рассматривать универсальное государство просто как конечную фазу
развития цивилизаций или как пролог к дальнейшему развитию?
XXIV. Мираж бессмертия
Граждане универсальных государств в большинстве случаев не
только приветствуют их установление, но и верят в то, что они бессмертны. Они
продолжают верить в это не только когда универсальное государство явно
находится на грани своего распада, но и после его исчезновения, в результате
чего этот институт появляется вновь в виде своего собственного «призрака»,
например Римская империя греко‑римского мира – в виде Священной Римской империи
в аффилированном западно‑христианском мире. Объяснение этого можно найти в том
факте, что универсальное государство отмечает оживление после «смутного
времени».
XXV. Sic vos non vobis
Институтам универсального государства в конечном итоге не
удается сохранить свою жизнь, но в то же время они служат целям других
институтов, в особенности целям высших религий внутреннего пролетариата.
1. Кондуктивность универсальных государств
Универсальное государство, устанавливая порядок и
единообразие, становится посредником высокой проводимости не только в
географическом плане между прежними отдельными локальными государствами, но
также и в социальном плане между различными классами общества.
2. Психология мира
Терпимость, которую правители универсальных государств
считают необходимой для поддержания своей собственной власти, благоприятствует
распространению высших религий, что иллюстрируется общепринятой идеей
(выраженной, например, в мильтоновской «Рождественской оде») о том, что Римская
империя промыслительным образом была установлена для того, чтобы послужить на
пользу христианской Церкви. Подобная терпимость, тем не менее, не была ни
универсальной, ни абсолютной. В то же время эта терпимость в форме
антимилитаризма окажется выгодной для агрессивных аутсайдеров – варваров и
соседних цивилизаций.
3. Эффективность имперских институтов
Коммуникации. Дороги, морские пути и их
организованное поддержание служат кроме правительства и другим; например, св.
апостол Павел пользовался римскими дорогами. Используют ли в будущем
современные высшие религии подобным же образом мировую систему коммуникаций,
созданную современной техникой? Если да, то они столкнутся с проблемой, которую
можно проиллюстрировать на примере истории христианских миссий в нехристианские
миры в прежние времена.
Гарнизоны и колонии служат целям цивилизации, равно
как и правительства, однако также вносят вклад во всесмешение и пролетаризацию,
характерные для распадающихся обществ. Стороной, извлекающей наибольшую выгоду,
являются варварские военные отряды, но высшие религии также извлекают выгоду.
Приведен пример из истории распространения ислама. Митраизм распространялся от
гарнизона к гарнизону вдоль границы Римской империи, а христианство – от
колонии к колонии; например, особое значение в ранний период истории
христианской Церкви имели Коринф и Лион – колонии, основанные римским
правительством.
Провинции. Сопоставляются политика (на примере из
истории древнекитайского универсального государства) и использование провинциальной
организации высшей религией (на примере развития христианской Церкви).
Столицы. Различные факторы влияют на их расположение.
Первоначальная столица завоевателей, основывавших универсальное государство,
могла быть не всегда пригодной. Следует обзор столиц и их перемещений.
Некоторые столицы, утратившие свое политическое значение, оставались памятны
как религиозные центры.
Государственные языки и системы письма. Проблемы, с
которыми сталкиваются правители универсальных государств при выборе официальных
языков, и их различные решения. Распространенность некоторых языков, например
арамейского и латинского, далеко превзошла во времени и в пространстве границы
империй, в которых они первоначально преобладали.
Право. Здесь правители универсальных государств вновь
весьма сильно отличаются друг от друга в той степени, в которой они навязывают
свои собственные системы своим подданным. Законодательные системы универсальных
государств были использованы теми общинами, для которых они не были
предназначены; например, использование римского права мусульманами и
христианской Церковью и использование законов Хаммурапи авторами Моисеева
законодательства.
Календари; меры и весы; деньги. Проблемы составления
календарей и тесная связь календарей с религией. Наши методы измерения времени
все еще остаются частично римскими, а частично шумерскими, и Французской
революции не удалось революционизировать их. Меры и весы: сражение десятеричной
и двенадцатеричной систем. Деньги: их значение и возникновение в греческих
городах; их последующее распространение в результате поглощения этих городов
Лидийской и Ахеменидской империями. Бумажные деньги в древнекитайском мире.
Регулярная армия. Римская армия – источник
вдохновения христианской Церкви.
Государственные службы. Проблемы государственной
службы иллюстрируются сравнениями политики Августа, Петра Великого и Британской
империи в Индии. Этос государственной службы в Древнем Китае и Британской
Индии. Римская государственная служба воспитала трех великих церковных
основателей западно‑христианского мира.
Гражданство. Расширение возможности получить
гражданство – привилегия, присваиваемая правителями универсальных государств.
Она помогает создать равноправные условия, в которых процветают высшие религии.
VII. Вселенские церкви
XXVI. Альтернативные концепции отношения Вселенских церквей
к цивилизациям
1. Церковь как раковая опухоль
Поскольку церкви вырастают в распадающихся социальных
системах универсальных государств, они естественным образом рассматриваются как
раковые опухоли – как современными им оппонентами, так и школой новейших
историков. Религии стремятся скорее оживить, нежели уничтожить чувство
общественного долга в своих сторонниках.
2. Церковь как куколка
Каждая из живущих ныне цивилизаций третьего поколения имела
в своем основании церковь, через которую она связана дочерними отношениями с
цивилизацией второго поколения. Анализируется, скольким обязана современная
западная цивилизация христианской Церкви. В противоположность этим
цивилизациям, цивилизации второго поколения были связаны со своими
предшественницами другой связью, и этот факт наводит на мысль о пересмотре
принятого нами до сих пор плана хода истории.
3. Церковь как высший вид общества
а) Новая классификация
Подъемы и падения цивилизаций сравниваются с оборотами
колеса, целью которого является передвижение вперед колесницы Религии. Шаги в
религиозном прогрессе, представленном именами Авраама, Моисея, древнееврейских
пророков и Христа, можно рассматривать как соответствующие продукты распада
шумерского, египетского, вавилонского и эллинского обществ. Обеспечит ли
грядущая унификация сегодняшнего мира перспективу дальнейшего развития? Если
да, то ныне существующим высшим религиям придется выучить трудный урок.
б) Значение прошлого церквей
Допущение того, что известные до сих пор факты о церквях
делают их непригодными для исполнения предназначенной им роли.
в) Конфликт между сердцем и разумом
Воздействие современной науки на религию было далеко не
первым конфликтом подобного рода. Конфликт между ранней христианской Церковью и
эллинской философией закончился компромиссом, в котором философы приняли
«Истину» христианского Откровения, предусмотрев, чтобы это Откровение было
выражено на языке философов. Эти поношенные эллинские одежды с тех пор стали
источником смущений, вовлекавших христианскую Церковь во множество
нерелигиозных проигранных дел, которые не имели никакого отношения к
христианству. Религия должна уступить науке все области интеллектуального
знания, в которых наука может установить свое правление. Религия и наука имеют
дело с различными родами истины, и современная психология подсознательного
проливает основательный свет на природу этого различия.
г) Перспективы церквей на будущее
Отличительной чертой церквей является то, что все они имеют
в качестве своего члена единого истинного Бога. Это отличает их от всех других
типов обществ. Разъясняются последствия этого отличия.
XXVII. Роль цивилизаций в жизни церквей
1. Цивилизация как увертюра
Исследование словаря специальных терминов, которые
христианская Церковь унаследовала от эллинской цивилизации и которым придала
новое значение, является примером «этерификации» и наводит на мысль о том, что
эллинская цивилизация послужила увертюрой к христианству.
2. Цивилизация как регресс
Последующий упадок тех же самых специальных терминов, когда
они были унаследованы и использовались в светском значении западным обществом,
которое возникло из христианской Церкви и освободилось от нее.
XXVIII. Вызов воинственности на земле
Отрыв аффилированной цивилизации от церкви вызван неверными
шагами со стороны церкви, а они являются неизбежным следствием воплощения духа
религии в церковном институте в целях «воинственности на земле». Отмечены три
типа неверных шагов: а) политический империализм является обоснованной
причиной, чтобы вызвать обиду со стороны светских властей как вмешательство в
сферу исполнения их собственных обязанностей; б) экономический успех, который
неизбежно приводит к выполнению хозяйственных обязанностей «от души, как для
Господа, а не как для человеков»{170}; в) идолизация церковью своей
корпоративной системы.
Может ли религия обещать «золотой век» в конце путешествия?
В мире ином – возможно, однако не в этом. Первородный грех представляет собой
непреодолимое обстоятельство. Этот мир является провинцией Царства Божия,
однако это взбунтовавшаяся провинция, и таковой она неизбежно останется
навсегда.
VIII. Героические века
XXIX. Ход трагедии
1. Социальное заграждение
Героический век является социальным и психологическим
следствием кристаллизации limes, или военной границы, между
универсальным государством распадающейся цивилизации и обитающими по ту сторону
границы варварами. Ее можно сравнить с заграждением или дамбой поперек долины,
создающей резервуар за собой. Вытекающие из данного сравнения смыслы подробно
рассматриваются в этом и следующем параграфах главы.
2. Накопление давлений
Давление на limes, или заграждение, усиливается по
мере того, как приграничные варвары усваивают военную технику цивилизации, против
которой они выступают. Стражи цивилизации оказываются вынужденными нанимать
самих варваров, и эти наемники восстают против нанимателей и наносят удар в
самое сердце империи.
3. Катаклизм и его последствия
Победившие варвары неизбежно губят свой собственный успех,
будучи всецело неспособными справиться с тем кризисом, который они породили.
Тем не менее в своей агонии они дают рождение героическим легендам и идеалам
поведения – таким, какие выражены в гомеровских Aidôs и Nemesis и
в омейядском Hilm. Героический век беспорядка заканчивается поразительно
неожиданно, и за ним следует «темный век», в котором силы закона и порядка
постепенно вновь утверждаются. «Междуцарствие» заканчивается, и начинается
новая цивилизация.
4. Фантазии и реальность
Гесиодовская странная схема «веков» – золотого, серебряного,
бронзового и железного, – в которой «век героев» вставлен между бронзовым и
железным веками. «Век героев» фактически является бронзовым веком, описанным
еще раз не на языке исторических фактов, а гомеровской фантазии. Волшебство
эпической поэзии, порожденное победившим варварством, ввело в заблуждение
Гесиода, поэта последующего «темного века». Оно также ввело в заблуждение,
например, предшественников Третьего рейха, прославлявших «белокурых бестий»
«нордического» варварства. Однако варвары служили связью, посредством которой
цивилизации второго поколения, породившие высшие религии, вошли в дочерние
отношения с цивилизациями первого поколения.
Примечание: «Чудовищное правление женщин»
Объяснение того, как демонические женщины начали играть
столь заметную роль в трагедиях героических веков – не только в легендах, но и
в действительности.
IX. Контакты между цивилизациями в пространстве
XXX. Расширение поля исследования
Цивилизации, которые можно изучать адекватно в отдельности
друг от друга на фазах их возникновения, роста и надлома, перестают быть
умопостигаемыми полями исследования в своей финальной фазе распада. Теперь надо
изучить их контакты в этой фазе.
Некоторые географические области – Сирия и бассейн Окса‑Яксарта
– сыграли выдающуюся роль в истории этих контактов, и неслучайно, что эти же
самые области и их непосредственные окрестности включат в себя также места
рождения высших религий.
XXXI. Обзор столкновений между современными цивилизациями
1. План действий
Мы намереваемся начать с исследования столкновений между
Западом Нового времени и всеми другими современными ему цивилизациями. Новый
период в истории западного общества можно датировать двумя событиями, одно из
которых произошло перед самым концом XV в. н. э., а другое – после самого
начала XVI в. Первым событием было овладение техникой океанского мореплавания,
вторым – распад «средневекового» западно‑христианского содружества, собранного
и сплоченного папской властью. «Реформация», конечно же, была лишь стадией в
длительном процессе эволюции, который начался еще в XIII в. и еще не завершился
в XVII в. Однако сама «Реформация» застигла то самое поколение, которое явилось
свидетелем путешествий Колумба и Васко да Гамы. Мы сделаем следующий шаг назад
и исследуем контакты Запада в его «средневековой» фазе с двумя конкурирующими
обществами, с которыми он имел столкновение, а затем – контакты эллинского
общества, включая беглый обзор некоторых более ранних контактов того же
порядка.
Рассматривая контакты Запада Нового времени, мы обнаружим,
что эти главы истории, хотя и известны нам сейчас до деталей, в большинстве
своем (а возможно, и все) являются незавершенными, и останавливаемся на знаке
вопроса.
2. Действия по плану
а) Столкновения с современной западной цивилизацией
i) Современный Запад и Россия. Первоначальные
наследственные земли русского православно‑христианского мира претерпевали
нападения и завоевания со стороны западного локального государства Польши‑Литвы
начиная с XIV в. – потери не были полностью возвращены вплоть до 1945 г.
Излучение западной культуры получило гостеприимный («иродианский») ответ со
стороны Петра Великого, однако после двух веков вестернизации на условиях,
одобренных самим Западом, петровский режим подвергся испытанию, оказался
вынужденным отвечать на вызов Первой мировой войны и был вытеснен еретическим
вестернизированным режимом коммунизма.
ii) Современный Запад и основной ствол православного
христианства. В это общество, которое в политическом отношении было
скреплено правлением чуждого универсального государства – Оттоманской империи,
западная культура Нового времени проникала не сверху вниз, как в России, а
снизу вверх, начиная с XVII в. Это могло привести к вестернизации империи
падишахов под влиянием греков‑фанариотов. К несчастью, националистические
движения возобладали и привели к распаду империи на локальные государства.
России не удалось стать лидером этих народов ни на всеправославных, ни на
панславистских основаниях, хотя русский панкоммунистический режим и навязан
теперь некоторым из них.
iii) Современный Запад и индусский мир. Здесь Запад
навязывал себя в форме чуждого универсального государства, заменив им другое
чуждое универсальное государство – мусульманскую империю Великих Моголов,
которая уже прекратила свое существование. Британская империя использовала
индийскую элиту точно так же, как оттоманский падишах использовал восточно‑православную
элиту. Индийской элите в конце концов удалось (в отличие от фанариотов) индианизировать
империю, сохранив ее в нетронутом виде, за исключением отделившегося Пакистана.
Обсуждаются сильные и слабые места государственной службы в Британской Индии, и
показывается проблема перенаселенности как туча на горизонте будущей Индии.
iv) Современный Запад и исламский мир. В начале
периода западного Нового времени два сестринских исламских общества – арабское
и иранское – отделили все сухопутные пути доступа к другим частям мира от
владений западного и русского обществ, однако должна была последовать
неожиданная перемена судьбы в ущерб исламу. Со времени этой перемены в
политическом равновесии правители множества мусульманских государств следовали
петровскому «иродианству» с различной степенью успеха. Исламский мир включает в
себя родину трех из четырех первичных цивилизаций Старого света, и природное
сельскохозяйственное богатство этих областей теперь увеличилось благодаря
открытию того, что они богаты нефтью. Вследствие этого они стали «виноградником
Навуфея»{171} XX в., в котором Запад и Россия вступили в конфликт.
v) Современный Запад и евреи. Еврейская диаспора не
приспособилась к западной системе однородных территориальных государств. В
историческом обзоре, открывающемся не началом Нового времени западной истории,
а началом самого западно‑христианского общества, можно отметить три фазы. В
первой фазе (например, в истории Вестготии) евреи, хотя были непопулярны и с
ними обращались плохо, оказались полезны, поскольку в эту эпоху западные
христиане были (как Сесил Роде сказал об оксфордских преподавателях) «детьми в
финансовых вопросах». В следующей фазе западные христиане научились «сами
становиться евреями», и евреи были изгнаны (например, из Англии в 1291 г.). В
третьей фазе западное общество было уже достаточно компетентно в финансовых
вопросах, чтобы позволить евреям вернуться обратно (например, в Англию в 1655
г.) и приветствовать их опыт в бизнесе. Либеральная эпоха, которая последовала
за этим, к несчастью, не была концом этой истории. Параграф завершается
исследованием антисемитизма и сионизма.
vi) Современный Запад, дальневосточная цивилизация и
туземные цивилизации Америки. Эти цивилизации не имели предшествующих
контактов с Западом до того, как он предстал им в фазе своего Нового времени.
По всей видимости (хотя эта видимость, быть может, обманчива), американские
цивилизации были полностью уничтожены. История воздействия современного Запада
на Китай и Японию являет собою любопытную параллель. В обоих случаях имеет
место принятие западной культуры в ее религиозной форме периода раннего Нового
времени, после чего следует отказ. Позже происходит воздействие западной
технологии периода позднего Нового времени. Отличия между двумя историями в
значительной степени объясняются тем фактом, что Китай – обширная, широко
раскинувшаяся империя, а Япония – плотно соединенное островное общество. Оба
общества ко времени написания находились в фазе затмения: Китай – под
коммунистическим, а Япония – под американским контролем. Оба, подобно Индии,
столкнулись с проблемой перенаселенности.
vii) Характерные черты столкновений между Западом Нового
времени и современными ему цивилизациями. «Современная западная»
цивилизация – это цивилизация «среднего класса». Те неевропейские общества,
которые развили свой средний класс, приветствуют современный западный этос. Если
правитель неевропейской цивилизации, не имеющей местного среднего класса,
желает «вестернизировать» свою цивилизацию, то он должен создать искусственным
образом средний класс в своих целях в форме интеллигенции. Эти интеллигенции в
конечном итоге обращаются против своих хозяев.
б) Столкновения со средневековым западно‑христианским
миром
i) Прилив и отлив крестовых походов. Средневековый
западно‑христианский мир вступил в период экспансии в XI в., за которым спустя
два столетия последовал период разрушения и отхода на некоторых границах, хотя
не на всех. Анализируются причины этой экспансии и последующего отступления.
ii) Средневековый Запад и сирийский мир. Крестоносцы
и их мусульманские противники имели много общего. Норманнские «франки» и турки‑сельджуки
являлись бывшими варварами, недавно обращенными в высшую религию общества, в
которое они вступили и в котором во многих отношениях господствовали.
Культурное излучение сирийской цивилизации на менее развитое западно‑христианское
общество затронуло поэзию, архитектуру, философию и науку.
iii) Средневековый Запад и греческий православно‑христианский
мир. Между двумя этими христианскими общества была гораздо большая
антипатия, чем между каждой из них и ее мусульманскими соседями. Эта взаимная
антипатия иллюстрируется цитатами, с одной стороны, из отчета ломбардского
епископа Лиутпранда о его миссии в Константинополь, а с другой стороны, – из
изображения крестоносцев в «Истории» Анны Комнины.
в) Столкновения между цивилизациями первых двух поколений
i) Столкновения с эллинской цивилизацией после Александра
Македонского. Эллинская цивилизация в этой фазе имела столкновения со всеми
современными ей цивилизациями в Старом Свете, и результаты последующего
эллинского излучения не истощились и не закончились до тех пор, пока несколько
столетий спустя само эллинское общество не вступило в фазу распада. Эллинская
культура распространилась далеко за пределы завоеванных эллинскими армиями
земель, например в древнекитайский мир.
Деятельность Александра Македонского отмечает экспансию в
эллинской истории, сравнимую с завоеванием океана в истории западно‑христианского
мира. Однако если Запад в фазе своего Нового времени освобождался от своей
куколки‑религии – христианства, то эллинская цивилизация, не имея такой
религиозной куколки, все больше и больше испытывала религиозный голод.
ii) Столкновения с эллинской цивилизацией до Александра
Македонского. Конфликт между тремя противниками за господство в
Средиземноморском бассейне, в котором конкурентами доалександровского эллинского
общества выступали сирийское общество и окаменевший остаток хеттского общества,
а именно этруски. Сирийское общество проявило себя одновременно и как
финикийская морская держава, и – на более поздних стадиях этой истории – как
империя Ахеменидов. Наиболее важным культурным завоеванием греков в этот период
явилась эллинизация Рима, которая была достигнута косвенным путем через
предшествующую эллинизацию этрусков.
iii) Плевелы и пшеница. Единственным плодотворным
результатом столкновений между цивилизациями являются мирные произведения.
Следует обзор контактов между цивилизациями первого поколения – индской и
древнекитайской, египетской и шумерской.
XXXII. Драма столкновений между современными друг другу
цивилизациями
1. Сцепление столкновений
На военном уровне вызов, идущий от одной стороны, ведет к
вызову с другой стороны, а этот после восстановления равновесия переходит в
контрнаступление и провоцирует, в свою очередь, ответ. Прослеживается цепь
подобных столкновений между «Востоком» и «Западом», начиная с нападения империи
Ахеменидов на Грецию и вплоть до реакций неевропейских народов против западного
империализма в XX в.
2. Разнообразие ответов
Военный ответ не является единственно возможным. Коммунистическая
Россия укрепляет свое вооружение идеологической борьбой. Там, где военный ответ
оказался невозможен или был предпринят, но потерпел неудачу, некоторые
завоеванные народы реагируют, сохраняя свою идентичность в качестве общин,
путем интенсивного культивирования своей религии. Классическим примером
подобного ответа является ответ евреев со времени их рассеяния. Высочайшим
ответом является создание высшей религии, которая со временем захватывает в
плен завоевателей.
XXXIII. Последствия столкновений между современными друг
другу цивилизациями
1. Последствия неудачных нападений
Результатом успешного отражения нападения может стать
милитаризация победителя, которая в конечном итоге приводит к гибельным
результатам. Таким образом, победа над ахеменидским захватчиком привела за
каких‑то 50 лет к надлому эллинской цивилизации.
2. Последствия успешных нападений
а) Воздействие на социальную систему. Социальной
ценой, которую цивилизации приходится платить за успешное нападение, является
просачивание культуры ее иностранных жертв в течение ее собственной жизни.
Воздействие на жертв нападения – того же порядка, но гораздо сложнее. Введение
западных идеалов и институтов в неевропейские общества часто порождает
различные расстройства, поскольку «что полезно одному, то другому вредно».
Попытка ввести один элемент чуждой культуры, в то же время исключая остальные,
обречена на поражение.
б) Ответы души
i) Дегуманизация. Успешно нападающая сторона
становится жертвой высокомерия и рассматривает завоеванных как «неудачников».
Таким образом, братство людей отрицается. Когда «неудачник» рассматривается как
«язычник», он может восстановить человеческий статус благодаря обращению в
веру; когда он рассматривается как «варвар», то он может восстановить
человеческий статус, сдав экзамены; но когда он рассматривается как «туземец»,
то он не имеет надежды, если только его хозяин не погибнет или не обратится.
ii) Зелотство и иродианство. Эти понятия
подразумевают четкое разграничение между отрицанием и принятием этоса завоевателя,
но более близкая проверка наводит на мысль о том, что разграничение не такое
четкое, как могло показаться на первый взгляд. Это положение иллюстрируется
рассмотрением современной Японии и деятельностью Ганди и Ленина.
iii) Евангелизм. Самозащита первоначальных зелотов и
иродиан сравнивается с достижением св. апостола Павла.
Примечание: «Азия» и «Европа»: факты и фантазии
«Азия» и «Европа» возникли как названия противоположных
берегов материка, с которыми в своих путешествиях из Эгейского в Черное море
сталкивались эллинские мореплаватели. Приписывание какого‑то политического и
культурного значения этим понятиям ни к чему, кроме путаницы, не приводило.
«Европа» – это субконтинент с весьма неопределенной границей континента
«Евразия».
X. Контакты между цивилизациями во времени
XXXIV. Обзор ренессансов
1. Вступление: «ренессанс»
Устанавливается происхождение термина «ренессанс» и
объясняется то его значение, которое употребляется в данном «Исследовании».
2. Ренессансы политических идей и институтов
Итальянский позднесредневековый ренессанс начался раньше и
оказал более продолжительное влияние в политическом плане, чем в литературном
или художественном. Города‑государства; светские монархии; Священная Римская
империя. Церковная коронация – возрождение ветхозаветного обряда.
3. Ренессансы правовых систем
Возрождение римского права в восточном православно‑христианском
мире и в западно‑христианском мире и последствия того и другого для Церкви и
государства.
4. Ренессансы философских систем
Возрождение древнекитайской конфуцианской философии в
дальневосточном обществе в Китае и эллинской аристотелевской философии в
средневековом западно‑христианском мире было аналогично в нескольких
отношениях. Первая сохранялась до тех пор, пока не была побеждена вторгшимся в
начале XX в. западным это‑сом Нового времени. Последняя была поколеблена
ренессансом эллинской литературы XV в. и окончательно побеждена «бэконовским»
научным движением XVII в.
5. Ренессансы языка и литературы
Выдающаяся роль была сыграна династическими правителями в
начинании ренессансов в этой области, например громадные библиотеки, собранные
некоторыми китайскими императорами. Итальянский ренессанс эллинского языка и
литературы имел неудачного предшественника в «Каролингском возрождении»,
которое, в свою очередь, уходит корнями к ренессансу в Нортумбрии. Ренессансы
не могут достичь успеха до тех пор, пока общество, пытающееся вызвать «призрак»
умершей цивилизации, само не достигнет соответствующей стадии развития для
совершения акта некромантии.
6. Ренессансы изобразительных искусств
Приводится множество примеров, за исключением западного
примера, широко известного как «Ренессанс». Прослеживается ход этого последнего
в области архитектуры, скульптуры и живописи. Во всех трех областях конечным
результатом явилась потеря оригинальности.
7. Ренессансы религиозных идеалов и институтов
Рассматриваются презрительное отношение иудаизма к своей
удачливой христианской боковой ветви и тревожное двойственное отношение
христианской Церкви к иудейским идеалам монотеизма и аниконизма. Субботничество
и буквализм в истолковании Библии протестантского движения начиная с XVI в.
являют собой яркий пример мощного и популярного ренессанса иудаизма среди
западно‑христианской паствы.
XI. Закон и свобода в истории
XXXV. Постановка проблемы
1. Значение слова «закон»
«Закон Природы» отличается от «закона Бога».
2. Антиномизм современных западных историков
Представление о том, что история раскрывает действие
Божественного Провидения, сохранявшееся со времен Боссюэ, с тех пор было
дискредитировано. Однако ученые, чей «закон Природы» заменил «закон Бога» в
большинстве областей исследования, почувствовали себя вынужденными оставить
Историю в состоянии отсутствия законов там, где за чем угодно могло бы
последовать что угодно, как в точке зрения Г. А. Л. Фишера.
XXXVI. Подверженность человеческой деятельности «законам
Природы»
1. Обзор фактических данных
а) Частные дела индивидуумов. Страховые компании
рассчитывают на поддающуюся вычислению регулярность в человеческих делах.
б) Производственные дела современного западного общества.
Экономисты оказываются способны вычислить длину волны экономических циклов.
в) Соперничество национальных государств: «политическое
равновесие». Явная регулярность циклов войны и мира в истории нескольких
цивилизаций.
г) Распады цивилизаций. Регулярность в чередованиях
«разгромов‑оживлений» с примерными объяснениями.
д) Рост цивилизаций. Регулярность, прослеживаемая в
фазах надлома и распада, здесь отсутствует.
е) «Нет доспехов против Судьбы». Даны дальнейшие
иллюстрации той настойчивости, с которой тенденция, мешающая сначала в одном
месте, а затем в другом, в конечном итоге иногда преодолевается.
2. Возможные объяснения действия «законов Природы» в
истории
Единообразие, которое мы различили, возможно, вызвано
работой или законов, действующих в нечеловеческом окружении человека, или
законов, присущих психической структуре самого человека. Рассматриваются эти
альтернативы, и обнаруживается, что зависимость человека от законов
нечеловеческой Природы ослабевает по мере человеческого прогресса в технике.
Обнаруживается, что большое значение имеет последовательность человеческих
поколений, три поколения – это время, за которое в складе ума происходит
несколько видов изменений. Следующими в качестве фактора, влияющего на ход
истории, рассматриваются законы подсознательной души, которые психологи ко
времени написания только начали открывать.
3. Являются ли законы Природы, действующие в истории,
неумолимыми или поддаются контролю?
Что касается законов нечеловеческой Природы, то человек не
может изменить их, но может использовать их в своих целях. Что касается
законов, влияющих на саму человеческую природу, то здесь требуется более
осторожный ответ. Результат будет зависеть от отношений человека не просто со
своими собратьями и с самим собой, но прежде всего – с Богом, своим Спасителем.
XXXVII. Неподчинение человеческой природы законам Природы
Это неподчинение иллюстрируется множеством примеров «вызова
и ответа». Поставленный перед вызовом человек волен в определенных границах
изменять скорость изменения.
XXXVIII. Закон Бога
Человек живет не по одному только закону Природы, но также и
по закону Бога, которым является совершенная свобода. Исследуются
противоположные точки зрения на природу Бога и Его закон.
XII. Перспективы западной цивилизации
XXXIX. Необходимость данного исследования
Последующее исследование отмечает отход от принятой и до сих
пор отстаивавшейся на протяжении данного «Исследования» точки зрения,
рассматривавшей все известные истории цивилизации синоптически. Отход оправдан
теми фактами, что западное общество является единственным сохранившимся
обществом, которое явно не находится в стадии распада, что во многих отношениях
оно стало всемирным и что его перспективы – это фактически перспективы «вестернизированного
мира».
XL. Неубедительность априорных ответов
Нет причины предполагать, исходя из псевдонаучных принципов,
что поскольку все цивилизации погибли или гибнут, то Запад обязательно
последует по тому же пути. Эмоциональные реакции, такие как «викторианский»
оптимизм и «шпенглерианский» пессимизм, в равной степени лишены обоснованности
как доказательства.
XLI. Доказательства истории цивилизаций
1. Западный опыт, имеющий незападные прецеденты
Что проясняет наше предшествующее исследование надломов и
распадов в нынешней нашей проблеме? Мы отмечали, что война и милитаризм
являются наиболее мощной причиной надлома общества. Запад до сих пор безуспешно
боролся с этой болезнью. С другой стороны, он достиг беспрецедентных успехов в
других направлениях: например, отмена рабства, рост демократии и образования.
Запад теперь также демонстрирует угрожающее разделение на правящее меньшинство
и внутренний и внешний пролетариаты. С другой стороны, были достигнуты
некоторые замечательные успехи в решении проблем, связанных с разнородностью
внутренних пролетариатов в вестернизированном мире.
2. Беспрецедентный западный опыт
Господство человека над нечеловеческой природой и
возрастающая скорость социальных изменений не имеют аналогов в историях прежних
цивилизаций. Излагается план последующих глав.
XLII. Технология, война и правительство
1. Перспективы Третьей мировой войны
Характерные черты Соединенных Штатов Америки и Советского
Союза и отношение оставшейся части человеческого рода к каждому из них.
2. На пути к будущему мировому порядку
Перспективы человеческого рода сравнимы с плотом Хейердала
«Кон‑Тики», подходящим к рифу. Будущий мировой порядок неизбежно был бы чем‑то
совершенно отличным от нынешней Организации Объединенных Наций. Обсуждается
пригодность американской нации в качестве лидера.
XLIII. Технология, классовая борьба и занятость
1. Природа проблемы
Победы современной технологии привели к беспрецедентному
требованию «свободы от нужды». Однако готово ли человечество заплатить за
удовлетворение этого требования?
2. Механизация и частное предпринимательство
Современная технология влечет за собой механизацию или регламентацию
не только работников физического труда, но также и их работодателей
(национализация и т. д.), государственных служащих («бюрократизм») и политиков
(партийная дисциплина). Органы сопротивления рабочего класса (профсоюзы)
требуют дальнейшей регламентации. С другой стороны, творцы промышленной
революции произошли из нерегламентированного общества.
3. Альтернативные подходы к социальной гармонии
Анализируются и сравниваются американский, русский и
западноевропейский, в особенности британский, подходы.
4. Возможная цена социальной справедливости
Социальная жизнь невозможна без некоторой меры как личной
свободы, так и социальной справедливости. Технология нарушает равновесие в
пользу последней. Какими ввек, когда уровень смертности снизился благодаря
профилактической медицине, будут последствия бесконтрольной «личной свободы» в
области размножения человеческого рода? Обсуждаются перспективы предстоящего
великого голода и конфликты, которые он, по‑видимому, вызовет.
5. Жили счастливо с тех пор?
Если предположить, что мировое сообщество найдет успешное
решение всех этих проблем, сможет ли человеческий род «жить счастливо с тех
пор»? Нет, поскольку «первородный грех» порождается вновь в каждом ребенке,
который приходит в мир.
XIII. Заключение
XLIV. Как была написана эта книга
Автор, родившийся в эпоху поздневикторианского оптимизма и
столкнувшийся с Первой мировой войной, будучи еще молодым мужчиной, был
потрясен параллелями между опытом его собственного общества, выпавшим на время
его жизни, и опытом эллинского общества, исследование которого стало основой
его образования. Это поставило в его сознании такие вопросы: почему цивилизации
умирают? Уготована ли и современному Западу судьба эллинской цивилизации?
Впоследствии его исследования распространились и на надломы и распады других
известных цивилизаций в качестве данных, проливающих дополнительный свет на его
вопросы. В конце концов он приступил к изучению стадий возникновения и роста
цивилизаций, и таким образом было написано это «Исследование истории».
Ссылки
1
Macaulay Т. В. Essay on «History».
2
Фукидид. История, III, 82.
3
Burkitt F.C. Jewish and Christian Apocalypses.
London, 1914. P. 12.
4
Пс. 136,5‑6.
5
Пс. 136, 1.
6
Дан. 5, 28.
7
Stcherbatsky Th. The Chonception of Buddhist Nirvana.
1927. P. 36.
8
Мф. 5, 5.
9
Ин. 3. 4‑5.
10
Мф. 5, 15.
11
См.: «The Times», 14th August 1936; Hides J.
G. Papuan Wonderland. London; Glasgow, 1936.
12
Блаженный Августин. О граде Божием, I, 7.
13
Павел Орозий. История против язычников, VII, 43.
14
Lewis С. S. A Preface to Paradise Lost. P. 22.
15
Meredith G. Love's Grave.
16
Inge W. R. The Idea of Progress. Oxford, 1920. P. 13.
17
Исх. 1, 8.
18
Пс. 136,1.
19
Murray G. Satanism and the World Order/ /Essays and
Addresses. London, 1921. P. 203.
20
Шекспир. Юлий Цезарь. Акт V, сцена 5 (пер. М.
Зенкевича).
21
Мф. 16, 23.
22
Марк Аврелий. «Наедине с собой», IV, 23.
23
Лк. 17,20‑21.
24
Вордсворт У. Строки, написанные во время путешествия
неподалеку от Тинтернского аббатства на берегу реки Уай, 13 июля 1798 г. (пер.
М. Фроловского).
25
Ср.: Платон. Политик, 272d6 – 273е4.
26
Гораций. Оды, I, 35 («О diva gratum quae regis
Antium…»).
27
The Manchester Guardian, 13th July, 1936.
28
Waley A. The Way and its Power. 1934. P. 30.
29
Дао дэ цзин, § 34 (пер. Ян Хин‑шуна).
30
Tawney R. H. Religion and the Rise of Capitalism. New
York, 1930. P. 129.
31
Op. cit. Р. 112.
32
Inge W. R. The Idea of Progress. Oxford, 1920. P. 8‑9.
33
Вергилий. Энеида, V, 231.
34
Фицджеральд Э. Рубайат Омара Хайама, 69 (пер. О.
Румера) // Омар Хайам. Рубаи. М., 1999.
35
Платон. Государство, 364Ь – 365а.
36
Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской
империи. Т. I. СПб., 1997. С. 173.
37
Dili S. Society in the Last Century of the Western
Empire. London; New York. 1898. P. 291.
38
Turner F. J. The Frontier in American History. New
York, 1921. P. 3‑4.
39
Rycaut P. The Present State of the Ottoman Empire.
London, 1688. P. 18.
40
Деян. 2, 1‑13.
41
More P. E. Christ the Word: The Greek Tradition from
the Death of Socrates to the Council of Chalcedon. Vol. IV. Princeton, 1927. P.
298.
42
More P. E. Christ the Word. P. 6‑7.
43
Гораций. Оды, III, 1 (пер. Н. С. Гинцбурга).
44
Лк. 14,23.
45
Jung С. G. Modern Man in Search of a Soul. London,
1933. P. 243‑244.
46
Полибий. Всеобщая история, VI, 56.
47
Baynes N. H. Constantine the Great and the Christian
Church. London, 1931. P. 4.
48
Smith V.A.
Akbar, the Great Mogul. Oxford, 1917. P. 210.
49
Waley A. The Way and its Power. Introduction. 1934.
P. 69‑70.
50
Геродот. История, III, 38. Цитата из Пиндара.
51
Дан. 7,9‑10.
52
Исх. 20, 3.
53
Втор. 5, 26.
54
Squire J. С. Books in General. London, 1922. P. 246.
Эта книга содержит рецензию на книгу «С. L. D.».
55
Warde‑Fowler W. The Religious Experience of the Roman
People. London, 1911. P. 428‑429.
56
Bevan E. Jerusalem under the High Priests. London,
1904. P. 158, 162.
57
Бхагаватгита. Книга о Бхишме. СПб., 1994.
58
Эпиктет. Беседы, III, 24, 85‑88. Пер. Г. А. Тароняна.
59
Сенека. О милости, II, 5, 4‑5.
60
1 Кор. 1,27.
61
1 Кор. 1,22‑23.
62
Ин. 3,16.
63
Sevan E. R. Stoics and Sceptics. London, 1913. P. 69 ‑70.
64
Ис. 45, 1‑3.
65
Ин. 18,37.
66
Аллюзия на образ, неоднократно встречающийся в Библии (Пс.
117,22; Мф.21,42;Ак. 12, 10; Лк. 20, 17; Лк. 4, 11; I Петр. 2, 7).
67
Ин. 3, 3.
68
Ин. 10, 10.
69
Мф. 26, 52.
70
Руссо Ж.‑Ж. Об общественном договоре. М., 1938. С. 3.
71
Платон. Государство, 473d.
72
Plutarch. De Stoicorum Repugnantiis, 2, 20.
73
Платон. Государство, 502b.
74
Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. С. 317.
75
Пс. 3,9.
76
Ис. 53,2.
77
Ис. 53,5.
78
Платон. Письма, VII, 341 c‑d.
79
Антипатр Сидонский. Орфей (пер. Ю. Шульца)/
/Древнегреческая элегия. СПб., 1996. С. 286.
80
Ин. 3, 16.
81
Shelly Р. В. Adonais, LII.
82
Ис. 53, 10‑11.
83
Browning R. A Grammarian's Funeral.
84
Гёте И. В. Фауст: Драматическая поэма / Пер. с нем.
Б. Пастернака. М., 1993. С. 37.
85
Aristeides, P. Aelius. In Romam.
86
Toynbee А. У. The Legacy of Greece. Oxford, 1922. P.
320.
87
Sansom G. В. Japan: a Short Cultural History. London,
1932. P. 460‑462.
88
Haring С. H. The Spanish Empire in America. New York,
1947. P. 160, 159.
89
Исх. 34, 17‑26 и в более полном изложении – Исх.
20, 23‑22, 33.
90
Thompson J. M. The French Revolution. Oxford, 1943.
P. IX.
91
Fitzgerald С. P. China; a Short Cultural History.
London, 1935. P. 164‑165.
92
Мк. 12, 13‑17. Ср.: Мф. 22, 15‑21; Лк. 20, 20‑25.
93
Исх. 20,4‑5.
94
Дан. 11,31 и 12, 11.
95
Мк. 13, 14.
96
Toynbee J. М. С. Roman Medallions. New York, 1944. P.
15.
97
Мф. 11,30.
98
Hammond J. L. and Barbara. The Rise of Modern
Industry. London, 1925. P. 256‑257.
99
Рутилий Намациан. Возвращение на родину, I, 439‑456
(пер. О. Смыки).
100
Там же. 1, 515‑526.
101
Мф. 22, 37‑39.
102
Dawes E., Baynes N. Н. Three Byzantine Saints.
Oxford, 1948. P. 197‑198.
103
Burkitt F. С. Early Eastern Christianity. London,
1904. P. 210‑211.
104
Maucolay, Lord. «History», in Miscellaneous Wntings.
London, 1860. 2 vols. Vol I. P. 267.
105
Комментарий, данный автору г‑ном Мартином Уайтом и
напечатанный в книге: A Study of History. Vol. VII. P. 457.
106
Skinner M. Letters to Malaya III‑IV. London, 1943. P.
41‑43.
107
Ambrose. De Fide, 1,5, §42.
108
Мф. 19, 14; 18,3.
109
Быт. 1, 4.
110
Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.
С. 29‑33, 294, 298.
111
Gilson E. The Spirit of Mediaeval Philosophy. English
translation. London, 1936. P. 14‑17, 390‑391.
112
Kantorowicz E. Frederick the Second, 1194‑1250.
English translation. London, 1931. P. 493‑494, 561‑562.
113
Лк. 6, 26.
114
Mcorman J. R. H. Church Lite in England in the
Thirteenth Century. Cambridge, 1945. P. 279‑280, 283, 353.
115
Caetani L. Studi di Storia Orientale. Vol. I. Milan,
1911. P. 266.
116
Davies С. С. The Problem of the North‑West Frontier,
1890‑1908. Cambridge, 1932. P. 176.
117
Ibid. P. 177.
118
Zosimus. Historiae, IV, XXXI, 1‑3.
119
Collingwood R. G. в книге: Collingwood R. С, Myres
J. N. L. Roman Britain and the English Settlements. 2nd ed.
Oxford, 1937. P. 307.
120
Chadwick H. М. The Heroic Age. Cambridge, 1912. P.
442‑444.
121
Murray G. The Rise of the Greek Epic. 3d
ed. Oxford, 1924. P. 83‑84.
122
Murray G. Op. cit. P. 87‑88.
123
Lammens S. J., Père H. Études sur la Règne du Calife
Omaiyade MoFâwia I. Bayrut, 1908. Paris, 1908. P. 81, n. 2. Цитаты из этой
книги приведены с разрешения издателей.
124
Ibid. Р. 81,87, 103.
125
Гесиод. Труды и дни, 200‑201 (пер. В. В. Вересаева).
126
Bridges R. The Testament of Beauty. Oxford, 1929.
Book I, lines 535‑555.
127
Гесиод. Труды и дни, 143‑155 (пер. В. В. Вересаева).
128
Гесиод. Труды и дни, 156‑173.
129
Там же, 122‑126.
130
Там же, 141‑142.
131
Finlay G. A History of Greece, В. С. 146 to A. D.
1864. Oxford, 1877. Vol. V. P. 284‑285.
132
Rycaut, Sir P. The Present State of the Ottoman
Empire. London, 1668. P. 82.
133
Spear Т. G. P. The Nabobs: a Study of the Social Life
of the English in Eighteenth‑Century India. London, 1932. P. 136‑137, 145.
134
Liutprandi Relatiode Legatione Constantinopolitana.
Ch. 12.
135
Boeke J. Н., dr. De Economische Theorie der
Dualistische Samenleving//De Economist, 1935. P. 781.
136
Furnivall J. S. Progress and Welfare in Southeast
Asia. New York, 1941. P. 42‑44. Картина, изображенная в общих чертах в данном
отрывке, далее, на р. 61‑63 расширяется.
137
Быт. 9, 15.
138
1 Цар. 16, 13.
139
3 Цар. 1,39.
140
Bury J. В., in his edition of Edward Gibbon, «The
History of the Decline and Fall of the Roman Empire». Vol. V. London, 1901.
Appendix II. P. 526.
141
Dawson Ch. Religion and the Rise of Western Culture.
London, 1950. P. 90.
142
Dawson Ch. Op. cit. P. 90‑91.
143
Fung Yu‑lan. A Short History of Chinese Philosophy.
New York, 1948. P. 318.
144
Dawson Ch. Religion and the Rise of Western Culture.
P. 229‑230.
145
Butterfield H. The Origins of Modern Science, 1300‑1800.
London, 1949. P. 21‑22.
146
Benvenuto Cellini. Autobiography. English translation
by J. A. Symonds. London, 1949. Book I. Ch. XII. P. 18.
147
Евр. 10,31.
148
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М.,
1980. С. 49, 54.
149
Там же. С. 55.
150
Butterfield Н. Christianity and History. London,
1949. P. 140, 146.
151
Fisher H.A.L. A History of Europe. London, 1935. Vol.
I. P. VII.
152
Jevons W. Stanley. Investigations in Currency and
Finance. 2n ed. London, 1909. P. 184.
153
Haberler G. Prosperity and Depression. Geneva, 1941.
P. 10.
154
Elias N. Uber den Prozess der Zivilisation. Vol. II.
Wandlungen der Gesellschaft: Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation. Basel,
1939. S. 451.
155
* * Mitchell W. С. Business Cycles: the Problem and
its Setting. New York, 1927. P. 165‑166.
156
Bassett‑Lowke J. W., Holland G. Ships and Men.
London, 1946. P. 46.
157
Иак. 1, 25.
158
Tennyson A. In Memoriam (in the Invocation).
159
Lampert E. The Apocalypse of History. London, 1948.
P. 45.
160
Housman A. E. A Shropshire Lad, XLVIII.
161
Huxley J. Evolutionary Ethics, the Romanes Lecture,
1943, reprinted in: Huxley T. H. and J. Evolution and Ethics, 1893‑1943.
London, 1947. P. 107.
162
Ibid. P. 110.
163
Ibid.
164
Skinner
M. Letters to
Malaya, I–II. London, 1941. P. 34‑35.
165
Евр. 11,37‑38.
166
Headlam‑Morley
J. W. The Cultural
Unity of Western Europe/ / The New Past and other Essays on the Development of
Civilization. Edited by E. H. Carter. Oxford, 1925. P. 88‑89.
167
Heyerdahl
Th. Kon‑Tiki.
Chicago, 1950. P. 242.
168
Schumpeter
J. A. Business
Cycles. 2 vols. New York, 1939. Vol. II. P. 1033.
169
Мф. 4, 4.
170
Кол. 3,23.
171
1 Цар. 21, 1‑27.
[1] Хун‑ву (Чжу Юаньчжан; 1328‑1398) –
китайский император с 1368 г., основатель династии Мин. Происходил из бедных
крестьян. В юности был монахом. Один из главных руководителей восстания 50‑60‑х
гг. XIV в. против монгольской династии Юань.
[2] Яхмос (ум. в 1527 г. до н. э.) –
египетский фараон в 1552‑1527 гг. до н. э., основатель XVIII династии Египта.
Завершил освободительную войну против гиксосов, начатую его братом Камосом.
После тяжелой и долгой осады взял твердыню гиксосов в Нижнем Египте – Авар.
Вторгся в Южную Палестину и захватил здесь крепость Шарухен. Затем продолжил
войну на юге, в Нубии, где также правили гиксосы, разбил их и завоевал страну
вплоть до вторых нильских порогов. Своими успехами Яхмос заложил основу для
будущего расцвета Египта.
[3] Струльдбруги – в романе Д. Свифта
«Путешествие Гулливера» (часть III – «Путешествие в Лапуту, Бальнибарби,
Лаггнегг, Глаббдобриб и Японию») бессмертные существа. «До тридцатилетнего
возраста они ничем не отличаются от остальных людей; затем становятся мало‑
помалу мрачными и угрюмыми, и меланхолия их растет до восьмидесяти лет… По
достижении восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом
человеческой жизни, они не только подвергаются всем недугам и слабостям,
свойственным прочим старикам, но бывают еще подавлены страшной перспективой
влачить такое существование вечно. Струльдбруги не только упрямы, сварливы,
жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, но они не способны также к дружбе и лишены
естественных добрых чувств, которые у них не простираются дальше, чем на
внуков… В их памяти хранится лишь усвоенное и воспринятое в юности или в зрелом
возрасте, да и то в очень несовершенном виде… Наименее несчастными среди них являются
впавшие в детство и совершенно потерявшие память; они внушают к себе больше
жалости и участия, потому что лишены множества дурных качеств, которые
изобилуют у остальных бессмертных» (Пер. под ред. А. Франковского).
[4] Клото (греч. – «прядущая») – одна из
трех сестер‑Мойр, богинь судьбы. Прядет нить человеческой жизни.
[5] Доктор Эдвин Бивен в письме к автору (Прим.
А. Дж. Тойнби).
[6] Гляди в конец (своего намерения или поступка) (лат.).
[7] Палингенез (греч. πάλιν – «опять»,
«назад» и γένεσις – «рождение») – в биологии палингенезы означают
признаки отдаленных предков, проявляющиеся у их потомков в период зародышевого
или личиночного развития и отсутствующие у них во взрослом состоянии. В Новом
Завете (и этот аспект является для Тойнби более важным) слово употребляется в
форме «παλιγγενεσία» (Мф. 19,28; Тит. 3,5), что в точности
передается церковнославянским «пакибытие» («возрождение», «новая жизнь», а также
«воскресение из мертвых»).
[8] Корпоративный дух (фр).
[9] Веррес Гай (ок. 115‑43 гг. до н. э.) –
правитель римской провинции Сицилии (73‑71 гг. до н. э.), который благодаря
посвященным ему обличительным речам Цицерона (всего семь) вошел в историю как
один из самых беззастенчивых и беспринципных чиновников‑лихоимцев. Совершив
практически все виды должностных преступлений, Веррес перешел к откровенному
грабежу подвластной ему провинции, за что был в конце концов отправлен в
ссылку, но умудрился, однако, сохранить большую часть награбленного.
Впоследствии был казнен.
[10] Северы (лат. severus – «суровый») –
династия римских императоров. Происходила из Лепсис Магна в Северной Африке и
правила с 193 по 217 г. (Септимий Север, Каракалла и Гета), а ее сирийская
побочная ветвь (Гелиогабал и Александр Север) – до 235 г.
[11] Нетленное сокровище (греч).
[12] Имеются в виду знаменитые философские школы
античности: афинская Академия Платона (основана в 388 г. до н. э.); школа
Аристотеля (основана в 335 г. до н. э.), располагавшаяся в крытой галерее для
прогулок («перипатос») в Афинском ликее; стоическая школа, название которой
происходит от греческого στοά ποικίλη) – Пестрый портик (зал в Афинах,
где собирались основоположники стоицизма); эпикурейская школа, основанная в
Афинах в 306 г. до н. э. Эпикуром и получившая название «Сад Эпикура».
[13] Даймё – владетельные князья в
феодальной Японии.
[14] Великий год (лат.).
[15] Мировой механизм (лат.).
[16] Дерби (англ. derby) – ипподромные
состязания 3‑летних скаковых чистокровных лошадей на дистанцию 2400 метров (или
1,5 мили). Организованы впервые лордом Дерби в 1778 г. (отсюда название).
[17] Математик (лат.).
[18] Тяжелая, подневольная работа (фр.).
[19] Бывшие (фр.).
[20] Бар‑Кохба (евр. «Сын звезды», настоящее
имя – Симон) – вождь антиримского восстания в Иудее в 132‑135 гг. Временно
освободил Иерусалим, но вскоре потерпел поражение и погиб в бою с римлянами.
Считается национальным героем еврейского народа и символом борьбы за его
независимость.
[21] Аристоник – предположительно
единокровный внебрачный брат пергамского царя Аттала III, предводитель
восстания, вспыхнувшего в связи с волнениями по поводу завещания в 133 г. до н.
э. Пергамского царства Риму. Восставшие добивались сохранения Пергама с Аристоником
на престоле (себя он именовал Эвменом III) и независимым от римлян.
Первоначально Аристоника поддерживали жители столицы и прибрежных полисов
(кроме Эфеса). После поражения восставших при Кимах Аристоник лишился этой
поддержки и обратился к жившим в глубине страны зависимым крестьянам и рабам,
которым обещал свободу, с призывом присоединиться к нему. Вместе со
сподвижниками, которых Аристоник называл гелиополитами («гражданами Солнца»),
он опустошил города Фиатера и Колофон. Богатые трофеи позволили Аристонику
сформировать войско и нанести римлянам несколько поражений. В 129 г. до н. э.
он попал в плен и умер в тюрьме.
[22] Митридат VI Евпатор (132‑63 гг. до н.
э.) – царь Понта. По отцовской линии вел происхождение от Ахеменидов, был
воспитан в традиции эллинистической культуры. В ходе территориальной экспансии
столкнулся в Малой Азии с римскими интересами (завоевал Вифинию, Каппадокию,
Пафлагонию, вступил в союз с царем Армении Тиграном II). Митридат вел с Римом
три войны (в 89‑84,83‑82 и 74‑65 гг. до н. э.). В ходе первой войны захватил
римскую провинцию Азия, разграбил Афины, был разбит Суллой в битве при Херонее.
Во второй войне Митридат защищал свои основные владения. В третьей войне
потерпел окончательное поражение, попытался найти убежище у своего сына
Фарнака, а когда тот поднял против отца мятеж, приказал рабу убить себя.
[23] Ряды сенаторов (лат.).
[24] Серторий (123‑72 гг. до н. э.) –
римский полководец и государственный деятель. Под предводительством Мария
воевал против кимвров и тевтонов. Будучи сторонником Мария и Цинны, оказался во
вражде с Суллой и в результате его происков был отправлен в 83 г. до н. э.
претором в Испанию. Оттуда он бежит в Мавретанию, в 80 г. до н. э. возвращается
и устанавливает независимый от Рима режим, поддерживаемый старыми марианцами и
местной аристократией. Победить Сер‑ тория после первоначальных неудач в 75 г.
до н. э. удалось лишь Помпею. В 72 г. до н. э. Серторий погиб в результате
заговора.
[25] Помпеи Секст (73‑35 гг. до н. э.) –
младший сын Помпея Великого. Воевал в Испании и Африке против Цезаря, в 43 г.
до н. э. от сената получил командование флотом. Владел Сицилией, имевшей
чрезвычайно важное значение для снабжения зерном Рима, и возглавлял сильный
флот. Принимал бежавших к нему многочисленных рабов и сторонников сената. Он представлял
серьезную опасность для участников 2‑го триумвирата. В 36 г. до н. э. был
разбит Агриппой при Милах.
[26] Марий Гай (156‑86 гг. до н.э.) –
римский полководец и политический деятель, консул в 107,104‑101,100,86 гг. дон.
э. В 105 г. до н.э. одержал победу над царем Нумидии Югуртой, разбил племена
тевтонов (в 102 г.) и кимвров (в 101 г.). В гражданской войне, положившей
начало кризису республиканского строя и открывшей путь к установлению
единоличной власти, возглавлял противников оптиматов (сенатской аристократии).
После поражения бежал от Суллы в Африку. В 87 г. до н. э. захватил Рим и
организовал жестокую расправу над своими политическими противниками.
[27] Катилина Луций Сергий (108‑62 гг. до н.
э.) – римский претор в 68 г. до н. э. Потерпев несколько поражений на
консульских выборах, Катилина организовал заговор с целью свержения олигархии и
овладения единоличной властью. Его планы ликвидации республиканских устоев
натолкнулись на сопротивление большинства римского населения. Способность
Катилины внушать симпатию и давать демагогические обещания ликвидировать
задолженность увеличили число его сторонников из имевших большие долги
аристократов, ветеранов Суллы, а также неимущих слоев городского плебса и
молодежи. Между тем Цицерон, избранный консулом в 63 г. до н. э., получил
сведения о намерениях Катилины и 21 октября 63 г. произнес речь в сенате, чем
предопределил провал Катилины на консульских выборах в 62 г. Некоторых
сторонников Катилины из аристократии Цицерон приказал арестовать и казнить.
После неудавшегося покушения на жизнь Цицерона Катилина бежал из Рима и собрал
войско в Этрурии. В сражении при Пистории был побежден и пал в бою.
[28] Ученый и благочестивый старец Елеазар, его
родственники – семь братьев Маккавеев и их мать Соломония были преданы жестоким
пыткам в 167 г. до н. э. за отказ вкусить идоложертвенное свиное мясо (2
Макк. 6‑7).
[29] Гамалиил – в Новом Завете фарисей,
«законоучитель, уважаемый всем народом» (Деян. 5,34), отговоривший
иудеев от убийства апостолов. Апостол Павел утверждал, что был воспитан «при
ногах Гамалиила» (Деян. 22, 3).
[30] «Агудат Ишраэль» (евр. – «Союз
Израиля») – всемирная организация приверженных Закону ортодоксальных иудеев,
созданная в целях защиты своих религиозных интересов в 1912 г. в польском
городе Катовице. «Агудат Ишраэль» содержит собственные школы, молодежные,
женские и рабочие организации. В израильском парламенте является главным
представителем «религиозного блока».
[31] Инкский мир (лат.).
[32] «Второисайя» – в библеистике условное
наименование анонимного пророка, жившего спустя полтора столетия после пророка
Исайи и написавшего главы с 40‑й по 66‑ю Книги пророка Исайи.
[33] Ронин – название японского самурая,
лишившегося службы, в особенности же – лишенного своим феодалом земли.
[34] Эта – каста париев в феодальной Японии.
К ней причислялись люди, занимавшиеся «нечистыми» (согласно буддийским законам)
профессиями (убой скота и т. д.). В 1871 г. каста париев была ликвидирована, но
остатки их неравноправного положения сохранились до настоящего времени.
[35] Дзёдо‑сю (букв, «чистая земля») –
японская буддийская школа, основанная в конце XII в. монахом Хонэном.
Осуществила серьезный пересмотр основных положений буддийской доктрины. Главное
внимание школа уделяет не достижению нирваны, а проблеме спасения, разрабатывая
учения о путях достижения западного рая, который именуется «чистой землей». При
этом в учении Дзёдо‑сю рай и ад разделены.
[36] Дзёдо‑синсю («истинная секта чистой
земли») – японская буддийская школа, основанная в начале XIII в. монахом
Синраном. Выделилась из Дзёдо‑сю, акцентирует внимание на том, что спастись
могут лишь те, кто совершает благие дела, строго соблюдает буддийские заповеди,
а самое главное – возносит молитвы к будде Амиде.
[37] Хоккэкё – японское название
«Саддхармапундарики‑сутры» («Лотосовой сутры»), махаянской сутры, образующей
вместе со ссылками на будду Амиду и боддхисатв основу одноименного учения.
Согласно этому учению, в каждом есть нечто от Будды, так что спасение доступно
для всех. «Лотосовая сутра» является центральным текстом махаянского буддизма.
[38] Дзэн (япон., соответствует санскр.
«дхьяна» – «созерцание», «самопогружение», кит. – «чань») – течение
буддизма, возникшее в Китае при сближении с даосизмом. Основано индийским
проповедником Бодхидхармой (VI в.). Главную роль в формировании учения сыграл
Хуэйнэн (VII в.). В Японии практика дзэна появилась еще в VII в., однако
распространение дзэна как самостоятельного направления японского буддизма
начинается в конце XII в. Первым проповедником дзэна был Эйсай – буддийский
монах, который после пребывания в Китае основал в Японии школу Риндзай. В
первой половине XIII в. Догэн, также обучавшийся в Китае, основал школу Сото.
Риндзай и Сото были наиболее влиятельными школами дзэн‑буддизма и сохранились
до наших дней. Для дзэна характерно абсолютное пренебрежение к любой внешней
форме бытия личности (проповедь непосредственного действия, интуитивизма и т.
д.). Оказал влияние на китайское и японское искусство и литературу.
[39] «Греши смело» (лат.).
[40] Кайсар‑и‑хинд (от искаженного «кайсар»
– «Цезарь») – тюркское название правителя Индии в эпоху империи Великих Моголов
и Британской империи в Индии, а также название самого государства.
[41] Тайнинское движение – имеется в виду
Тайпинское восстание 1850‑1864 гг., крупнейшая крестьянская война в Китае под
руководством Хун Сюцюаня, Ян Сюцина и других против династии Цин и маньчжуро‑китайских
помещиков. Повстанцы создали в долине Янцзы «Небесное государство великого
благоденствия» («Тайпин тяньго») с центром в Нанкине (1853). Тайпинское
восстание было подавлено объединенными силами маньчжуро‑китайской реакции и
англо‑французских интервентов.
[42] Имеются в виду события 1341‑1355 гг. –
гражданская война и восстание зелотов в Византийской империи. После смерти в
1341 г. императора Андроника III власть в Империи оказалась в руках регента его
малолетнего сына Иоанна V – знатнейшего и богатого землевладельца Иоанна Кантакузина.
Оппозиционные ему силы сплотились вокруг матери Иоанна V – Анны Савойской.
Началась гражданская война. В 1342 г. сторонники Кантакузина были изгнаны из
Фессалоник (Солуни). Власть в этом втором по значению городе Империи перешла к
зелотам («ревнителям»), во главе которых стояла зажиточная городская торговая
верхушка, чиновная администрация. Их основную военную силу составляли
корпорации моряков. На первом этапе это движение не отличалось радикализмом и
имело антикантакузинистскую направленность. В 1345 г. городская верхушка и
часть оставшихся в городе феодалов попытались достичь компромисса с
Кантакузином и сдать ему город. Однако их заговор был раскрыт, и началось
народное восстание. Восставшие уничтожили более ста знатных заговорщиков и в
течение трех дней громили дома богачей. Победа зелотов все же не привела ни к
широким социальным реформам, ни к изменению формы правления. В 1347 г. перевес
был уже на стороне Кантакузина, который использовал для борьбы с противниками
иноземные, прежде всего турецкие, отряды, безжалостно опустошавшие византийские
земли. В том же 1347 г. Кантакузин овладел Константинополем, а в 1349 г. –
Фессалониками. Восстание зелотов было подавлено.
[43] Бекташи –дервишский орден, основанный в
Турции Хаджи Бекташи в XV в. Официально закрыт в 1826 г. Существовал в Турции
до 1925 г., затем центр его находился в Албании.
[44] Ассирийская ярость (лат.).
[45] Аллюзия на Евангелие от Матфея (Мф. 16,
18).
[46] «В девятый год Осии взял царь Ассирийский
Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе,
при реке Гозан, и в городах Мидийских» (4 Пар. 17, 6).
[47] Набонид (Набунаид) – последний царь
Нововавилонского царства (556‑539 гг. до н. э.). По происхождению арамей,
Набонид стремился объединить арамейские племена для борьбы с персами. В 539 г.
до н. э. после завоевания Вавилонии персами попал в плен.
[48] Валтасар (Бэлшаррууцур) – царевич
вавилонский, сын и соправитель Набонида. В 539 г. до н. э. был захвачен персами
во время пира и казнен. В Библии упоминается как царь Вавилона и сын
Навуходоносора (Дан. 5).
[49] Юлиан Отступник (332‑363) – римский
император с 361 г. Получил христианское воспитание, но под влиянием
антиохийского ритора Либания и неоплатоника Максима, который стал его учителем,
обратился к язычеству. Став императором, открыто объявил себя сторонником
языческой религии и реформировал ее на базе неоплатонизма. Издал ряд эдиктов
против христиан. Погиб во время похода против персов.
[50] Валент (328‑378) – римский император с
364 г. Был объявлен в Константинополе августом и соправителем своего брата
Валентиниана I. Правил восточной частью Римской империи. Был ревностным
арианином и начал преследование сторонников Никейского Символа веры. В 365‑366
гг. свергнул узурпатора Прокопия. В 367‑369 гг. победил готов на Нижнем Дунае.
В 376 г. вытесненные гуннами вестготы осели во Фракии в качестве федератов
(военнообязанных союзников на границах Римской империи). В 377 г. вестготы,
возмущенные произволом римских чиновников, подняли восстание. Валент, не
дожидаясь помощи вспомогательных частей своего западного соправителя Грациана,
вступил с ними в бой, но потерпел поражение и погиб.
[51] Это спорный вопрос, на который, вероятно,
никогда не будет дано окончательного ответа: была ли та буддийская философия
(описанная в нижеследующем отрывке из работы русского ученого), против которой
восстала махаяна, копией или же неверным истолкованием личного учения самого
Сиддхартхи Гаутамы? Некоторые ученые полагают, что в той мере, в какой мы можем
уловить намеки на собственное личное учение Будды под покровом систематизированной
философии, представленной нам в хинаянских священных книгах, мы можем угадать,
что сам Будда вряд ли не верил в реальность и неизменность души и что нирвана,
бывшая целью его духовных упражнении, являлась условием абсолютного угасания не
самой жизни, но тех остатков страсти, которые, цепляясь за жизнь, препятствуют
тому, чтобы она была прожита в полной мере (Прим. Л. Дж. Тойнби).
[52] Таммуз (Думузи) – в религиях ряда
народов Передней Азии умирающий и воскресающий бог плодородия, скотоводства.
Согласно шумерским мифологическим текстам (известным уже с III тысячелетия до
н. э.), Таммуз – бог‑пастух, возлюбленный и супруг Инанны (Иштар), отданный ей
в подземное царство как «замена» ее самой. Но Таммуз проводит каждый год под
землей лишь полгода, а затем возвращается на землю. Соответствовал финикийскому
Адонису.
[53] Ammuc – фригийский бог‑юноша, связанный
с оргпастическим культом Великой матери богов Кибелы (Кивевы или Диндимены),
дарительницы плодоносных сил земли. Согласно мифу, Агдитис из ревности ввергла
Аттиса в безумие, который оскопил себя и умер.
[54] Нертус – в древнегерманской мифологии
богиня плодородия, растительности, возможно, богиня земли. Ее куль г у
континентальных народов описан Тацитом. В ритуале изображение Нертус возили на
телеге, в которую были впряжены коровы.
[55] Атаргатис – в западносемитской
мифологии богиня плодородия и благополучия, супруга Хаддада. В эллинистическо‑римское
время одна из наиболее почитаемых богинь арамейского пантеона («Сирийская
богиня»). Отождествлялась с Афродитой. В образе Атаргатис слились черты многих
западносемитских богинь. Ее культ начал складываться в первой половине I
тысячелетия до н. э. и имел оргиастический характер. В Пальмире Атаргатис считалась
богиней – покровительницей города.
[56] Адонис (финик, dn – «адон», «господь»,
«владыка») – финикийско‑сирийское божество с ярко выраженными растительными
функциями, связанными с периодическим умиранием и возрождением природы. Центром
культа Адониса был город Библ. В VI в. до н. э. культ Адониса был занесен
финикийскими торговцами в ионические приморские города, где он получил особое
распространение среди женщин. Впоследствии культ Адониса был облечен в историко‑мифологическую
форму – Адонис превратился в возлюбленного Афродиты (в финикийском варианте –
Астарты), убитого на охоте. Первоначальное подразделение года на два временных
отрезка – зиму и лето – миф объяснял тем обстоятельством, что Персефона и
Афродита поделили молодого прекрасного бога между собою. Адонису было разрешено
шесть месяцев в году пребывать на земле, а остальное время он должен был
находиться в подземном царстве.
[57] Бальдр (др.‑исл. «Baldr» – «господин»)
– в скандинавской мифологии юный бог из асов, любимый сын Одина и Фригг, муж
Нанны. Прекрасный, светлый бог Бальдр гибнет от стрелы, пущенной слепым богом
Хёдом. Смерть Бальдра предшествовала гибели богов и всего мира. В обновленном
мире Бальдр вновь оживает.
[58] Исключительное множество (фр).
[59] Ювенал, описывая наплыв полуэллинизированных
сирийских азиатов в Рим его времени (начало II в. после Христа), сказал: «Iп
Tiberim defluxit Orontes» («Оронт… стал Тибра притоком») (Прим. А. Дж.
Тойнби).
[60] «Кодекс Наполеона» – гражданский кодекс
Франции, введенный в 1804 г. и официально установленный в 1807 г. Наполеоном.
[61] Иродиане (Мк. 3, 5‑6, Мф. 26,
15) – название иудеев, которые действовали в пользу династии царя Ирода. Так
как эта династия многим была обязана влиянию Рима, то, судя по всему, и
иродиане особенно тяготели к римскому правительству в противоположность чисто
иудейской партии среди евреев (зелотов).
[62] Читателю, возможно, придет на ум, что
интеллигенция в употребляемом гном Тойнби смысле является социальным
эквивалентом политического животного, охарактеризованного как «предатель» во
время войны 1939‑1945 гг. (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[63] Бабу – обычно пренебрежительное
наименование индийского чиновника, обладающего ограниченным знанием английского
языка.
[64] Сагиб (араб.) – первоначально в Индии в
Средние века – обращение к крупным феодалам в значении «господин», а позднее –
наименование европейцев.
[65] Гугеноты – французские протестанты‑кальвинисты
XVI‑XVIII вв. Появились при Франциске I. Борьба гугенотов с католиками вылилась
в 8 религиозных войн, продолжавшихся с 1562 по 1594 г., когда на троне Франции
воцарился перешедший в католичество Генрих На‑варрский. Самым мрачным эпизодом
периода религиозных войн является Варфоломеевская ночь 1572 г. Некоторое
умиротворение наступило после принятия Нантского эдикта (1598), обеспечивавшего
религиозные свободы, однако в 1685 г. эдикт был отменен, и при Людовике XIV 200
тысяч гугенотов были вынуждены покинуть страну. Лишь Великая французская
революция вернула протестантам все политические права. К числу наиболее
влиятельных гугенотов принадлежали принц Луи Конде, адмирал Гаспар де Шатийон
Колиньи, Генрих Наваррский и Филипп де Морни (1549‑1623), прозванный Папой
гугенотов. Само слово «гугеноты» впервые было применено около 1560 г.
сторонниками герцога Савойского по отношению к женевским революционерам.
Произведено либо от имени женевского гражданина Гюга, либо представляет собой
искаженное немецкое «Eidgenossen» – «швейцарские конфедераты».
[66] Ненависть на почве вероисповедания (лат.).
[67] Классический пример как оптимизма, так и
пессимизма можно найти в маколеевском эссе о «Разговорах» Саути (1830) (Прим.
Д. Ч. Сомервелла).
[68] Квакеры (от англ. «quakers»,
буквально – «трясуны»; самоназвание – «Общество друзей») – члены религиозной
христианской общины, основанной в середине XVII столетия в Англии. До закона о
веротерпимости 1689 г. они подвергались яростным преследованиям. Признавая
главные протестантские догматы, квакеры придают значение не столько Священному
Писанию, сколько присущему человеку «внутреннему свету» и отрицают всякое
определенное богослужение и таинства. Духовенства у них нет, а собираясь в
своих молитвенных домах, они молча ждут, пока какой‑нибудь член общины не
почувствует себя «просветленным» и не выступит перед собранием. Если же в
течение нескольких часов никто не почувствует внутреннего «просветления», они
молча расходятся. Позднее квакеры стали возлагать обязанность по произнесению
проповеди на наиболее способных ораторов. Общины квакеров имеют демократическое
устройство. Квакеры проповедуют пацифизм и большое место уделяют
благотворительности.
[69] Анабаптисты (также – перекрещенцы, от греч.
άναβαπτίζω – «вторично крещу») –
христианская секта, зародившаяся в 1521 г. в Германии. Анабаптисты
проповедовали «сознательное» крещение взрослых, главенство Нового Завета над
Ветхим (который они принимали постольку, поскольку он не противоречил Новому),
скорый конец света и построение Града Господня на земле. Последнее начинание
было осуществлено в 1534 г. в Мюнстере Яном Боккольдом (именуемым Иоанном
Лейденским), который принял титул царя Израильского, назначил 12 апостолов,
обзавелся огромным гаремом и стал вершить суд над своими подданными –
горожанами Мюнстера. Ежедневные казни «нарушителей заветов» и «отступников от
истинной веры» сопровождались буйными оргиями новоявленного царя и его
приближенных. В 1535 г. после длительной осады город был взят войсками епископа
Министерского, Боккольда подвергли мучительной казни, но уцелевшие анабаптисты
рассеялись по Европе и продолжили свою деятельность.
[70] Меннониты – протестантская секта,
основанная в 30‑40‑е гг. XVI столетия в Голландии. Названа по имени своего
основателя Симона Меннона, католического священника из Голландии, вступившего в
1536 г. в секту анабаптистов. Меннон преобразовал эту секту, введя в ее жизнь
строго нравственные правила, установив строгую дисциплину, вероучению придал
большую определенность. Сектанты эти стали мирными, трудолюбивыми и
нравственными. От прежнего анабаптизма у них осталось только отрицание крещения
детей и мечтательное представление о своей секте как обществе святых. Меннониты
считали для себя обязательным удаление от военной и гражданской службы, от
судебных процессов, признавали жизнь замкнутую и сосредоточенную в своем
обществе. Что касается вероучения, то Меннон приблизил его к реформатскому,
придав только большее значение обрядности. Распространение эта секта получила
главным образом в Голландии, Германии, США и Канаде.
[71] Блюститель нравов (лат.).
[72] Авраам умоляет Яхве пощадить Содом (Быт.
18, 24).
[73] Фи (Fee) Джон Дж. (1816‑1901) –
американский аболиционист. В 1842 г. окончил Лэйнскую богословскую семинарию и
вскоре начал свою проповедь, направленную против рабства. В результате на него
несколько раз нападала толпа, однако в 1853 г. он отправился в Береа, где ему
удалось основать церковь и учредить колледж, в котором обучались как белые, так
и черные ученики.
[74] Клавер Петр (Сан‑Педро Клавер) (1581 ‑1654)
– иезуитский миссионер в Южной Америке. Посвятил свою жизнь помощи негритянским
рабам, заслужив титул «апостола негров». Вступил в иезуитский орден в 1602 г. и
через восемь лет был послан в Картахену (Колумбия), где был рукоположен в 1616
г. Жалкое положение рабов на борту корабля и на плантациях Картахены, главного
рабского рынка Южной Америки, побудили Клавера объявить себя «рабом негров
навеки». Сопровождаемый переводчиками и нагруженный пищей и лекарствами, он
поднимался на борт каждого корабля, приходящего в Картахену, и посещал все
плантации, где ухаживал за больными и проповедовал христианское учение.
Несмотря на жесткую оппозицию официальных властей, Клавер упорно продолжал свое
дело в течение 38 лет, окрестив 300 тысяч рабов. В 1888 г. был канонизирован
папой Львом XIII, объявившим его в 1896 г. покровителем всех римско‑католических
миссий среди негров.
[75] Аллюзия на Евангелие от Луки (Лк.
12,21).
[76] Когда мы говорим «в», то мы имеем в виду не
географическое пребывание примитивных обществ внутри цивилизации (поскольку
будучи «внешним пролетариатом» они явно не находятся внутри), но «в» – в виду
того, что они волей‑неволей продолжают поддерживать активные отношения с ней (Прим.
Л. Дж. Тойнби).
[77] Февда – иудей, объявивший себя то ли
пророком, то ли мессией и увлекший за собой много людей обещанием освободить их
от гнета римлян после того, как он переведет их через Иордан, воды которого
должны расступиться. По приказу прокуратора Иудеи Куспия Фада отряд конницы
расправился с безоружной толпой, а Февде отрубили голову. Упоминается в Деяниях
святых апостолов (5, 36), а также у Иосифа Флавия в «Иудейских древностях» (XX,
5, 1).
[78] Имеются в виду так называемые зелоты –движение
против римлян, основанное Иудой Галилеянином. По сведениям Иосифа Флавия, они
отделились от фарисеев, с которыми в религиозных вопросах существенно не
расходились. Главная линия раздела между ними проходила в отношении к свободе.
Зелоты, выступая ревнителями веры, признавали «своим господином и царем» только
Бога. Зелоты намеревались восстановить самостоятельность Иудеи путем
вооруженной борьбы.
[79] Гипотетически (лат.).
[80] Крез (595‑547 гг. до н. э.) – последний
царь Лидии из династии Мермнадов (560‑547 гг. до н. э.). Захватил большую часть
Малой Азии, за исключением Ликии и Киликии. Покоренные им народы, в том числе
жители греческих городов малоазийского побережья, были, однако, относительно
самостоятельны. После того как персы захватили Мидию, между ними и лидийцами
стали возникать конфликты (547‑546). Персидский царь Кир II победил Креза и
присоединил Лидийское царство к Персии. Крез был известен своим богатством не
меньше, чем щедростью (пожертвования в Дельфы). При Крезе в стране расширились
денежные отношения (чеканка монеты). Имя Креза вошло в поговорки и легенды.
Согласно преданию, перед началом войны с Киром Крез получил в Дельфах такой
оракул: «Перейдя реку Галис, ты разрушишь великое царство». Крез действительно
разрушил свое собственное царство.
[81] Бруттии – умбрийско‑сабинское племя,
населявшее римскую провинцию Бруттий на юго‑западе Апеннинского полуострова
(современная Калабрия). Вели борьбу против греческих городов, против Александра
из Эпира (в 30‑х гг. IV в. до н. э.) и против Агафокла (ок. 300 г. до н. э.). С
272 г. до н. э. племя попало в зависимость от римлян. В 216 г. до н. э. стало
союзником Ганнибала. После поражения от римлян, основавших в Бруттии римские и
латинские колонии, бруттии большей частью были обращены в рабство.
[82] Луканцы – население римской провинции
Лукании, области на западном побережье Южной Италии между Кампанией, Апулией и
Бруттием. Первоначально эта область была заселена племенами осков, затем в
VIII–VI вв. до н. э. происходит ее массовое заселение греческими колонистами
(города Посейдония, Элея, Метапонт). Только после победы в войне с Пирром
римлянам удалось окончательно покорить Луканию (272 г.дон. э.).
[83] Оски – древнеиталийское племя,
принадлежавшее к оскско‑умбрской языковой группе, родственной самнитам. Обитали
в основном в Кампании. Испытали влияние греческой культуры, около 500 г. до н.
э. были распространены почти по всей Южной Италии.
[84] Арминий (16(?) г. до н. э. – 21(?) г.
н. э.) – вождь германского племени херусков, покоренных римлянами. Поступил к
римлянам на военную службу, получил звание всадника и стал начальником
вспомогательных войск, состоявших из выходцев с его родины. В этом качестве,
очевидно, он пребывал в 9 г. н. э. в Германии и заслужил там доверие римского
наместника Квинтилия Вара, которого он заманил в ловушку и победил в знаменитом
сражении в Тевтобургском лесу. Вар покончил жизнь самоубийством, предводимые им
три легиона были полностью уничтожены. Одержанная победа вызвала всеобщее
восстание, римское господство на территории между Рейном и Эльбой было
ликвидировано. Предпринятые впоследствии попытки его возрождения успеха не
имели. В последующие годы Арминий вел войну с римлянами, предводимыми
Германиком, стремившимся вновь подчинить Германию Риму.
[85] Аларих I (ок. 370‑410) – вестготский
король приблизительно с 395 г. Первоначально являлся союзником императора
Феодосия I, в дальнейшем добился у Аркадия самостоятельности внутри Восточной
Римской империи, став наместником Иллирии. В 401 г. вторгся в пределы Италии и
оказался в самом центре событий в Западной Римской империи. В качестве
компенсации за утрату своего положения в Иллирии Аларих должен был получить
Галлию, однако смерть Стилихона сорвала его планы. В 409 г. провозгласил
королем Аталла и в 410 г. захватил Рим.
[86] Радагайс – вождь остготов. В 404‑405
гг. вторгся из‑за Восточных Альп в Италию, дошел до Флоренции, но здесь в 406
г. был наголову разбит Стилихоном.
[87] Атаульф (ум. 415) – король вестготов,
шурин и преемник Алариха (с 410 г.). Отказавшись от идеи окончательного
уничтожения Римской империи, заключил мир с императором Гонорием и женился на
его сестре Плацидии, попавшей в плен к вестготам при взятии Рима, после чего
двинулся в Галлию и Испанию. Убит одним из своих приближенных вскоре после
взятия Барселоны.
[88] Орозий Павел (начало V в. н. э.) –
испанский священник и писатель. Его основной труд – написанные под влиянием
Августина Блаженного семь книг «Истории против язычников», очерк мировой
истории, дополняющий «О граде Божием» Августина. Орозий в своем труде следует
пророку Даниилу в разделении истории на четыре периода. «История» Павла Орозия
была весьма популярной в Средние века универсальной всеобщей историей, принятое
в ней деление мировой истории на эпохи сохранялось вплоть до XVIII в.
[89] Выдающееся место, т. е. показательная цитата (лат.).
[90] В оригинале Тойнби употребляет слово
«Catholic» (и далее – «Catholicism»), но поскольку здесь и далее речь идет о
христианской Церкви еще до ее разделения на Восточную и Западную (1054), то мы
сочли более уместным употреблять везде – «православный» и «православие».
[91] Ариане – сторонники и последователи
еретического учения александрийского пресвитера Ария (256‑336), утверждавшего:
1) что Бог‑ Отец и Бог‑Сын есть два различных существа; 2) несмотря на свою
божественность, Бог‑Сын не равен Богу‑Отцу; 3) до своего явления среди людей
Бог‑Сын существовал в иной ипостаси, но она не была вечной; 4) Мессия был не
человеком, а божественным существом в плотской оболочке. После ожесточенных
богословских споров внутри христианской Церкви арианство было признано ересью
на Никейском соборе (325 г.), однако это не помешало ему существовать как в
Римской империи, так и в других государствах Западной Европы. Избрание Ульфилы
(ок. 311 – ок. 383) первым епископом готов означало принятие восточными
германцами христианства в арианской форме. Однако в 497 г. король франков
Хлодвиг предпочел перейти в Православие, а к VII в. арианство полностью
утратило свое значение.
[92] Теоделинда (VI в.) – королева
лангобардов, супруга короля Аутари (583‑590), а затем – короля Агилульфа (590‑615).
Под ее влиянием лангобарды приняли христианство в православной (а не арианской)
форме.
[93] Асгард (др.‑исл. «Asgardr» – «ограда
асов») – в скандинавской мифологии небесное селение, крепость богов‑асов (в
«Саге об Инглингах» Асгард помещается на земле – восточнее Дона). В «Младшей
Эдде» рассказывается о строительстве Асгарда неким великаном, которому помогает
конь по имени Свадильфари. Асы должны отдать за это строителю Асгарда Солнце,
Луну и богиню Фрейю, но благодаря хитроумному богу Локи, который, превратившись
в кобылу, отвлекал коня от работы, строитель не успел закончить ее в срок и
лишился не только платы, но и головы.
[94] «Беовульф» (др.‑англ. – «пчелиный
волк», то есть медведь) – англосаксонская эпическая поэма, созданная в VIII в.
на основе более ранних народных сказаний. Названа по имени главного героя – Бео‑
вульфа, племянника короля гаутов (скандинавского племени, жившего в то время на
юге Швеции). Узнав о бедствии, постигшем данов, – на дворец их короля Хродгара
много лет подряд нападает чудовище Грендель и пожирает лучших воинов, –
Беовульф отправляется за море и побеждает сперва Гренделя, а затем при помощи
волшебного меча одолевает и его еще более чудовищную и свирепую мать, которая
пыталась отомстить за смерть сына. После этого осыпанный наградами и почестями
Беовульф возвращается на родину, становится королем гаутов и правит страной в
течение пятидесяти лет. Однако появление огнедышащего дракона нарушает покой
его подданных. В битве с ним Беовульф с помощью верного дружинника Виглафа
вновь одерживает верх, но на сей раз – ценой собственной жизни. Поэма
завершается поминальным плачем гаутов по своему королю.
[95] Свита, сопровождение (лат.).
[96] «Песнь о Роланде» («Chanson de Roland»)
– самая знаменитая из средневековых французских chansons de geste (песен о
деяниях), героических поэм и песен, большей частью группирующихся в несколько
обширных циклов. «Песнь о Роланде» относится к циклу о деяниях короля франков и
императора Запада Карла Великого и исторически связана с его походом против
испанских мавров в 778 г. Поход этот был не особенно удачным, не дал Карлу ни
новых земель, ни добычи и закончился тем, что при уходе из Испании арьергард
войска Карла подвергся нападению со стороны баскских горцев и был разгромлен.
Командовал арьергардом префект бретонской марки граф Хруодланд (Роланд поэмы),
погибший тогда же в бою. Малосущественный сам по себе эпизод из военных походов
Карла Великого стал сюжетом сказания или ряда сказаний, тем или иным путем
превратившихся уже в XI или в самом начале XII в. в героическую поэму о
торжестве французов над сарацинами, христиан – над мусульманами, Запада – над
Востоком. Существует несколько старинных рукописей «Песни о Роланде». Наиболее
полным и организованным считается текст рукописи, хранящейся в библиотеке
Оксфордского университета (около 1170 г.).
[97] В своем «Исследовании» г‑н Тойнби
рассматривает (насколько это позволяют ему исторические данные) внешние
пролетариаты всех цивилизаций. Я опустил все другие и приступаю прямо к
заключительному разделу о внешнем пролетариате западного общества. Нет нужды ни
говорить, ни оправдываться, что и в других местах, хотя и не столь решительно,
я следовал тому же плану. Например, в главе, посвященной внутренним
пролетариатам, г‑н Тойнби рассматривает их все. Я опустил около половины,
оставив другую половину, которая, на мой взгляд, представляет наиболее
интересные особенности (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[98] Граница, предел (лат.).
[99] Имеется в виду восстание якобитов (сторонников
свергнутой королевской династии Стюартов, имевшей шотландское происхождение)
против англичан в 1745‑1746 гг. Восстание возглавил претендент на английский
престол Карл Эдуард (1720‑1788), прозванный «молодым претендентом» или
«красивым принцем Чарли», внук последнего английского короля из династии
Стюартов Якова II. Эта попытка Карла Эдуарда вернуть себе престол своего деда
закончилась неудачей.
[100] Шотландка – клетчатая шерстяная
материя.
[101] Могольский мир (лат.).
[102] Имеются в виду так называемые Маратхские
княжества – независимые княжества народа маратхов в Юго‑Западной Индии в 30‑40‑х
гг. XVIII – начале XIX в. Эти княжества возникли после распада государства
Шиваджи. Образовали конфедерацию и, совершая совместные завоевательные походы,
поставили под контроль значительную часть территории Индии. В результате англо‑маратхских
войн потеряли независимость и превратились в английских вассалов.
[103] Берне Александр (1805‑1841) –
британский исследователь Афганистана и Центральной Азии и дипломат.
Заинтересовался географией Афганистана и Центральной Азии во время прохождения
службы в северо‑западном индийском штате Катч (1823‑1829). В 1831 г. отправился
из Синда (современный Пакистан) вниз по течению Инда, взяв с собой дары местным
правителям и исследуя посещаемые им районы. В конце концов, достиг пенджабского
города Лахора. В следующем году совершил путешествие через весь Афганистан,
горы Гиндукуш и русский Туркестан в Бухару. Совершил также путешествия в
Персию. В результате своей политической миссии в Кабул (1836) он подстрекал
власти Британской Индии поддержать Дост Мухаммеда‑хана на афганском престоле.
Однако правительство предпочло поддержать непопулярного претендента Шах Шаджа
(1839) и вынудило Бернса помогать в его восстановлении на престоле. В
результате последовавшего столкновения Берне был убит.
[104] Сербские, хорватские, боснийские и
черногорские эпические песни и баллады давно и глубоко вошли в европейскую
культуру. Уже в начале XIX в. их оценили И. В. Гёте и Я. Гримм, П. Мериме и А.
С. Пушкин, В. Скотт и А. Мицкевич. Особую роль в собирании, издании и
пропаганде югославской народной поэзии сыграл Вук Стефанович Караджич (1787‑1864),
издавший в Вене в 1815 г. первый сборник народных песен, составленный в большинстве
своем по памяти.
[105] Богомильство (от славян. «Бог» и
«милуй», или «Бог» и «милый») – дуалистическое еретическое движение на Балканах
в X‑XIV вв. (затем, до XVII в. секта), близкое к павликианству. В своей системе
богомилы возобновили древние гностико‑манихейские воззрения. Однако, в отличие
от павликиан, они не признавали два начала – доброе и злое – самостоятельными,
но подчиняли их еще высшему доброму существу. Богомилы отвергали Таинства
Церкви, почитание Богородицы, святых, их мощей, почитание икон и креста. В
жизни были строгими аскетами, удаляясь от браков и не вкушая мясной пищи. Кроме
библейских книг, у них были в большом употреблении апокрифические сочинения. В
устройстве своей общины хотели подражать апостольской Церкви (у них было 12
«апостолов», над которыми возвышался главный начальник секты). В XII в.
богомильская ересь была открыта и разгромлена, однако еще долго продолжала
существовать тайно, особенно по монастырям. Богомильство оказало влияние на
западные ереси катаров и альбигойцев.
[106] Вовока (ок. 1856‑1932) – религиозный
лидер индейского племени павиотсо, учредитель религии «пляски духов» среди
индейцев северо‑американских равнин в конце XIX столетия. Выходец из
малоизвестного и незначительного индейского племени в Неваде, Вовока получил в
видении пляску, исполнение которой могло бы возвратить назад духов умерших
предков, исчезнувшие стада бизонов и минувшие добрые времена. Культ пляски
стремительно распространился в восточном направлении, через горы, дойдя до
индейцев великих равнин и в конце концов побудил сиу к их последнему отчаянному
восстанию против правительства Соединенных Штатов.
[107] Здесь явная параллель с движением свадеши
в Индии (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[108] «Душа по природе христианка» (лат.) –
выражение Тертуллиана.
[109] Ободриты (бодричи) – союз племен
полабских славян VIII–XII вв. в нижнем течении Лабы (Эльбы), а также племя,
возглавлявшее этот союз.
[110] Аманулла‑хан (1892‑1960) – афганский
эмир (1919‑1926) и король (1926‑1929). Возглавил освободительную войну против
Великобритании, добился признания полной независимости Афганистана (1919). В
1921 г. заключил с РСФСР дружественный договор, в 1926 г. – с СССР договор о
нейтралитете и взаимном ненападении. Реформы Амануллы‑хана способствовали
развитию национальной экономики и культуры, укреплению национальной
независимости государства. Был свергнут в 1929 г. в результате реакционного
мятежа и эмигрировал из страны.
[111] В ноябре 1928 г. на востоке Афганистана
началось восстание некоторых пуштунских племен, быстро распространившееся по
всей стране. Начались бои армии и повстанцев, требовавших свержения падишаха.
12 декабря на совещании ханов в селении Калакан эмиром Афганистана был
провозглашен командир одного из местных повстанческих отрядов, действовавшего
на севере страны, бывший унтер‑офицер афганской армии Бачаи Сакао – «сын
водоноса», ставший падишахом Хабибуллой Гази. 14 января 1929 г. Аманулла‑хан,
отказавшийся от некоторых своих реформ, но все равно не имевший сил для отпора
Бачаи Сакао, отрекся от престола и через четыре дня в Кабуле эмиром Афганистана
был провозглашен «сын водоноса». Однако он не сумел подчинить своей власти весь
Афганистан. Его войска были разгромлены армией военного министра и дяди
Амануллы‑хана – генерала Мухаммеда Надир‑хана (1883‑ 1933), который пришел к
власти в Афганистане 15 октября 1929 г. и положил начало новой династии,
правившей страной до июля 1973 г. Бачаи Сакао с ближайшими помощниками был
казнен 2 ноября того же года.
[112] Fascii di Combattimento (итал. –
«объединения (дословно – “пучки”, “связки”) борьбы») – фашистское движение,
основанное в 1919 г. Муссолини в Милане. Первое важное событие,
способствовавшее приходу партии к власти, произошло 28 октября 1922 г., когда
Муссолини и его последователи‑чернорубашечники организовали поход на Рим,
требуя, чтобы глава партии был назначен премьер‑министром и угрожая в противном
случае свергнуть правительство силой. Король капитулировал и на следующий день
пригласил Муссолини для формирования нового правительства. Вооруженные
фашистские бригады вскоре начали совершать нападения на штаб‑квартиры левацких
партий и физически расправляться с их членами. Придя к власти, Муссолини
объявил вне закона все политические партии, однако с января следующего года
Италией фактически стала управлять фашистская партия.
[113] Sturmabteilungen (нем. – «штурмовые
отряды» (СА)) – в 1921 – 1945 гг. в Германии полувоенные соединения национал‑социалистской
партии. Были орудием террора и физической расправы с противниками фашизма.
Назывались также «коричневорубашечниками».
[114] Муссолини в интервью, данном французскому
публицисту М. де Кериллису. Цитируется по: «The Times», 1st August,
1935.
[115] Клайв Роберт, барон Клайв‑оф‑Плесси
(1725‑1774) – английский колониальный деятель. В 1757 г. командовал английскими
войсками в битве при Плесси и одержал победу над бенгальской армией, что
положило начало колониальному завоеванию Индии Великобританией. В 1757‑1760 и
1765‑1767 гг. – губернатор Бенгалии.
[116] Дрейк, сэр Фрэнсис (1540‑1596) –
английский мореплаватель, вице‑адмирал (1588). Руководитель пиратских
экспедиций в Вест‑Индию. В 1577‑1580 гг. совершил кругосветное плавание. В 1588
г. фактически командовал английским флотом при разгроме испанской «Непобедимой
армады».
[117] Гаукинс (Хокинс), сэр Джон (1532‑1595)
– английский адмирал, один из первых работорговцев эпохи первоначального
накопления капитала. Участник сражения с испанской «Непобедимой армадой» (1588).
[118] «Это животное слишком злобное: Когда на него
нападают, оно защищается!» (фр.) («Théodore P. К.»: La Ménagerie)
.
[119] О консульстве Стилихона» (лат.).
[120] Клавдиан Клавдий (ок. 375‑404?) –
последний из великих латинских поэтов, по происхождению грек из Александрии.
Жил в Италии при дворе императора Гонория, где ему покровительствовал опекун
императора Стилихон. Верный классическим традициям, Клавдиан писал свои поэмы
на сюжет современных ему событий, прославлял величие и могущество старого Рима.
Им написаны панегирики Гонорию и Стилихону, эпиталамий «На бракосочетание
Гонория и Марии» (сестры Стилихона). Замечателен его мифологический эпос
«Похищение Прозерпины». Сохранились также наряду с его латинскими
произведениями несколько стихов на греческом языке.
[121] Верцингеториг – вождь кельтского
племени арвернов. В 52 г. до н. э. возглавил крупное восстание в Галлии против
Цезаря. Несмотря на достигнутый вначале успех при Герговии, восставшие были в
конце концов окружены в крепости Алезия и после длительной голодной осады
перебиты. В 46 г. до н. э. взятый в плен Верцингеториг среди прочих трофеев был
доставлен в триумфальной процессии в Рим и там задушен.
[122] Сидоний Соллий Модест Аполлинарий (430‑485)
– латинский писатель, родом из галльской аристократической семьи, зять
императора Авита. Сам Сидоний тоже достиг высоких почестей (468 г. – префект
Рима), в 469‑470 г. стал епископом Клермона. Защищал свой город от вестготов. В
своих стихах придерживается традиции Стация. В своих письмах подражает Плинию
Младшему. Эти письма – важное свидетельство духовной жизни Галлии V в. В
хвалебных стихах Сидоний прославляет нескольких императоров.
[123] Евтидемиды – династия царей Бактрии,
правившая с 235 по 85 гг. до н. э. Основана Евтидемом I (правил с 235 по 200
гг. до н.э.). При его сыне и преемнике Деметрии I (200‑185 гг. до н. э.)
бактрийцы распространили свою власть на значительную часть Индии.
[124] Невоздержанность (греч.).
[125] Воздержание (греч.).
[126] Труантизм (от англ. «truancy» –
«манкирование службой», «прогул школы») – Тойнби употребляет этот термин в
смысле несвязанности традиционными моральными нормами.
[127] Промискуитет (от лат.
«promiscuus» – «смешанный», «общий») – предполагаемая стадия ничем не
ограниченных отношений между полами, предшествовавших установлению в
человеческом обществе каких‑либо норм брака и семьи. Тойнби употребляет этот
термин более широко, в значении чувства всеобщего смешения, царящего в
обществе.
[128] Здесь: универсальный язык (лат).
[129] То, что [существует] везде, всегда и для всех (лат.).
[130] Алиби (лат.).
[131] Гипотетически (лат.).
[132] Антиох IV Эпифан (215‑164 гг. до н. э.)
– сирийский царь из династии Селевкидов, третий сын царя Антиоха III. После
поражения отца в войне с римлянами был доставлен как заложник в Рим, где прожил
14 лет и сделался горячим поклонником римского и греческого образа жизни. По
возвращении (правил с 175 г. до н. э.) попытался эллинизировать своих подданных‑евреев,
что вызвало массовое восстание последних под предводительством Маккавеев.
Официальное прозвание Антиоха – Эпифан (греч. – «Богоявленный») было
переделано современниками в Эпиман, что значит «сумасшедший».
[133] Агис IV (262‑241 гг. до н. э.) –
спартанский царь (с 245 г. до н. э.). Стремился к возрождению былого могущества
Спарты и начал ряд прогрессивных реформ, которые предусматривали раздачу
земельных владений, принадлежащих знати, безземельным спартанцам; пересмотр
норм, регулирующих имущественные отношения; возврат к строгим правилам жизни и
поведения, а также к строгому военному воспитанию по традиции Ликурга, чтобы
укрепить экономическое и политическое положение Спарты в Греции. Однако вскоре
был обвинен в стремлении к тирании и задушен по приговору эфоров. История Агиса
IV изложена в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.
[134] Клеомен III (ум. в 219 г. дон. э.)– спартанский царь (235‑222
гг. до н. э.). После победы Спарты над Ахейским союзом продолжил реформаторскую
деятельность царя Агиса IV действенными политическими мерами – ликвидировал
должность эфоров и герусию. Провел преобразования не только конституционно‑правового
характера, но и реорганизовал по македонскому образцу армию и перестроил
систему воспитания юношества в соответствии с принципами Ликурга. Стремясь
предотвратить революционизирующее влияние спартанских реформ и
воспрепятствовать распространению власти Спарты над всем Пелопоннесом, Арат и
Антигон Дозон заключили союз против Клеомена и разбили его при Селласии в 222
г. до н. э. Клеомен бежал в Египет и там покончил с собой. Политику его
продолжал Набис.
[135] Аррия (старшая) – жена Цецины Пета,
покончила с собой вместе с мужем, присужденным к смерти в 42 г. н. э.
[136] Цецина Пет (ум в 42 г. н. э.) – консул
в 37 г. н. э. Принимал участие в восстании, которое поднял консул Скрибониан
против императора Клавдия. Был приговорен к смертной казни и покончил с собой,
следуя примеру жены.
[137] Тразея Пет – последователь стоической
философии, родом из Патавия, консул в 56 г. н. э. Возмущаясь тиранией Нерона,
он перестал посещать заседания сената и празднества, устраиваемые в честь
императора. Враги Тразеи добились его осуждения в сенате. Ему разрешено было
выбрать род смерти, и он вскрыл себе вены.
[138] Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н. э. –
65 г. н. э.) – римский политический деятель, философ и писатель, представитель
стоицизма. Воспитатель императора Нерона. По его приказу покончил жизнь
самоубийством. Его философско‑этические сочинения «Письма к Луцилию», трактаты
и трагедии отличают презрение к смерти и проповедь свободы от страстей.
[139] Гельвидий Приск – претор в 70 г. н. э.
Изгнан из Италии по делу своего тестя Тразеи Пета. Возвращен императором Гальбой.
Вел себя в сенате свободно и смело, нападая на императора Веспасиана. Отправлен
вторично в изгнание и убит против воли самого Веспасиана.
[140] Йоханан бен Заккай (I в. н.э.) –
иудейский законоучитель. Во время Иудейской войны и осады Иерусалима (70 г. н.
э.) проповедовал прекращение кровопролития. Тайно бежал из города, вынесенный
учениками под видом покойника.
[141] Катон Марк Порций, прозванный Младшим,
или Утическим (95‑46 гг. до н. э.) – правнук знаменитого римского политического
деятеля Катона Старшего. Изучал в Риме философию, был приверженцем стоического
учения. В 72 г. до н. э. вместе с войсками Красса Катон сражался против
Спартака, в 62 г. в качестве трибуна голосовал в сенате с консулом Цицероном за
казнь участников заговора Катилины. Выступая за сохранение аристократической
республики, Катон видел в Цезаре опаснейшего врага и решительным образом
объявил себя его противником. В 49 г., с началом гражданской войны, вынужден
был бежать, спасаясь от Цезаря, через Сицилию, Родос и Кирену в Утику (Северная
Африка), где в 46 г. после поражения при Тапсе решился на добровольную смерть,
бросившись на собственный меч. Катон выступал как яростный поборник Римской
республики как государственной формы правления, позднее считался противником
единовластия. Своим современникам казался самодовольным политиком и
доктринером. Несмотря на это, его влияние было столь огромным, что Цезарь
вынужден был написать два памфлета, направленные против прославления Катона его
сторонниками, в первую очередь Цицероном.
[142] Отеческое государство (греч.).
[143] Война за освобождение (нем.).
[144] Имеется в виду эпизод, связанный с обращением
благочестивого язычника, сотника Корнилия, из Деяний святых апостолов. Когда
посыльные Корнилия приближались к дому, где гостил апостол Петр, тому явилось
следующее видение: «…Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться. И
почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в
исступление и видит отверстое небо и нисходящий к нему некоторый сосуд, как бы
большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем
находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.
И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я
никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к
нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд
опять поднялся на небо» (Деян. 10, 9‑16).
[145] Град Божий (лат.).
[146] Ессеи (вер. – «зрители небесных
откровений», или «исполнители закона») – приверженцы общественно‑религиозного
течения в Иудее во второй половине II в. до н.э. – I в. н. э. Отличались от
фарисеев тем, что не принимали никакого предания и не держались строгого
обрядового закона, а от саддукеев – тем, что верили в будущую жизнь и жили в
строгом самоотвержении. По отношению к Священному Писанию предпочитали не
буквальное понимание, но мистическое и аллегорическое толкование текста, доходя
при этом до самых странных и фантастических суждений. После Иудейской войны 66‑73
гг. часть ессеев влилась в иудео‑христианские общины.
[147] Лингам (линга) (dp.‑инд. «linga»
– «характеристика», «знак пола») – в древнеиндийской мифологии и различных
течениях индуизма символ божественной производящей силы, обозначение мужского
детородного органа. Поклонение лингаму как одно из проявлений фаллического
культа восходит уже к протоиндийской (хараппской) цивилизации и
засвидетельствовано в «Риггеде». Наибольшее распространение культ лингама
получил в шиваизме. Изображение лингама в виде каменного столба играет важную
роль в ритуале различных шиваитских сект и служит предметом поклонения.
[148] «Ты ищешь монумента, погляди вокруг!» (лат.).
[149] Строгость (.тт.).
[150] Клеопатра VII (69‑30 гг. до н. э.) –
последняя царица Египта из династии Птолемеев (с 51 г. до н. э.). Умная и образованная
Клеопатра сначала была любовницей Юлия Цезаря, а после 41 г. до н. э. – Марка
Антония (с 37 г. – жена). После поражения в войне с Римом и вступления в Египет
римской армии Октавиана (Августа) покончила жизнь самоубийством.
[151] Смерть римский император Марк Аврелий встретил
с глубоким спокойствием, как и подобает философу‑стоику. В лагерной стоянке на
берегу Дуная, около современной Вены, он заболел тяжелой болезнью (чумой),
смертельный исход которой признал сразу, и уже не принимал ни пищи, ни питья.
Его выносливость в болезни поражала окружающих. Он умер 17 марта 180 г.
совершенно один, во избежание заразы никого не допуская к своей постели.
[152] Коммод Марк Аврелий Антонин (161‑192) –
римский император с 180 г. Уже в 166 г. был провозглашен цезарем, а в 177 г. –
августом и соправителем отца Марка Аврелия. Вступив на императорский престол,
поспешил заключить мир с маркоманами, квадами и сарматами, отказавшись от
агрессивной политики своих предшественников в придунайских районах.
Одновременно им были подавлены многочисленные восстания в провинциях Британии,
Галлии, Германии и Африке. В период своего правления Коммод всецело опирался на
римскую армию и поручил управление государством преторианским префектам и своим
фаворитам. Он покончил с благосклонной к сенату прежней политикой отца,
требовал своего обожествления, участвовал в боях гладиаторов, всемерно поощрял
распространение ближневосточных культов и стремился к установлению
неограниченной самодержавной монархии. Был убит в результате дворцового
заговора.
[153] Святой Игнатий (Богоносец) (t 107) –
епископ Антиохийский (ок. 70), ученик св. апостола Иоанна Богослова. В 107 г.
за отказ принимать участие в празднествах по случаю отправления на войну с
персами императора Траяна был приговорен к смертной казни. «Игнатия приковать к
воинам и отправить в Рим на съедение зверям для увеселения народа», – гласило
императорское решение. По дороге в Рим, на место своего мученичества, Игнатий
написал семь посланий к разным Церквам, которые представляют собой весьма
ценный памятник для истории раннего христианства. Растерзан дикими зверями на
арене амфитеатра 20 декабря 107 г.
[154] «Предательство клерков (клириков)» (фр).
[155] Так называлась вышедшая в 1927 г. в свет и
снискавшая шумный успех книга французского философа и писателя Жюльена Бенда
(Julien Benda; 1867‑1956), обвинявшая интеллектуалов в политической
ангажированности и отступничестве.
[156] Булей Томас (1475‑1530) – английский
государственный деятель, кардинал и лорд‑канцлер при Генрихе VIII. В 1511 ‑1529
гг. фактический правитель Англии. По требованию короля пытался добиться
согласия папы римского на развод короля Генриха с Екатериной Арагонской. Когда
эта затея не удалась, Вулси был обвинен королем в измене, арестован и скончался
в ожидании суда.
[157] Фишер Джон (ок. 1469‑1535) – епископ,
английский гуманист, друг Томаса Мора. Отказался принести присягу английскому
королю Генриху VIII как «верховному главе» англиканской Церкви и в 1535 г. был
казнен по обвинению в государственной измене. В 1935 г. канонизирован
католической Церковью.
[158] Мор Томас (1478‑1535) – английский
государственный деятель, гуманист и писатель. В 1529‑1532 гг. – канцлер Англии.
Будучи католиком, отказался принести присягу королю как «верховному главе»
англиканской Церкви, после чего был обвинен в государственной измене и казнен.
В 1935 г. канонизирован католической Церковью.
[159] Автоматия (Aurofiarta) – богиня случая,
счастья. Культ богини случая (у греков – Тихэ, у римлян – Фортуна) особенно
распространился в эпоху эллинизма, когда пошатнулась, а кое‑где и была утрачена
вера в богов, когда в результате кровопролитных боев Александра Македонского и
диадохов распался союз полисов и казалось, что над всем миром царит слепой рок.
Ряд городов считали Тихэ своей богиней‑покровительницей (например, Антиохия и
Александрия). Считалось, что эта богиня сопровождает людей на протяжении всей
жизни.
[160] Тимолеон – командующий коринфским
отрядом, который по просьбе находившихся в изгнании сиракузян высадился на
Сицилию и изгнал с острова тирана Дионисия II и карфагенян (341 г. до н. э.).
Согласно мирному договору (339 г. до н. э.), Карфаген признал независимость
греческих городов на Сицилии, которые Тимолеон объединил в федеративный союз.
Тем самым Тимолеону удалось установить на острове мир. Греки почитали его как
освободителя и спасителя Сицилии.
[161] «Позволяйте делать (кто что хочет)» (фр.).
[162] Самолюбие (лат.).
[163] Упоминание вымышленного Браунингом поэта
Клеона в качестве иллюстрации аргумента из предыдущего параграфа в данном
случае вполне уместно, несмотря на то, что теологическая проблема, предложенная
на рассмотрение Клеону царем Протусом, касалась не чувства греха, а бессмертия
души.
[164] Одновременно (лат.).
[165] Кайсар‑и‑Рум (от искаженного «кайсар» –
«цезарь») – турецкое название Римской империи, а после завоевания турками
Византии – и самоназвание самой Оттоманской империи.
[166] «Серебряный век» («серебряная латынь»)
– название эпохи в истории римской литературы от смерти императора Августа до
смерти Траяна (14‑117 гг. н. э.). В это постклассическое столетие римская
литература во многих своих проявлениях носила эпигонский характер. На развитии
поэзии и прозы сказалось все возраставшее влияние риторики. Преобладавшее в
эпоху Августа уважительное отношение писателей к императорской власти
впоследствии совершенно исчезло. Историческая обстановка располагала скорее к
сатирическому изображению действительности. Продолжателями традиции
стихотворной сатиры стали Персии и Ювенал, а мениппова сатира (смесь прозы и
стихов) нашла место в творчестве Сенеки и Петрония. Сатирическое изображение
нравов составляет главное содержание эпиграмматической поэзии Марциала.
[167] Хогарш Уильям (1697‑1764) – английский
живописец, график, теоретик искусства. Основоположник социально‑критического
направления в европейском искусстве. Мастер сатирического бытового жанра,
разоблачающего пороки аристократии (серии картин «Карьера проститутки», 1730‑1731,
«Карьера мота», 1732‑1735, «Выборы», ок. 1754, все изданные в гравюрах),
демократического, смелого по живописи жанрового портрета («Девушка с
креветками»).
[168] В моде (фр.).
[169] Теодорих Великий (454‑526) – король
остготов (с 471). В детстве был заложником в Константинополе. Став королем
остготов, воевал по приказу византийского императора Зенона против Одоакра.
После взятия Равенны и убийства в 493 г. Одоакра основал в Италии относительно
независимое от Византийской империи государство остготов. Проводил политику
сближения остготов с франками, вестготами, бургундами, вандалами и, особенно, с
римлянами, для чего поручал военные должности готам, а гражданские передал в
руки знатных римлян. Однако эта политика Теодориха потерпела крах, а вследствие
борьбы за власть среди многочисленных жертв оказался и Боэций, философ и
советник Теодориха, которого обвинили в государственной измене.
[170] Скандербег (настоящее имя ГеоргКастриоти)
(ок. 1405‑1468) – национальный герой Албании. Возглавив в 1443 г. народное
восстание, освободил от османского господства часть территории страны. Был
инициатором создания Лежской лиги, главнокомандующим ее армии. Успешно отразил
неоднократные нашествия османских войск.
[171] Филипп Македонский – имеется в виду
отец Александра Македонского Филипп II (382‑336 гг. до н. э.), с 359 г. до н.
э. – регент, а с 355 г. – царь Македонии, положивший основу македонскому
господству в Греции и создавший предпосылки для учреждения мировой державы
своего сына. По примеру Фив, где был заложником у Эпаминонда, Филипп
реорганизовал македонское войско, завершил объединение Македонии в единое
государство, ввел единую монетную систему. В 359‑336 гг. до н. э. завоевал
Фессалию, часть Иллирии, Эпир, Фракию и другие земли. К338 г. до н. э., после
битвы при Херонее, установил господство над Грецией.
[172] Эпаминонд (ок. 418‑462 гг. до н.э.) –
беотийский государственный деятель и полководец. В 379 г. до н. э. вместе с
Пелопидом основал Беотийское федеративное государство и при новом
государственном порядке реорганизовал войско (гражданское ополчение, создание
ударных отрядов, «священная дружина», «боевой союз друзей», вооружение длинными
копьями), что послужило предпосылками роста фиванского влияния в качестве
третьей политической силы в Греции (после Спарты и Афин). В 371 г. до н. э.
победил спартанцев в битве при Левктрах, где впервые применил новую военную
тактику («косой клин»), а в 362 г. – в битве при Мантинее.
[173] Абдалъ‑Керим (1881 или 1882‑1963) –
вождь восстания рифских племен Марокко и глава Рифской республики (1921‑1926).
После подавления восстания сослан. В 1948‑1956 гг. в Каире возглавлял Комитет
освобождения Арабского Магриба.
[174] Вортегирн – легендарный король
Британии, который, согласно преданию, ведя войну против пиктов, пригласил на
помощь германцев, что послужило толчком к последующему завоеванию острова
германскими племенами.
[175] Хенгист (ум. ок. 488) и Хоре
(ум. 455) – братья, вожди первого поселения ютов в Британии. Около 440 г.
возглавили тевтонское вторжение в Южную Британию и завоевали королевство Кент.
[176] «Блистательная Порта» (фр. «Porte», итал.
«Porta», буквально – «дверь», «врата») (также Высокая, или Оттоманская, Порта)
– принятое в европейских документах и литературе (в Средние века и Новое время)
название правительства Османской империи.
[177] Грациан (359‑383) – римский император с
375 г. Под влиянием своего воспитателя и советника поэта Авсония старался
наладить добрые отношения с сенатом. В 378‑383 гг. по его инициативе велась
война с алеманнами, сарматами и вестготами на Рейне и Дунае. После поражения у
Адрианополя и смерти своего дяди Валента назначил императором Востока Феодосия
I. Как ревностный христианин, Грациан под влиянием Амвросия Медиоланского
выступил против язычников, ариан и донатистов. Сложил с себя обязанности
великого понтифика (жреца) и покончил с терпимостью в отношении различных
направлений веры. Когда начался мятеж узурпатора Максима в Британии, император
был покинут своими отрядами и убит.
[178] В 507 г. около города Пуатье франкский король
Хлодвиг разбил вестготов, возглавляемых королем Аларихом II, что обеспечило
захват франками Юго‑Западной Галлии.
[179] Баальбек (греч. – Гелиополис) – эллинистическо‑финикийский
город в Ливане, являвшийся со времен императора Августа римской колонией со
знаменитым культом Юпитера Гелиопольского, Венеры и Меркурия. Немецкие
раскопки, проведенные в 1898‑1905 гг., выявили большой храмовый комплекс I–III
вв. до н. э. От главного большого храма, к алтарному двору которого вела
роскошная пристройка с открытой лестницей, сохранились лишь немногочисленные
детали. Лучше сохранился храм Вакха и небольшой, посвященный, по всей
вероятности, Фортуне круглый храм. Постройки Баальбека являются важными
памятниками архитектуры времен сирийских царств.
[180] «Франкское наречие» (итал.). Здесь в
значении смешанного универсального языка, употребляемого для общения различных
народов.
[181] Мальчики‑рабы (тур.).
[182] Джелам – река в Индии и Пакистане (в
Пенджабе), правый приток реки Чинаб (бассейн Инда).
[183] «Общий язык» (греч.). Сформировавшийся
в период эллинизма в процессе создания державы Александра Македонского общий
язык всех греков, в котором растворились все диалекты греческого языка.
[184] Септуагинта (лат. «Septuaginta» –
«семьдесят») – перевод Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий.
Был осуществлен, согласно легенде, 70 переводчиками, приехавшими из Иерусалима
в Александрию, в III–II вв. до н. э. для иудеев, живших в диаспоре. Септуагинта
содержит девять текстов, которые отсутствуют в еврейской редакции. Остальные
тексты были переработаны либо расширены. Христиане использовали Септуагинту в
своей миссионерской пропаганде, что способствовало ее быстрому распространению.
Впоследствии Септуагинта вошла в число канонических священных текстов.
[185] «Кухонная латынь» (coquinaria или
culinaria latinitas) – с помощью этого понятия, содержащего в себе насмешку над
латынью гуманиста Поджо Браччолини, Лоренцо Валла уподобил своего противника
повару, профессия которого не считалась почетной. С XVI столетия термин
«кухонная латынь» служит обозначением испорченного языка, пренебрегающего
основными правилами грамматики и словообразования классической латыни, то есть,
прежде всего, латинский язык Церкви и средневековых университетов.
[186] Поле развалин (нем.).
[187] В процессе работы над «Исследованием истории»
Тойнби неоднократно менял свою концепцию. В частности, это касается истории
западно‑христианской цивилизации. Наряду с недоразвившейся дальнезападной
цивилизацией он выделяет еще одну недоразвившуюся цивилизацию – «космос
средневековых городов‑государств», в который входили средневековые итальянские
и фламандские города‑государства, имперские города Германии и города Ганзы.
Впоследствии эта цивилизация была поглощена западно‑христианской цивилизацией.
[188] Эленби Эдмунд Генри Хинман, 1‑й виконт
(1861‑1936) – британский фельдмаршал. Во время Первой мировой войны командовал
британскими войсками в Египте. Захватил в 1918 г. у турок Палестину и Сирию. С
1919 по 1925 гг. был верховным комиссаром в Египте.
[189] Всесмешение (греч.)
[190] Гоминьдан (кит. – «национальная
партия») – правящая политическая партия в Китае с 1928 по 1949 гг. Основана
Сунь Ятсеном в 1912 г. В 1924‑1927 гг. вела в блоке с коммунистической партией
Китая антиимпериалистическую национально‑освободительную борьбу. В 1925 г.
партию возглавил Чан Кайши, который совершил в 1927 г. переворот и установил
свою диктатуру. После победы народной революции в 1949 г., разгромившей вооруженные
силы гоминьдана, сторонники Чан Кайши укрылись на острове Тайвань.
[191] Божества (лат.).
[192] Энлиль (шумер. – «владыка‑ветер»?) –
один из главных богов шумеро‑аккадского пантеона, бог‑покровитель Ниппура,
древнейшего центра шумерского племенного союза. Очень рано стал общешумерским
богом.
[193] Харбе – касситское божество,
отождествлявшееся с вавилонским богом Энлилем. Возможно, вместе с Шиху
представляли собой две ипостаси одного и того же божества. В некоторых текстах
Харбе отождествлялся с богом неба Ану, а Шиху – с богом луны Сином.
[194] Государственная необходимость (фр.).
[195] Друге другом (лат.).
[196] Посидоний из Апамеи (СирияНок. 135‑51
гг. до н. э.) – древнегреческий философ, историк, географ и астроном. Ученик
Панэция в Афинах, крупнейший представитель Средней Стой, глава школы на острове
Родос, где примерно с 97 г. до н. э. был учителем благородных римлян, среди
которых были Цицерон и Помпеи. Пытался соединить учение Древней Стой с идеями
Платона и Аристотеля.
[197] Сближение (фр.).
[198] Синоптическими (от греч. συνοπτικός
– «способный обозреть») называются первые три Евангелия (от Матфея, Марка и
Луки), имеющие большое сходство в содержании и стилистике, что позволяет свести
их в единый «Синопсис» (греч. σύνοψις – «обозрение»).
[199] Климент Александрийский, Тит Флавий
(ок. 150 – ок. 215) – христианский богослов и писатель из Александрии. В 202‑203
гг. бежал спасаясь от преследования императора Септимия Севера в Каппадокию,
где и умер. Им написаны «Увещание к язычникам», «Педагог», «Строматы» и др.
Стремился к синтезу эллинской культуры и христианской веры, не ощущая глубоких
противоречий между двумя идейными мирами, к которым он принадлежал. С
известными оговорками ставил античную философию наравне с Библией.
[200] Ориген Александрийский (ок. 185‑253 или
254) – христианский богослов, философ и ученый, представитель ранней
патристики, вел аскетическую жизнь. Около 217 г. возглавил христианскую
катехитическую школу в Александрии. Благодаря синтезу христианской веры,
эллинистической образованности и неоплатонической философии, а также созданию
собственной теологической системы Ориген способствовал развитию всех
теологических направлений последующих эпох. Он считал свою систему
ортодоксальной, но уже в первой оригенистической дискуссии (около 400 г. н. э.)
его ортодоксальность была поставлена под сомнение, а на Вселенском соборе 553
г. Ориген был окончательно осужден.
[201] Хозяин дома, в котором происходит действие
диалога Платона «Государство», – почтенный старец Кефал, известный оратор, по
происхождению сицилиец, сын Лисания и отец знаменитого оратора Лисия,
приехавший в Афины по приглашению Перикла, проживший там тридцать лет и умерший
в 404 г. до н. э.
[202] Богиня Бендида, о которой идет речь, примерно
с конца V в. до н. э. стала отождествляться с Артемидой, что объяснялось
фракийским влиянием. По этой причине Бендида являлась, видимо, богиней охоты и
природы. В Пирее были святилища этой богини, о чем свидетельствует также и
Ксенофонт в «Греческой истории».
[203] Галлион Марк Анней – брат знаменитого
философа‑стоика Сенеки, который посвятил ему свои книги «О гневе». Упоминается
в Новом Завете (Деян. 18, 12‑17). Римский император Клавдий назначил его
проконсулом в Ахайю в 53 г. н. э., где он и жил в городе Коринфе. Во время
своего проконсульства он по случаю возмущения в Коринфе иудеев против апостола
Павла проявил себя человеком рассудительным и правдивым. По свидетельству
Иеронима, Галлион окончил жизнь самоубийством в 65 г.
[204] Святой Симеон Столпник (ок. 390‑459) –
сирийский монах, первый из столпников (христианских аскетов, проводивших свою
жизнь на небольшом пространстве верхушки колонны – столпа). По свидетельствам
Евагрия и Никифора, взошел на столп вышиной в 40 локтей и стоял на нем 47 лет.
Память его празднуется Церковью 1 сентября (по ст. ст.).
[205] Непросвещенная чернь (лат.).
[206] Ямвлих из Халкиды (Сирия) (ок. 280 –
ок. 330 гг. н. э.) – греческий философ. Основал сирийскую школу неоплатонизма,
сплавив это учение с восточными представлениями о богах и пытаясь создать в
противовес христианству целостную религиозно‑философскую систему. Первопринцип
Ямвлиха превосходит даже Первоединое Плотина.
[207] Прокл (412‑485) – греческий философ‑неоплатоник.
С его именем связан расцвет и систематическое завершение неоплатонизма.
Выстроил схему нисходящего последовательного перехода от высшего единого,
божественного и благого бытия к богам единичным, потом к богам, стоящим на
грани видимого и невидимого миров – предельного и беспредельного; далее следуют
мыслящие боги, которым подчинены мыслящие души, затем «души демонические», к
которым относятся ангелы, собственно демоны и герои; еще ниже располагаются
«частичные души», способные одушевлять тела (в том числе и человеческие души).
Ниже всего – неодушевленные тела. В эту расчлененную иерархическую структуру
Прокл включает традиционных греческих богов, распределяя их по триадам и
разделяя на трансцендентных и космических. По свидетельству Марина, говорил,
что философ должен быть «иереем целого мира».
[208] Формула cuius regio eius religio («чья
страна, того и вера», т. е. правитель устанавливает религию) – традиционное
резюме важнейшего постановления, содержащегося в Аугсбургском договоре 1555 г.,
согласно которому за правителем каждого местного германского государства
признавалось право выбирать или католическую или лютеранскую форму
христианства, а затем, если он пожелает, настойчиво требовать от своих
подданных подчинения религии, установленной им самим. За договором последовала
первая нерешительная вспышка религиозных войн в Германии.
[209] Солдатские императоры – правители
Римской империи в период с 235 по 284 гг., как правило, быстро сменявшие один
другого. Войско являлось опорой трона не только при солдатских императорах. Оно
было теснейшим образом связано с властью с первых лет Империи. В I‑III вв.
власть в Риме менялась неоднократно, при этом большую роль играла преторианская
гвардия. Но ко времени солдатских императоров легионеры провинций все чаще
стали провозглашать своих военачальников верховными правителями, что приводило
к гражданским войнам. Такой способ захвата трона характерен для кризиса Империи
в III в.
[210] Аврелиан Луций Домиций (214‑275) –
римский император (с 270), разбивший алеманнов, ютунгов, сарматов, готов и
вандалов, а также Зиновию, царицу Пальмиры (272). Аврелиану удалось
воссоединить с Империей почти все области и восстановить ее единство. Для
укрепления Империи провел денежную реформу и ввел культ ближневосточного бога Солнца
(Sol Invictus), который был в 274 г. провозглашен высшим государственным
божеством. Правление Аврелиана подготовило начавшийся с правления Диоклетиана
доминат как выражение неограниченной власти императора. Первым стал официально
именоваться Господином и Богом (Dominus et Deus) и носить диадему. Пал жертвой
заговора во время похода против персов.
[211] Констанций I Хлор, Флавий Валерий (ок.
250‑306) – римский император (с 305), отец Константина Великого. Сын
романизированного иллирийца, Констанций был сначала наместником в Далмации,
затем усыновлен в 293 г. Максимианом, провозглашен цезарем и соправителем,
получил в удел Галлию и отвоеванную им у узурпаторов Британию и основал свою
резиденцию в Трире. В 294‑299 гг. на рейнской линии разбил франков, фризов и
алеманнов. Когда Диоклетиан организовал гонения на христиан, Констанций в своих
провинциях не придал им кровавого характера. В 305 г. после отречения
Диоклетиана Констанций стал августом западной части Римской империи. Умер во
время похода против пиктов и скотов в Эборакуме (Йорке) в 306 г. Явился
основателем династии Констанциев, или второй династии Флавиев.
[212] Сол (лат. «sol» – «Солнце») – римский
солнечный бог, культ которого возник очень рано. Соответствует греческому
Гелиосу. Во время гонок в цирке Сол охранял колесницы, запряженные четверней,
во времена Империи отождествлялся с восточными божествами (в особенности с персидским
богом света Митрой). Император Гелиогабал в 218 г. перевез со своей родины
Эмесы в Рим идол Сола Непобедимого, а император Аврелиан в 274 г. ввел в Риме
культ бога Сола Непобедимого, праздник которого отмечался 25 декабря.
[213] Ур‑Енгур – устаревшее чтение имени царя
города Ура Ур‑Намму (ум. ок. 2094 г. до н. э.), правившего ок. 2112‑2094 гг. до
н. э. Из надписей этого царя известно, что Ур‑Намму происходил из знатного
урукского рода. Судя по всему, царь Урука Утухенгаль сделал его наместником в
Уре. После внезапной смерти своего господина Ур‑Намму принял царский титул и в
короткий срок овладел всем Двуречьем, создав таким образом, по терминологии
Тойнби, «универсальное государство». Один из первых его походов был направлен
против Лагаша. Он сверг правившую там династию и покончил с царем Наммахини.
Центр индийской и аравийской торговли переместился после этого из Лагаша в Ур.
Объединив под своей властью Месопотамию, Ур‑Намму занялся организацией
оросительных работ.
[214] Имеется в виду сын и наследник Ур‑Намму, царь
Шумера и Аккада Шульги (а не Дунги) (ум. в 2046 г. до н. э.), правивший в 2093‑2046
гг. до н. э. При нем Ур достиг своего наивысшего могущества. Шульги вел
многочисленные и успешные войны против эламитов и других соседей на севере,
западе и востоке. Его власть распространялась на все Междуречье от Персидского
залива на юге до Сирии на севере. При нем была ликвидирована не только
независимость отдельных областей, но и внутренняя автономия храмовых и сельских
общин. Значительная часть храмовых земель стала собственностью царской семьи.
При Шульги сложилось грандиозное царское (государственное) хозяйство, имевшее
сложную, разветвленную систему управления и отчетности, о чем свидетельствуют
десятки тысяч дошедших до нас учетных документов.
[215] Александр Яннай (ум. 76 г. до н. э.) –
царь Иудеи из династии Хасмонеев (103‑76 гг. до н. э.), младший сын царя
Гиркана I. Во время правления своего старшего брата Аристобула был посажен в
темницу. После смерти Аристобула его вдова освободила Александра и
провозгласила царем. Он начал свое правление с того, что с помощью кипрского
царя Птолемея Лафура подчинил себе правителя Газы Зоила. Затем между бывшими
союзниками началась длительная война, проходившая с переменным успехом. После
ряда поражений и восстаний внутри страны Александру удалось при помощи жестоких
мер водворить мир, после чего он вновь приступил к внешним завоеваниям: взял
Дий, Ессу, Гауланию, Селевкию, Стратонову Башню, Азот, Рафию, Скифополь и
некоторые другие города. Последние три года страдал лихорадкой, однако не
прекращал походов и умер во время осады Раганы.
[216] Нантский эдикт – эдикт, подписанный 13
апреля 1598 г. французским королем Генрихом IV в Нанте и завершивший
религиозные войны во Франции. По Нантскому эдикту, католицизм оставался
господствующей религией, но гугеноты получали свободу вероисповедания и
богослужения в городах (за исключением Парижа и некоторых других), в своих
замках и ряде сельских местностей, а также некоторые другие права. Отменен
окончательно в 1685 г. при Людовике XIV.
[217] Батлер Джозеф (1692‑1752) – английский
епископ, теолог и писатель. В 1726 г. опубликовал «Пятнадцать проповедей о
человеческой природе», где изложены его размышления об этике. Теологические
идеи Батлера изложены в работе «Аналогия религии, естественной и Откровения, с
устройством и движением природы»; в «Шести проповедях, произнесенных по
общественным поводам» (1748) автор распространяет эти идеи на политическую
сферу.
[218] Англо‑католическое движение (называвшееся в то
время «ритуализмом») было почти всецело движением простого духовенства, а не
епископата или мирян. Кроме вопроса о духовной привлекательности, оно
удовлетворяло специфическим вероисповедным нуждам англиканского духовенства
того времени. В конце XVIII – начале XIX в. практически не было никакого
различия в учении между большинством из них и большинством сектантских
священнослужителей. Выгодное преимущество, которым они пользовались по
сравнению со своими конкурентами, было узаконено, поскольку государство лишало
последних и их паству гражданских и образовательных прав. Однако между 1828 и
1871 гг. все эти запреты были отменены. Пока англиканство не восстановило
некоторые убедительные доктринальные различия, его духовенству было трудно
отстаивать любую исключительную вероисповедную позицию. Здесь новое движение
прямо пошло к цели. Выдвинув на первый план идею спасения через благодать,
получаемую в таинствах, которые действительны лишь в том случаегесли
они совершаются священником, рукоположенным в сан епископом, оно удовлетворяло
именно той потребности, в которой нуждалось данное вероисповедание. Поэтому
неудивительно, что хотя епископы были к нему равнодушны, а миряне, как правило,
прямо враждебны, рядовое духовенство, включая многих наиболее способных
священников, все более и более соглашалось с этим движением. К 1874 г. движение
зашло так далеко, что архиепископом Кентерберийским на рассмотрение парламента
был внесен Законопроект об общественном богослужении, задуманный для
ограничения этого движения. Проект был утвержден при поддержке Шефтсбери и
Дизраэли. В последующие годы эта мера не была оставлена без употребления. В
одном только 1880 г. священники из пяти различных приходов были привлечены к
суду по этому закону, и, по крайней мере, один был посажен в тюрьму. Однако
преследования, скорее, еще более обострили антиевангелический характер
движения, нежели смогли нанести ему поражение.
[219] Муавия I (ок. 602‑680) – основатель и
первый халиф (с 661) династии Омейядов.
[220] На первый взгляд (лат.).
[221] Аурангзеб (1618‑1707) – правитель
империи Великих Моголов в Индии с 1658 г. В борьбе за престол уничтожил своих
братьев, арестовал и держал в заключении отца. Завершил завоевание центральных
и южных областей полуострова Индостан. Преследовал индусов.
[222] Аль‑Хаким – шестой фатимидский халиф,
правил Египтом и Северной Африкой с 996 по 1021 гг. Он разрушил Церковь Гроба
Господня в 1009 г. и объявил о своей божественности. Члены основанной им секты
друзов живут и сейчас, в основном в горных районах Ливана и Сирии. Религия
друзов представляет собой смесь мусульманства с христианскими и иудейскими
верованиями. Друзы до сих пор почитают аль‑Хакима божеством.
[223] Барий Авит Бассиан – настоящее имя
римского императора с 218г. Элагабала, или Гелиогабала (204‑222),
происходившего из сирийской крупнопоместной аристократии, рода жрецов города
Эмес (Хомс). С 217 г. был верховным жрецом бога солнца Элагабала, от которого и
получил свое прозвище. Благодаря влиянию своей бабки Юлии Мезы, сестра которой
Юлия Домна была супругой императора Септимия Севера, стал императором. Пытался
сделать сирийского бога Солнца универсальным государственным богом и его культ
превратить в общеримский. Опрометчивая ориентализация, расточительный образ
жизни и хозяйничанье фаворитов быстро породили всеобщую оппозицию, и в
результате Элагабал был убит преторианцами.
[224] Серапис (греч. Serapis, егип.
Osiris‑Apis) – бог плодородия, подземного царства, моря и здоровья. Изображался
в виде человека с мерой зерна на голове. Птолемей I ввел его культ в
Александрии и всячески его пропагандировал. Он приказал перевезти из Синопы
(Малая Азия) культовое изображение Зевса, которому дал имя, составленное из
имен божественного быка Аписа и бога мертвых – Осириса. К Серапису как
верховному божеству портового города Александрия обращались мореплаватели.
Наряду с культом Исиды культ Сераписа распространился по всему
средиземноморскому миру.
[225] Келесирия (греч. «Полая Сирия») – часть
Сирии между горными цепями Ливан и Антиливан; затем – общее именование Южной
Сирии и Палестины. За Келесирию боролись Птолемеи и Селевкиды. Из‑за нее было
развязано несколько Сирийских войн, так как эта область была важной в
экономическом и политическом отношении.
[226] Писистрат (ок. 600‑528 гг. до н. э.) –
афинский тиран с 561‑560 гг. до н. э. Происходил из аристократического рода.
Отличился в войне 565 г. до н. э. против Мегары. В политической борьбе,
разразившейся в Афинах после реформ Солона, Писистрат стал во главе диакриев.
Опираясь на наемников, он победил в борьбе против крупных землевладельцев,
ремесленников и купцов и в 561 г. установил свою тиранию. Дважды был изгнан, но
смог восстановить свою власть. В 527 г. он передал по наследству власть своим
сыновьям Гиппию и Гиппарху.
[227] Ала уд‑дин Хильджи (ум. 1316) –
делийский султан (1296– 1316). Пришел к власти в результате переворота и
убийства своего дяди султана Джалал уд‑дина. В стремлении сплотить своевольных
эмиров осуществлял активную завоевательную политику, предпринял ряд мер по
укреплению армии и централизации страны. В целях укрепления государства с его
многообразным в этноконфессиональном отношении населением имел намерение
создать некую общую для мусульман и индусов религию, при этом претендуя на
миссию пророка и основателя новой веры. Тирания и жестокость султана
восстановили против него различные социальные слои, и Ала уд‑дину пришлось
пережить крушение собственной политики и честолюбивых замыслов. Его сын начал
свое правление с отмены всех реформ отца.
[228] Гражданский статус духовенства был принят
Национальным собранием 12 июля 1790 г., некоторые дополнительные параграфы были
добавлены 24 июля, а обнародован он был в качестве закона 24 августа. Отношения
Церкви и государства во Франции при старом режиме были столь тесными, что
революция в государстве неизбежно затрагивала и права Церкви, и привилегии
духовенства. Но Национальное собрание не удовлетворилось этими неизбежными
изменениями во внешних отношениях государства к Церкви. Оно стремилось не
больше не меньше, как к массовой реконструкции национальной Церкви. Реформация
галликанской Церкви Национальным собранием была даже более радикальной, чем
реформация Церкви в Англии Генрихом VIII. Национальное собрание не только
распустило монастыри и отменило религиозные ордена, создало национальную
Церковь, как в Англии, которая на практике являлась всецело зависимой от
государства. Оно пошло даже гораздо дальше английской реформации в деле
массовой конфискации церковного имущества и в революционных изменениях иерархии
и церковной организации. Древние церковные архиепископские и епископские
епархии были уничтожены, а в качестве епархиальной единицы был взят
департамент. И епископы, и приходские священники должны были избираться на
выборах, подобно другим муниципальным чиновникам, теми же самыми избирателями:
епископы – избирателями департамента, а священники – избирателями округа.
Гражданский статус духовенства явился в основном делом рук таких юристов, как
Ланжунеи Камюс, представлявших галликанские и янсенистские идеалы старой
парламентской оппозиции.
[229] После отмены введенного гебертистами Культа
Разума по настоянию Робеспьера 7 мая 1794 г. был введен культ Верховного
Существа, формулируемый в духе деистической философии Просвещения, в первую
очередь философии Ж.‑Ж. Руссо. Робеспьер был противником атеизма, которому он
желал противопоставить (как и христианству) «естественную религию», признающую
существование Верховного Существа и бессмертие души. Данный культ должен был
иметь общественный характер с целью развития гражданственности и республиканской
морали. Первое и единственное празднество в честь Верховного Существа
отмечалось 20 прериаля II года (8 июня 1794 г.). После падения якобинской
диктатуры культ был незамедлительно отменен.
[230] Верховное Существо (фр.).
[231] Ла Ревельер‑Лепо, Луи Мари (1753‑1824)
– французский политический деятель. В 1789 г. был выбран в Национальное
собрание, где принадлежал к левой партии. В Конвенте горячо заступался за
жирондистов. В 1793 г. был изгнан. По возвращении сделался в 1795 г. членом
Директории. Будучи представителем крайнего направления в Директории, он вместе
с Баррасом совершил государственный переворот 18 фрюктидора. За отказ признать
переворот Бонапарта был лишен своей должности и остаток жизни прожил в
бедности.
[232] Талейран, Талейран‑Перигор, Шарль Морис
(1754‑1838), князь Беневентский (1806‑1815), герцог Дино (с 1817) – французский
дипломат, государственный деятель. Получил духовное образование. Аббат, в 1775
г. генеральный викарий в Реймсе; в 1788‑1791 – епископ Отенский. В 1789 г.
избран депутатом в Генеральные штаты от духовенства, примкнул к представителям
третьего сословия. Инициатор декрета о передаче церковного имущества в
распоряжение нации (ноябрь 1789). В 1791 г. отлучен римским папой от Церкви.
Один из выдающихся представителей так называемой классической дипломатии.
«Слуга всех господ», предававший их поочередно, ловкий политик, мастер
закулисной интриги. В течение жизни ему, по собственному признанию, пришлось
принести 14 противоречивших одна другой присяг.
[233] Религия страны – религия правителя (лат.).
[234] Эти знаменитые слова французский король Генрих
IV (1553‑1610), бывший гугенотом, произнес, когда решил перейти в католичество,
чтобы обеспечить себе тем самым французский престол.
[235] У‑ди (ум. в 187 г. до н.э.) – император
Китая из династии Западная Хань (140‑187 гг. до н. э.). Его царствование было
одним из наиболее долгих и плодотворных в истории Китая. Именно тогда
конфуцианство официально стало основой образа жизни китайцев. Как сообщает
китайский историк Сыма Цянь, У‑ди уже в юности был горячим приверженцем учения
Конфуция, а взойдя на престол, он собрал вокруг себя сотни выдающихся
конфуцианцев и время от времени обращался к ним с вопросами: как следует
управлять империей, как подбирать помощников и чиновников, как прикладывать
древнюю мудрость к проблемам сегодняшнего дня. Для того чтобы прочнее внедрить
конфуцианство, У‑ди ввел новую систему назначения на государственные должности:
отныне каждый желающий стать чиновником должен был пройти курс изучения
конфуцианских канонов и сдать по ним государственные экзамены.
[236] Епископальная Церковь – то есть
англиканская Церковь, являющаяся в Великобритании государственной. Возникла в
XVI в. в результате реформ Генриха VIII. По культу и организационным принципам
ближе к католической, чем другие протестантские Церкви. Официальным главой
англиканской Церкви является король (королева).
[237] Пресвитериане – последователи
протестантского вероучения, возникшего в Англии в XVI в.; выступают за
независимую от государства «дешевую церковь», отвергают власть епископа и
признают лишь пресвитера (то есть выборного руководителя). Пресвитерианство
сохранилось в Шотландии (государственная религия), Англии, США и ряде других
стран.
[238] Изречение (греч.).
[239] Одновременно (лат.).
[240] Здесь имеется в виду употребляемый в Церквах
Запада наряду с Никео‑Константинопольским Символом веры так называемый
Афанасиев Символ веры, названный по имени св. Афанасия Александрийского (ок. 295‑373),
отца Церкви и богослова, епископа города Александрии (с 328 г.). В борьбе с
арианством св. Афанасий разработал учение о «единосущии» Бога‑Отца и Бога‑Сына,
ставшее догматом на Первом (в 325 г.) и Втором (в 381 г.) Вселенских соборах.
Как считают современные исследователи, тот Символ веры, который ныне известен
под названием Афанасиева, был создан несколько позже, в V или VI вв.
[241] Однако был ли это на самом деле Зевс? Не будет
ли правильнее сказать, что безличные получатели, установленные философами для
замены обанкротившегося олимпийского учреждения, использовали в деловых целях
имя умершего старшего партнера по этой фирме? Во всяком случае, в другом месте
своей работы г‑н Тойнби цитирует отрывок из Марка Аврелия и комментирует: «В
этих трагических криках мы, по‑видимому, слышим голос преданного гражданина
Космополиса, который неожиданно очнулся, обнаружив, что Зевс сбежал со своей
председательской должности… Однако христианским читателям Марка [Аврелия] не
следовало быть слишком строгими по отношению к Маркову Зевсу, ибо Зевс никогда
не просил, чтобы его выбирали председателем космической республики. Он начал
жизнь в качестве вождя военного отряда с сомнительной репутацией, и все, что мы
знаем о нем, показывает, что этой жизнью он не был доволен. Если Зевс, которого
философы поймали гораздо позднее и посадили в клетку, был неспособен вынести
вечность принудительного почитания в качестве старшего обитателя стоического
исправительного заведения, то повернется ли у нас язык, чтобы осудить бедного
старину за то, что он оказался неисправим?» Однако, быть может, подобно
партнеру Скруджа Марли, он не заслуживает ни порицания, ни симпатии, «умерев
задолго до того» (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[242] Бог (лат.).
[243] Исторический пророк Даниил, четвертый из так
называемых больших пророков и автор библейской Книги пророка Даниила, жил в VI
в. до н. э., во времена персидского царя Дария I. Некоторые из современных
ученых высказывают мнение, будто эта книга была создана в 167– 163 гг. до н. э.
(этого мнения придерживается здесь и Тойнби), то есть много позднее падения
империи Ахеменидов. Однако то обстоятельство, что эта пророческая книга была
показана Александру Македонскому, когда он взял Иерусалим (332 г. до н. э.) и в
ней указано на пророчество Даниила о ниспровержении греческим царем Персидского
царства, а также особенности языка, соответствующие периоду Вавилонского
пленения, служат несомненным доказательством подлинности Книги пророка Даниила.
[244] Прикрепленный к земле (лат.).
[245] Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (160
– после 220) – христианский богослов и писатель. Подчеркивая пропасть между
библейским Откровением и греческой философией, Тертуллиан утверждал веру именно
в силу ее несоизмеримости с разумом. Развивал своеобразный мистический
материализм, утверждая, что души и даже Бог – материя особого рода. После 200
г. отошел от Церкви и сблизился с сектой монтанистов, проповедовавших скорое
Второе Пришествие и строгий аскетизм.
[246] Воген (Vaughan) Генри (1622‑1695) –
английский поэт и мистик, представитель «метафизической школы». Автор сборников
«Silex Scintillans» («Искры из‑под кремня» – 1650; 1655) и «Лебедь Юска»
(1651).
[247] Воспитание (греч.).
[248] Филипп Марк Юлий Павел Араб (ок. 200‑249)
– римский император с 244 г., араб по происхождению. В 243 г. стал
преторианским префектом императора Гордиана III и вскоре его преемником. Он
заключил мир с персами, сражался в 245‑247 гг. на Дунае с готами и другими
германскими племенами, а также против многих узурпаторов. Несмотря на тяжелое
внутреннее и внешнее положение, 21 апреля 248 г. устроил пышные торжества в честь
тысячелетнего юбилея Рима. Пал в битве с императором Децием под Вероной.
[249] Ludi Saeculares (лат. – «столетние
игры») – римский праздник, заключающий saeculum (столетний цикл). Он проводился
в 249 и 149 гг. до н. э. как искупительный праздник, сопровождавшийся ночными
жертвоприношениями силам подземного мира, и должен был знаменовать собой конец
старого, отягощенного проклятьем века. Август изменил характер праздника.
Наряду с идеей искупления на первый план он выдвинул идею очищения перед
началом новой счастливой эры. В торжества он ввел Аполлона и Диану, богов,
близких его династии. В 17 г. до н. э. состоялся трехдневный праздник,
завершившийся играми; для него Гораций по заказу Августа написал «Carmen
Saeculare» («Юбилейную песнь»). Позже Ludi Saeculares устраивались императорами
через произвольные промежутки времени как торжества, знаменующие наступление
счастливого века. Что касается императора Филиппа Араба, то он справлял в 248
г. не Ludi Saeculares, а тысячелетие Рима. Столетние же игры проходили в Риме в
262 г., при императоре Галлиене.
[250] Цензор – римский магистрат,
избиравшийся, как правило, каждые пять лет на срок 18 месяцев из числа
консуляров (бывших консулов). Основной задачей цензора было проведение ценза и
ревизия прежнего списка всадников и сенаторов. Цензор имел право исключать из
списка имена и вписывать туда новые. Цензоры брали на себя функцию блюстителей
нравственности граждан. Кроме того, в обязанности цензора входили управление
государственным бюджетом (отдача сбора налогов на откуп) и государственным
имуществом и надзор за возведением и содержанием государственных построек –
улиц, храмов, городских стен и так далее. В императорскую эпоху функции цензора
исполняли сами императоры.
[251] «Корпоративное государство» – одна из
форм авторитарного политического режима, характерная для ряда фашистских
государств, в частности для Италии после 1922 г. После прихода к власти
фашистов все население страны было разделено по профессиональному, возрастному
и другим признакам на корпорации, работавшие под руководством фашистской
партии. Корпорации считались основными ячейками государства и на своих съездах
выдвигали кандидатов, из которых Высший совет фашистской партии формировал
единый список кандидатов в парламент.
[252] В наступившую в Китае эпоху государственной
раздробленности боровшиеся за влияние на удельных властителей представители
различных сфер некогда единой администрации образовали разные философские
школы, самое общее название которых («цзя» – буквально «семья») свидетельствует
об их частном характере. Среди этих школ были и упоминаемые Тойнби
дипломатическая «школа вертикальных и горизонтальных [политических союзов]»,
созданная выходцами из посольского ведомства, способными «вершить дела, как
должно, и руководствоваться предписаниями, а не словопрениями»; «школа имен»
(мин цзя), в западной литературе называемая также «номиналистской» и
«диалектико‑софистической» и созданная выходцами из ритуального ведомства, чья
деятельность обусловливалась тем, что в древности в чинах и ритуалах
номинальное и реальное не совпадало и возникала проблема их приведения во
взаимное соответствие; наконец, «школа законов» (фа цзя), то есть легизм,
созданный выходцами из судебного ведомства, которые дополняли управление на
основе «благопристойности» наградами и наказаниями, определенными законами.
[253] «Моя борьба» (нем.) – автобиография
Гитлера (1925‑1927).
[254] «Готическое возрождение» (иначе –
неоготика) – название направления в европейской архитектуре, популярного с
конца XVIII до конца XIX столетия и основанного на научном изучении зодчества
готики и стремлении возродить ее конструктивную и декоративную системы. Часто
термин «неоготика» употребляется как синоним псевдоготики, и четко разграничить
эти явления нельзя. Однако с 1820‑х гг. обозначается стремление, выделившееся
из общего романтического культа Средних веков, осознать готическое зодчество
как цельную систему и перенести ее в современность (например, здание
Вестминстерского дворца (Парламента) в Лондоне, построенное в 1840‑1868 гг.
Чарлзом Бэрри).
[255] Оксфордское движение (трактарианизм) –
движение за возвращение к принципам так называемой Высокой Церкви в рамках
англиканства, возникшее в Оксфордском университете в 1833 г. в
противоположность либеральным, рационализирующим и евангелизирующим тенденциям
и подчеркивающее принципы первоначального, святоотеческого христианства, равно
как и исторический и вселенский характер Церкви. Связано с именем английского
теолога, публициста и церковного деятеля Джона Ньюмена (1801‑1890), перешедшего
в 1845 г. в католичество и впоследствии ставшего кардиналом.
[256] Прерафаэлиты (англ. «Prae‑Raphaelites»
– «последователи искусства до Рафаэля») – группа английский художников и
писателей XIX в., образовавшая «Братство прерафаэлитов» (1848‑1853, Данте
Габриел Россетти, Холмен Хант, Джон Эверетт Миллес) и избравшая своим идеалом
«наивное» искусство Средних веков и раннего Возрождения (до Рафаэля). В
программу прерафаэлитов входили романтическое неприятие индустриального
общества и буржуазной культуры, возрождение религиозности и нравственной
чистоты средневекового искусства.
[257] Хокон VII (1872‑1957) – норвежский
король (с 1905 г.) из династии Глюксбургов, сын датского короля Фредерика VIII
(до вступления на норвежский престол носил имя Карла), основатель Норвежского королевского
дома. Избран королем после расторжения шведско‑норвежской унии 1814‑1905 гг. и
образования самостоятельного норвежского государства. В годы немецкой оккупации
Норвегии (1940‑1945) находился в Великобритании.
[258] Местный говор (фр.).
[259] Государственным языком Норвегии в настоящее
время является норвежский, относящийся к северной (скандинавской) подгруппе
германских языков. Он имеет большое число диалектов. В XVI в. вокруг Осло
постепенно складывался смешанный датско‑норвежский говор, на базе которого
развился литературный норвежский язык – риксмол, принятый в художественной и научной
литературе. Во второй половине XIX в., в противовес господствовавшему риксмолу,
построенному на базе датской грамматики, был создан на основе западнонорвежских
сельских диалектов новый литературный язык – ланнсмол, который иногда называют
также «нюноршк» (новонорвежский). В 1938 г. на базе риксмола, но с отражением
чисто норвежских языковых норм в лексике и в грамматике был создан еще один
литературный язык – самноршк, но этот третий литературный язык оказался весьма
искусственным и непривычным для народа. В настоящее время букс‑мол (так теперь
часто именуют риксмол) и ланнсмол считаются равноправными государственными
языками. Однако позиции первого значительно сильнее.
[260] Движение за возрождение ирландского
(гэльского) языка и культуры возникло в конце XIX в. и особенно
активизировалось после создания самостоятельного государства (с 6 декабря 1921
г. Ирландия был объявлена доминионом, а с 18 апреля 1949 г. – независимым
государством), когда ирландский язык был признан наряду с английским
государственным языком. Сейчас ирландский язык введен в качестве обязательного
предмета в школах. Все официальные документы издаются на ирландском и
английском языках. На ирландском языке выходят некоторые газеты и журналы,
выпускается часть книг. Несмотря на все это, сейчас только около 20% ирландцев
знают ирландский язык и лишь очень небольшая часть их использует его в
повседневной жизни.
[261] Гази (араб., от «газа» – «воевать») – в
мусульманских странах почетный титул военачальников.
[262] Неемия – выходец из знаменитого
еврейского рода, виночерпий персидского царя Артаксеркса I Лонгимана (V в. до
н. э.). Обвел Иерусалим стенами (444 г. до н. э.) и вместе со священником
Ездрой устраивал общественную жизнь евреев после плена. Свои деяния он изложил
в Книге Неемии, входящей в библейский канон.
[263] Аполлоний Родосский (III в. до н. э.) –
древнегреческий эпический поэт. Был главой библиотеки Мусейона в Александрии,
где занимался литературной критикой. Из‑за литературно‑теоретических взглядов
порвал со своим учителем Каллимахом, который не признавал гомеровский эпос в
качестве стиля для подражания. Произведение Аполлония «Аргонавтика» –
единственная сохранившаяся до наших дней эпическая поэма. На острове Родос,
который стал его второй родиной, он написал заключительную часть своей поэмы,
посвященную путешествию аргонавтов. С присущим ему психологизмом Аполлоний
изобразил жанровые сцены, любовные приключения, в описании природы использовал
научные знания. Впоследствии «Аргонавтика» пользовалась большой популярностью в
Риме.
[264] Нонн Панополитанский (V в.) – греческий
поэт из города Па‑ нополя (Египет), автор поэмы «Деяния Диониса» в 48 книгах,
последнего и самого крупного эпического произведения античности. В ней описаны
рождение, жизнь и, наиболее подробно, триумфальное шествие Диониса в Индию и
его апофеоз. Эта поэма, написанная четким и виртуозным гекзаметром,
характеризуется напряженным пафосом, богатой фантазией, изысканным и отточенным
стилем с риторической окраской. После своего обращения в христианство Нонн
написал стихотворный парафраз Евангелия от Иоанна.
[265] Пракриты – среднеиндийские языки и
диалекты, продолжающие древнеиндийскую стадию развития индоевропейских
диалектов и легшие в основу новоиндийских языков. Первая письменная фиксация
пракритов относится к III в. до н. э.
[266] Pax deorum (лат.) – буквально «мир с
богами», то есть поддержание с богами отношений взаимной договоренности: за
совершение людьми должных обрядов боги оказывают им покровительство. Правила
проведения всех обрядов и религиозных мероприятий сводились в особую отрасль,
носившую название jus divinum – «божественное право».
[267] Реза‑шах Пехлеви (1878‑1944) – шах
Ирана в 1925‑1941 гг., основатель династии Пехлеви. Первоначально был армейским
офицером. Пришел к власти в результате государственного переворота и был избран
шахом Национальным собранием. Реорганизовал иранскую армию и многое сделал для
модернизации Ирана. Отрекся от престола в сентябре 1941 г.
[268] Иасон – еврейский первосвященник.
Получил первосвященство от Антиоха Эпифана в 175 г. до н. э. за большую сумму
денег. Выстроил и Иерусалиме гимназиум для физических упражнений и игр и
старался постепенно вводить языческие обычаи. Это служило большим соблазном для
священников Иерусалимского храма, которые священнослужению в Храме нередко
предпочитали присутствие на языческих играх и зрелищах, являясь сюда в те же
самые часы, которые были определены для жертвоприношений, и притом в модных
шляпах с широкими полями. После своей смерти в Лаконии (Спарте) Иасон не был
удостоен даже обыкновенного погребения.
[269] Петас – дорожная шляпа с полями
различной формы у греков. Петас был атрибутом Гермеса как вестника богов.
[270] Омар I (ок. 591 или 581 ‑644) – второй
халиф (с 634) в Арабском халифате. Один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
При Омаре I арабские войска одержали ряд значительных побед над византийцами и
Сасанидами и завоевали многие территории в Азии и Африке. Ввел мусульманское
летоисчисление по хиджре. Убит рабом‑персом.
[271] Александрийская библиотека – была
построена Птолемеем Сотером в Александрии в начале III в. до н. э. Со временем
стала главным книжным хранилищем Средиземноморья. Рассказывают, что она сильно
пострадала от пожара 391 г., но когда в 642 г. Александрия была завоевана
арабами, последние нашли там столько книг, что смогли отапливать ими весь город
в течение шести месяцев. По свидетельствам летописцев, в то время в
Александрийской библиотеке еще содержалось от 400 до 700 тысяч томов или
свитков (включая дублеты). Почти все книги были уничтожены магометанами,
полагавшими, что от них нет никакой пользы, ибо все знание, что могло когда‑нибудь
понадобиться человеку, содержалось в Коране, а все, что не содержалось в
Коране, было бесполезным и, стало быть, опасным.
[272] Исх. 20, 4. В исламском искусстве этот
запрет на копирование природных объектов привел художников к тому, что они
стали довольствоваться созданием беспредметных узоров. Отсюда наше слово
«арабеска».
[273] Вынужденная замена того, что является
недоступным (фр.).
[274] Зоровавель – предводитель первого
отряда иудеев, возвратившихся из плена вавилонского в Иерусалим в первый год
царствования Кира, царя персидского; сын Салафиила по усыновлению. Происходил
из царского рода Давидова. Ему царь персидский Кир вручил священные сосуды для
возвращения в Иерусалим и богатые дары от его пленных собратий. Был назначен
гражданским правителем Иудеи и вместе с первосвященником Иисусом восстановил и
освятил Второй храм иерусалимский. Его история изложена в Ветхом Завете (гл. 3‑6
1 книги Ездры и гл. 3‑4 2 книги Ездры).
[275] Имеется в виду Ирод I Великий (ок. 73‑4
гг. до н. э.) – идумеец, сын Антипатра, прокуратора Иудеи (47 г. до н. э.). В
40 г. до н. э. римский сенат назначил его царем Иудеи, с 37 г. до н. э. в пору
своего могущества отстроил Иерусалим в качестве своей блестящей резиденции.
[276] Прежде всего (лат.).
[277] Аллюзия на Евангелие (Мф. 27, 51 и Мк.
15, 38).
[278] Отсюда распространенное слово «Millenium»
(«тысячелетие»), обозначающее будущий «Золотой век».
[279] Аллюзия на евангельский рассказ о бесноватом и
свиньях, действие которого разворачивается в «стране Гадаринской» (Мк.
5, 1 ‑20 и Лк. 8, 26‑39).
[280] Слово «соблазн» в церковнославянском языке
(так оставлено и в Синодальном переводе) означает «претыкание на пути, от чего
человек иногда упадает; иносказательно берется за духовное преткновение, за
петлю и сеть, то есть за такие вещи, которые нас на пути жизни вечной могут
несколько остановить или и вовсе препятствовать к спасению» (Дьяченко Г.,
прот. Полный церковнославянский словарь. М., 2002. С. 626). Тот же смысл
содержится в английском «stumbling‑block» (дословно – «камень преткновения»).
[281] Град Божий (лат.).
[282] Что нелепо (лат.).
[283] Гесиод (ок. 700 г. до н.э.) – первый
исторически достоверно установленный греческий поэт. Родился в местечке Аскра
(Беотия), где вел жизнь крестьянина, занимаясь пастушеством. Выступал как
рапсод, завоевал приз в Халкиде (Эвбея). Для своих поэм принял форму эпического
гекзаметра и язык гомеровского героического эпоса. В прологе своей поэмы «Теогония»
(«Происхождение богов») говорит впервые о своем призвании, определяет место
поэзии и подчеркивает ее освящение музами на Геликоне. Это произведение
повествует о сотворении мира из хаоса, излагает генеалогию богов и
последовательность трех божественных династий, последняя из которых
представлена в рациональном устройстве мира Зевсом.
[284] Точка опоры (лат).
[285] Измененная цитата из Псалтири (Пс. 109,
1). Впоследствии этот стих неоднократно встречается и в книгах Нового Завета.
[286] Эта фраза принадлежит Наполеону I.
[287] Усмирять надменных (лат.).
[288] Щадить тех, кто покорился (лат.).
[289] Parcere subjectis et debellare superbos
(«щадить тех, кто покорился, и усмирять надменных») – цитата из поэмы Верглиия
«Энеида» (VI, 853). Этими словами Анхиз объясняет, как должен вести себя
римский народе побежденными.
[290] Послевоенное состояние (лат.).
[291] Кёпрюлю – здесь имеются в виду два старших
представителя известного семейства турецких государственных деятелей – Мехмет‑паша
Кёпрюлю (ок. 1575‑1661) и его старший сын Фазыл Ахмет‑паша Кёпрюлю (1635‑1676).
Мехмет‑паша был великим визирем в 1656‑1661 гг. при султане Мехмеде IV, а Фазыл
Ахмет‑паша занимал этот пост в 1661‑1676 гг.
[292] Кара Мустафа‑паша, Мерзифонлу (1634‑1683)
– турецкий государственный деятель, великий визирь Оттоманской империи (1676‑1683).
Став великим визирем, провел безуспешные военные кампании против Польши и
Русского государства. В 1683 г. руководил осадой Вены, однако потерпел
поражение от австрийско‑польской армии под командованием польского короля Яна
III Собеского. По приказу султана был обезглавлен в Белграде в том же году, а
его голова на серебряном блюде была отправлена в столицу.
[293] Махараштра – историческая область в
западной части Индии, территория расселения маратхов. В 1674 г. национальный
герой маратхов Шиваджи (1627 или 1630‑1680) в результате борьбы против гнета
Великих Моголов создал независимое маратхекое государство. В XVIII в. оно
распалось на маратхекие княжества. В начале XIX в. территорию Махараштры
завоевали английские колонизаторы. Ныне входит в качестве отдельного штата в
состав Индии.
[294] Государственные тайны (лат).
[295] Кондорсе Мари Жан Антуан Никола, маркиз
(1743‑1794) – французский философ‑просветитель, математик, социолог,
политический деятель. Сторонник деизма и сенсуализма. В его литературном
наследии особое место занимает «Эскиз исторической картины прогресса
человеческого разума» (1794). По обвинению в заговоре арестован и приговорен к
смертной казни. Покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
[296] «Гильдейский социализм» (гильдеизм) –
реформистское течение в Великобритании в первой четверти XX в. Идеологи
«гильдейского социализма» (Дж. Коул и другие) выдвигали утопические идею о
переходе к социализму путем передачи национализированных предприятий в
управление «национальным гильдиям» – объединениям трудящихся той или иной
отрасли производства.
[297] Хрисипп (ок. 280 – ок. 204 гг. до н.
э.) – греческий философ‑стоик. Путем систематизации и совершенствования учения
своих предшественников Зенона из Китиона и Клеанфа придал стоической философии
ее общераспространенный характер. Важнейшей философской дисциплиной считал
этику. Проиллюстрировал ее на созданной им модели мудреца, свободного от
аффектов, который живет в согласии с природой, благодаря чему достигает
душевного покоя, а значит, и счастья. Представление о предопределении всех
событий божественным Провидением вело в физике к предположению о всеобщей
причинности. Логика Хрисиппа примыкает к аристотелевской и дополняет ее
попытками счисления предикатов. За основу познания Хрисипп принимает
чувственное восприятие. От его многочисленных трудов, охватывающих различные
отрасли знания, остались лишь фрагменты.
[298] Панэций с Родоса (ок. 180‑100 гг. до н.
э.) – эллинистический философ, основатель Средней Стой. После обучения в Афинах
его деятельность проходила в Риме, потом снова в Афинах, где он был с 129 г. до
н. э. главой стоической школы. Ввел стоицизм в аристократические круги Рима,
будучи другом Сципиона Младшего и Гая Лелия. В Риме научился считать пользу
основным этическим принципом, тем самым смягчив этический ригоризм Древней Стой.
Целью жизни считал исполнение того, к чему склоняет здравый рассудок. В
человеке видел составную часть космоса. Вопреки воззрениям Древней Стой считал
мир вечным, а души смертными. От работ Панэция сохранились только фрагменты.
[299] Претендующие быть (фр.).
[300] Имеется в виду теория английского философа
Джорджа Беркли (1685‑1753), выступившего с критикой понятия материи как
вещественной основы (субстанции) тел и утверждавшего, что для вещей «быть»
всегда означает «быть в восприятии» («esse est percipi»). Однако, говоря об
иллюзорности внешнего мира, Беркли вместе с тем признавал реальность духовного
бытия, которое осуществляет себя в форме «идей» и «душ». «Идеи» –
воспринимаемые нами субъективные качества – пассивны, непроизвольны. «Души»,
напротив, деятельны и активны, могут быть причиной. «Идея» существует только в
«душе» (в виде мыслей, страстей, ощущений). Пытаясь отвергнуть неизбежные
выводы из этой теории, ведущие к солипсизму, Беркли утверждал, что
воспринимающий субъект – не один, и вещь, которую перестал воспринимать один
субъект, может восприниматься другими субъектами. Но даже если бы все субъекты
исчезли, вещи продолжали бы существовать как сумма «идей» в уме Бога.
[301] «Бог из машины» (лат.). В античном
театре – появление с помощью машины на сцене бога, который своим вмешательством
приводит пьесу к развязке.
[302] Бог Распятый (лат).
[303] В силу самого факта (лат.).
[304] Venal A. W. Euripides the Rationalist.
Cambridge, 1895. P. 138. В последнем предложении процитирован отрывок из
комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий» (450‑451).
[305] Хусейн ибн Али, аль‑ (626‑680) – сын
халифа Али и Фатимы, дочери пророка Мухаммеда, третий шиитский имам. Убит в
стычке с отрядом омейядских войск. К предполагаемому месту захоронения Хусейна
в Кербелу (Ирак) шииты совершают паломничество.
[306] Антипатр из Сидона (примерно 170‑100
гг. до н. э.) – греческий поэт, основатель так называемой финикийской школы
эллинистической поэзии. Автор коротких элегий и эпиграмм, часть которых
представлена в «Греческой антологии».
[307] Нарамсин (Нарам‑Суэн) – царь Аккада ок.
2236‑2200 гг. до н. э. В начале своего правления в очередной раз должен был
подавлять восстание шумеров. Подавив восстание, совершил завоевательный поход в
Сирию. Для укрепления своей власти старался заменить старую знать верными себе
чиновниками, а должности правителей (энси) раздавал своим сыновьям и
родственникам. Принял новый титул «лугаль четырех стран света и бог Аккада».
При жизни ему стали воздавать божественные почести, что вызвало сильное
негодование жрецов. К концу правления Нарамсина началось ослабление его страны:
обособился Элам, а на северо‑востоке появились племена горцев‑кутиев, в одной
из битв с которыми Нарасин и погиб. Упоминаемая Тойнби стела в честь похода
Нарамсина против племен луллубеев является памятником аккадского искусства и
хранится в Лувре.
[308] Алексей I Комнин (1048‑1118) –
византийский император с 1081 г., племянник Исаака I, первого императора из
династии Комнинов. Вел тяжелую борьбу против сельджуков на востоке, норманнов
на западе и печенегов на северных границах Империи. Его призывы к западным
странам о помощи против сельджукского нашествия послужили предлогом для начала
в 1096 г. Первого крестового похода. В целом не слишком дружелюбно относясь к
крестоносцам, Алексей I умело использовал их натиск на Восток для отвоевания у
сельджуков значительных территорий в Малой Азии.
[309] Русско‑турецкая война 1768‑1774 гг. –
начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких
войск при Ларге и Кагуле (русской армией командовал П.А. Румянцев), турецкого
флота в Чесменском бою, занятие Крыма заставили турецкое правительство
подписать Кючук‑Кайнарджийский мир 1774 г.
[310] Фироз‑шах Туглак – правитель Делийского
султаната в 1351 – 1388 гг.
[311] Беньян (Bunyan) Джон (1628‑1688) –
английский проповедник‑пуританин и писатель. Особенно известен его
аллегорический роман «Путешествие пилигрима» («The Pilgrim's Progress»; 1678‑1684),
который и цитирует здесь Тойнби.
[312] Тибулл Альбий (50‑18 гг. до н. э.) –
римский поэт из аристократического рода. Был дружен с Горацием. В своих стихах
воспевал любовь, изображал сельскую жизнь Италии с ее простым укладом, противопоставляя
ее войнам и главной причине войн – алчности. Его стремление к миру связано с
тоской по лучшим временам (золотому веку), а не с политическим миром времен
Августа (Pax Augusta), так как Тибулл вообще был далек и от Августа, и от
политики.
[313] Тойнби имеет в виду следующие строки из оды
Горация «К Мельпомене» (III, 30):
…буду я славишься
До тех пор, пока жрец с девой безмолвною
Всходит по ступеням в храм Капитолия.
(Пер. А. П. Семенова‑Тян‑Шанского)
Гораций говорит здесь о ежегодном ритуале, совершаемом в
Риме, когда верховный понтифик в сопровождении старшей весталки восходил на
Капитолий молить Юпитера о благоденствии Рима.
[314] Намациан Рутилий Клавдий Нумерий (1‑я
половина V в.) – латинский писатель, потомок богатого аристократического рода
из Галлии, префект Рима. В поэме «О возвращении домой» описал свое путешествие
из Рима на родину (осенью 416 г.). Это сочинение, дошедшее до нас не полностью,
показывает Намациана как убежденного язычника и почитателя Рима (хвала Риму в
«Молитве богине Роме»).
[315] Блаженный Мероним (Иероним Стридонский)
(347‑419 или 420) – один из отцов Церкви, писатель и ученый. Происходил из
богатой христианской семьи, учился в Риме, посвятил себя интенсивному изучению
античной и христианской литературы. В 375‑378 гг. жил отшельником в Халкидской
пустыни близ Антиохии, затем в качестве священника отправился в Рим, где в 382‑385
гг. был советником папы Дамасия. После смерти папы в 386 г. поселился
отшельником в Вифлееме и основал там несколько монастырей. Знал латынь,
древнегреческий, древнееврейский языки и как писатель был настолько
работоспособен, что мог одновременно диктовать несколько произведений. По
поручению папы Дамасия вновь перевел Библию на латинский язык по тексту
оригинала. Со времен Григория Великого этот текст занял место рядом со старым и
носил с XIII в. название «Vulgata» («Общеупотребительная»).
[316] Амалунги (Амалы) – династия, правившая
остготами с IV в. по 536 г., когда был убит Теодахад, последний представитель
рода по мужской линии. Самым знаменитым Амалунгом был Теодорих Великий,
прославленный в немецких сагах под именем Дитрих Бернский. Он и сражающиеся на
его стороне герои носят в «Песни о Нибелунгах» (ок. 1200) название «Амелунги».
[317] Буиды (Бувейхиды) – исламская династия
феодальных государей дайламитского (северо‑иранского) происхождения. Правила в
Западном Иране и Ираке в 935‑1055 гг. Захватив в 945 г. Багдад, фактически
положили конец халифату Аббасидов. Государство Бувейхидов впоследствии было
завоевано сельджуками.
[318] Хлодвиг I (ок. 466‑511) – король
салических франков с 481 г. из рода Меровингов. Завоевал почти всю Галлию, что
положило начало Франкскому государству. В 496 г. принял крещение от
православного архиепископа Реймского Ремигия. Вслед за Хлодвигом крестились и
все его подданные.
[319] Анастасий I Флавий (ок. 430‑518) –
византийский император с 491 г., узурпатор. Облегчил налоговое бремя городов,
усовершенствовал монетную систему. По закону Анастасия 1(491 г.), колоны
прикреплялись к участку, если арендовали его в течение 30 лет. Поддерживал
монофизитов. Окончательно покорил исавров, подавил народные восстания в
Константинополе (512) и во Фракии (515), возглавленные командующим федератов
Виталианом. Укрепил Константинополь. В 502‑505 гг. вел войну с персами.
[320] Перефразировка известного определения
Османской империи периода упадка ее политической и военной мощи – «больной
человек Востока». Авторство этой фразы приписывают обычно российскому
императору Николаю I, хотя еще за 100 лет до него в сходных выражениях писал о
Турции Ш. Л. Монтескье.
[321] Али‑паша Янинский (Али‑паша
Тепеленский) (ок. 1744‑1822) – албанский феодал (родом из Тепелены, южная
Албания), с 1787 г. – правитель части Балканского полуострова (с центром в
городе Янина). Добился фактической независимости от турецкого султана. Убит в
войне с султаном Махмудом II.
[322] Пасван‑Оглу (1758‑1807) – турецкий
паша. В 1788 г. вместе с отцом восстал против Оттоманской империи и завладел
Виддином, но затем вынужден был бежать в Валахию. В 1791 г. турками был
захвачен и казнен его отец, а Пасван‑Оглу снова захватил Виддин. В 1795 г. взял
Никополь, в 1796 г. двинулся к Адрианополю, а в следующем году овладел Сербией
и Болгарией и уже угрожал Константинополю. Однако должен был отступить перед 10‑тысячной
турецкой армией. В 1798 г. был помилован и получил в управление Виддинский
пашалык.
[323] Суй – китайская императорская династия,
правившая в 581‑618 гг. Основателем династии был князь Ян Цзян, который
приходился тестем Сюань‑ди – последнему императору из северо‑китайской династии
Северная Чжоу. Ян Цзян, ставший в 581 г. императором под именем Вэнь‑ди,
предпринял поход на юг и уничтожил династию Чэнь. Так был положен конец
раздробленности Китая. Однако уже сын основателя династии император Ян‑ди был
свергнут в результате восстания, и на престол вступила династия Тан, основанная
крупным феодалом Ли Юанем.
[324] Имеется в виду 26‑я ода Горация из I книги
«Од», в которой упоминается имя парфянского царя эпохи Августа Тиридата.
[325] Аристид Элий (ок. 117 или 129‑187 гг.
н. э.) – греческий странствующий оратор из Адриануферая (Мезия). Получив
всестороннее образование, стал признанным оратором в Риме. Своими помпезно
обставленными разъездами завоевал славу в греческих и римских кругах.
Сохранилось 55 его речей, значительное число которых посвящено защите риторики
перед философией. Другие его речи восхваляли Рим, славное прошлое Афин и других
городов. Для Аристида как представителя Второй софистики ораторское искусство
представлялось вершиной духовной деятельности человека. Его речи представляют
известную ценность не только в отношении языка (примером ему служили греческие
классические авторы), но и с точки зрения изучения культуры эпохи Империи.
[326] Нашего века (лат.).
[327] Иезуитские католические миссии действовали в
Китае в течение почти 160 лет – между 1600 г., когда в империю Мин прибыл
итальянский миссионер Маттео Риччи, и 1757 г., когда цинский император Цяньлун
своим указом закрыл Китай для внешнего мира.
[328] Библейская аллюзия. Имеется в виду жена ветхозаветного
праведника Лота, превращенная в соляной столп (Быт. 19, 26).
[329] Интересна история этого выражения. Оно из
анонимно написанных Вергилием стихов в честь императора Августа, которые
рифмоплет Батил выдал за свои и получил за них вознаграждение.
[330] Боссюэ Жан Бенинь (1627‑1704) –
французский церковный деятель, епископ Мо (с 1681). Находился при дворе
Людовика XIV в качестве наставника дофина. Приобрел известность своими
проповедями, бичевавшими протестантскую и другие современные ереси.
Рассматривал историю как осуществление воли Провидения, отстаивал идею
божественного происхождения абсолютной власти монарха. Был идеологом
галликанства – движения, отстаивавшего независимость французской католической
Церкви от папства. Автор трудов «Рассуждение о всеобщей истории» (1681),
«Политика, основанная на Священном Писании» (изд. 1709) и др.
[331] Непреодолимая сила (фр.).
[332] Плиний Старший (23/24‑79) – римский
государственный деятель, историк и писатель. Из его многочисленных трудов
сохранилась лишь «Естественная история», огромный труд энциклопедического
характера в 37 книгах. В 1‑й книге Плиний дает перечень рассматриваемых тем и
список греческих и римских источников (400 авторов). 2‑я книга посвящена общим
вопросам математико‑физической географии, книги 3‑6‑я – страноведение по
континентам (Европа, Африка, Азия), книга 7‑я посвящена людям, 8‑11 ‑я –
животным, книги 12‑19‑я – растениям. В книгах 20‑27‑й рассказывается о
лекарствах растительного происхождения, в 28‑32‑й – о лекарственных средствах
животного происхождения, в 33‑37‑й – о металлах и камнях, включая
изобразительное искусство, а также о художниках и произведениях искусства. В
своем громадном труде Плиний Старший обобщил естественно‑научные познания
своего времени, добавив к ним свои наблюдения.
[333] Тенин – класс горожан в Японии в XVII‑XIX
вв.
[334] Георг III (1738‑1820) – король
Великобритании с 1760 г. На первых порах добился некоторых успехов в
утверждении королевского самовластия. В противовес вигам и тори создал партию
«друзей короля», которой и поручил управление страной. Во многом по вине Георга
III американские колонии были доведены до такого состояния, что восстали против
метрополии. Поражение Англии в этой войне стало и личным поражением Георга, чье
влияние на английскую политику с той поры резко пошло на убыль. С 1765 г. у
Георга стали отмечаться признаки душевного расстройства, что временами делало
короля недееспособным. В 1810 г. он полностью сошел с ума и вдобавок к тому
ослеп, после чего регентом был назначен его сын, будущий Георг IV.
[335] Ханьский мир (лат.).
[336] Кочевнический мир (лат.).
[337] Лев Великий, св. (ок. 390‑461) –
римский папа с 440 г. Расширил власть папства на Западе. В 452 г. убедил Аттилу
не нападать на Рим.
[338] То есть к иудеям и христианам, признающим
авторитет Священного Писания (Библии).
[339] Мексиканская революция 1821 г. – в ходе
Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810‑26) Мексика в 1821 г.
добилась независимости и в 1824 г. была провозглашена республикой. В 1829 г.
здесь было отменено рабство.
[340] Мексиканская революция 1910‑1917 гг. –
свергла клерикально‑помещичью диктатуру П. Диаса. В результате революции к
власти пришло правительство национальной буржуазии. В ходе Мексиканской
революции развернулась крестьянская война под руководством Ф. Вильи и Э.
Сапаты, были пресечены попытки восстановления диктаторского режима (июль 1914),
началась гражданская война, отражена интервенция США (1914 и 1916‑1917).
Завершающим актом революции стало принятие конституции (1917), которая создала
предпосылки для аграрной реформы, развития капитализма в Мексике и укрепления
ее позиций в борьбе против иностранных монополий.
[341] 15 августа 1947 г. на территории Британской
Индии возникли два новых независимых государства – доминионы Индия и Пакистан.
При этом в состав Индии были включены территории с преобладанием индуистского
населения, а Пакистана – мусульманского.
[342] Писидия – горная страна в горах Тавра,
севернее расположенной на юге Малой Азии Памфилии, на востоке от Ликии,
заселенная воинственным и неукротимым народом.
[343] Ириней Лионский, св. (t 202) – епископ
Лионский. Получил христианское образование под руководством св. Поликарпа,
епископа Смирнского, и был одним из самых глубокомысленных богословов своего
времени. Его деятельность относится ко второй половине II в. Был послан св.
Поликаргюм в Галлию на помощь епископу св. Пофину. После мученической кончины
последнего (ок. 177) был поставлен епископом Лионским. Замучен при императоре
Септимии Севере. Среди его сочинений первое место занимает «Обличение и
опровержение лжеименного знания» («Против ересей»), состоящее из пяти книг. В
нем он опровергает гностические системы, опираясь на Священное Писание и
Священное Предание.
[344] В оригинальной работе, сокращенной версией
которой является это издание, г‑н Тойнби делает обзор той пользы, которую
приносят системы коммуникаций огромному числу универсальных государств (Прим.
Д. Ч. Сомервелла).
[345] Движение May‑May в Кении можно рассматривать
как наиболее заметный протест этих последних на момент написания книги, к 1954
г.
[346] Учитывая закрепление несториан в Траванкоре в
качестве первой попытки обратить Индию в христианство и иезуитскую миссию ко
двору Акбара – в качестве второй.
[347] Учитывая закрепление несториан в VII в. в
Сингане в качестве первой попытки обратить Китай в христианство, западно‑христианские
миссии XIII‑XIV вв. – в качестве второй, а западно‑христианские миссии XVI в.
по морю – в качестве третьей.
[348] Ливингстон Давид (1813‑1873) –
английский исследователь Африки. Совершил ряд длительных путешествий по Южной и
Центральной Африке (с 1840). Исследовал бассейн реки Замбези, озеро Ньяса,
открыл водопад Виктория, озеро Ширва, Бангвеулу и реку Луалабу. Вместе с Г.
Стэнли исследовал озеро Танганьика.
[349] Александр Север, Марк Аврелий (208‑235)
– римский император с 222 г., последний представитель династии Северов. В 221
г. Александра усыновил его двоюродный брат, император Гелиогабал, и дал ему
титул цезаря, сделав своим соправителем. После свержения и убийства Гелиогабала
Александр стал единоличным правителем, при этом во всем подчиняясь своей матери
Юлии Маммеи. В отличие от склонного к деспотизму своего предшественника, Александр
Север стремился к восстановлению престижа и компетенции римского сената.
Характерный для правления Северов религиозный синкретизм достигает в его
правление своего апогея, выразившись, в частности, в терпимом отношении к
иудеям и христианам. Возможно, что в домашнем храме Александра Севера наряду с
изображениями Аполлония Тианского, Авраама и Орфея находилось и изображение
Христа.
[350] Хавъер Франсиско, св. (1506‑1552) –
католический миссионер, способствовавший распространению христианства в Индии,
на Малайском архипелаге и в Японии. В 1534 г. в Париже принял обет в качестве
одного из первых семи членов «Общества Иисуса» (иезуитского ордена),
возглавляемого Игнатием Лойолой. Канонизирован католиками в 1622 г. и является
покровителем миссионеров.
[351] Риччи Маттео (китайское имя ЛиМадоу)
(1552‑1610) – итальянский миссионер‑иезуит, распространявший христианское
учение в Китайской империи в XVI в. Прожил в Китае около 30 лет и явился
первопроходцем, пытаясь найти взаимопонимание между Китаем и Западом. Усвоив
язык и культуру этой страны, получил доступ во внутренние районы Китая, которые
обычно были закрыты для иностранцев.
[352] «Notitia Dignitatum» (лат.) –
государственный справочник, свод всех военных и гражданских должностей с
описанием организации римского сухопутного войска. Относится к V в. н. э.,
однако содержит некоторые данные о более раннем периоде – до III в. Является
важным источником по истории Римской империи.
[353] Лаеты (лат., laeti) – социально
зависимые германские земледельцы в римской Галлии, начиная с последней четверти
III в. Это были военнопленные, обязавшиеся служить в Римской империи. В
последний раз упоминаются в письменном источнике за 465 г. Считались
«dediticii» (покоренные) и еще в V в. не имели права римского гражданства.
Лаеты проживали в изолированных крестьянских поселениях на полученных от
императора землях в Северной и Западной Галлии.
[354] Долихен (Юпитер Наилучший, Величайший
Долихен) (лат. Dolichenus) – отождествляемый с Юпитером сирийский бог
(Ваал) из Долихии в Коммагене. С I в. Долихен считался прежде всего в армии как
покровитель. При Антонине Пии ему был посвящен храм на Авентине. Его культ
носил мистериальные черты. Долихен изображался стоящим на быке, в правой руке
он держал двойной топор, в левой – клинок молнии.
[355] Галлия Комата (лат. «Галлия косматая»)
– называлась так подлинным волосам жителей в противоположность старой римской
провинции Галлии Нарбонской. В 27 г. до н. э. Август окончательно урегулировал
управление страной и разделил ее на три части: Аквитанию, Галлию Лугдунскую (со
столицей Лугдуном – Лионом) и Бельгику.
[356] Галлия Тогата (лат. «Галлия, одетая в
тогу» – как отличие римского гражданина от неримлянина) – римская часть Галлии,
лежавшей по сю сторону реки По (Цизальпинская Галлия).
[357] Друз Нерон Клавдий (38‑9 гг. до н.э.) –
сын Тиберия Клавдия Нерона и Ливии Друзиллы, благодаря второму браку которой
стал приемным сыном Августа. В 15‑13 гг. до н. э. вместе со старшим братом
Тиберием покорил Рецию. В качестве наместника провинции Галлия и как верховный
главнокомандующий на рейнской границе весной 12 г. до н. э. начал ряд
завоевательных походов в Германии, построил один из названных его именем
каналов между Рейном и Цвидерзее, а в следующем году продвинулся до Везера. При
Друзе римские войска достигли Эльбы. На обратном пути между Заале и Рейном
погиб в результате несчастного случая. Посмертно получил почетное имя
Германика, которое стало в его семье наследственным.
[358] Титул «Шихуанди» в переводе с китайского языка
буквально означает «первый властитель‑император».
[359] Сыма Цянь ( 145 или 135 г. до н. э. –
ок. 86 г. до н. э.) – древнекитайский историк, автор труда по истории Китая «Ши
цзи» («Исторические записки»).
[360] В целях централизации страны Цинь Шихуанди
разделил империю на 36 областей, в каждой области поставил начальника – шоу,
воеводу – вэя и инспектора – цзяня. Области делились на уезды, уезды – на
районы, а районы – на волости.
[361] Лю Бан (Гаоцзу; 256 или 247‑195 гг. до
н. э.) – китайский император из династии Западная Хань в 206‑195 гг. до н. э.
Происходил из зажиточной крестьянской семьи. В 209 г. до н. э., когда после
смерти императора Цинь Шихуанди в стране начались беспорядки, Лю Бан возглавил
народное восстание, в результате которого династия Цинь была свергнута, а
циньцы добровольно признали власть Лю Бана. Однако борьба продолжалась еще
некоторое время и только к 202 г. до н. э. Лю Бану удалось победить своих
противников и принять императорский титул под именем Гаоцзу. Империя,
основанная им, оказалась прочной и, несмотря на смуты и потрясения,
просуществовала около 400 лет.
[362] Старый режим (франц.).
[363] Сян Юй (232‑202 гг. до н.э.) –
китайский военачальник, один из вождей восстания против династии Цинь. В 207 г.
до н. э. разгромил циньскую армию Ван Ли и принудил сдаться другого циньского
полководца Чжан Ханя. Подверг циньские владения жестокому разорению. В 206 г.
до н. э. объявил себя князем‑гегемоном Западного Чу и стал, словно полноправный
император, раздавать земли и титулы своим военачальникам. Однако вскоре среди
бывших генералов‑повстанцев, получивших высокие титулы ванов, то есть
«государей», начались междоусобные войны. Наиболее сильным противником оказался
Лю Бан (получивший титул Хань‑вана), который разбил армию Сян Юя, после чего
Сян Юй, окруженный вражескими солдатами, покончил с собой.
[364] Фабианский – от имени римского
полководца Квинта Фабия Максима (ум. 203 г. до н. э.), который вел против войск
Ганнибала сдерживающую войну (отсюда прозвище Кунктатор – Медлитель). В конце 2‑й
Пунической войны был противником наступательной стратегии Сципиона. Римский
поэт Энний характеризовал его следующим образом: «Единственный муж, который
благодаря своей медлительности восстановил государство».
[365] Это словоупотребление бытовало в Англии вплоть
до Нового времени. Городами (cities) были «кафедральные города», другие же
города (towns) были «городками».
[366] Со времен IV Вселенского собора, собранного в
451 г. в Халкидоне, вошло в обычай называть первенствующих епископов в главных
пяти церковных округах патриархами («начальниками отцов»), а знатнейшим
митрополитам, у которых отняты некоторые права самостоятельности, в почетное
отличие присвоен титул экзарха («начальника»), например митрополитам Ефесскому,
Кесарийскому, Ираклийскому.
[367] Ост‑Индская компания – компания
английских купцов (1600‑1858) в основном для торговли с Ост‑Индией (название
территории Индии и некоторых других стран Южной и Юго‑Восточной Азии).
Постепенно превратилась в государственную организацию по управлению английскими
владениями в Индии и их эксплуатации. Имела армию и аппарат колониального
управления.
[368] Уэлсли Ричард Колли, 1‑й маркиз (1760‑1842)
– английский государственный деятель и администратор. Родился в Ирландии, брат
герцога Веллингтона. В 1797‑1805 гг. – генерал‑губернатор Бенгалии. Путем войн
и неравноправных договоров расширил территорию английского господства. В 1809‑1812
гг. – министр иностранных дел Великобритании, в 1821‑1828 гг. и 1833‑1834 гг. –
лорд‑наместник Ирландии.
[369] Из поэмы С. Т. Кольриджа «Кубла‑хан» (1797)
(пер. К. Д. Бальмонта).
[370] Симла (Шимла) – город в Северной Индии,
в предгорьях Гималаев, на высоте около 2000 м. В 1865‑1939 гг. был летней
столицей Британской Индии.
[371] Балморал – замок в графстве Абердиншир,
построенный королевой Викторией. С 1852 г. – официальная резиденция английских
королей в Шотландии.
[372] Виктория ( 1819‑1901) – королева
Великобритании с 1837 г., чье долгое правление составляет «золотой век»
Британской империи и чьим именем названа целая эпоха в культурной и
общественной жизни страны, для которой наряду с внешним процветанием были
характерны серьезные внутренние противоречия, прикрываемые ханжеством и
лицемерием официальной морали.
[373] Селевк I Никатор (Победитель) (ок. 356‑281
гг. до н. э.) – полководец Александра Македонского, основатель царства
Селевкидов. С 323 г. до н. э. – сатрап, в 305‑304 гг. до н. э. принял царский
титул. В результате победы над Антигоном при Ипсе в 301 г. до н. э. завоевал
Сирию. В 281 г. до н. э., победив Лисимаха при Курупедионе, захватил многие
области в Малой Азии. Благодаря этому его государство почти достигло размеров
царства Александра Македонского. Предпринял в 281 г. дон. э. поход на Македонию
и был убит. Разделил свое государство на несколько десятков областей, в которых
многие города греческого типа (полисы) получили право на самоуправление.
[374] Одна из многих других Селевкий была также
основана по соседству, чтобы служить в качестве порта для Антиохии. Из этой
Селевкий, как свидетельствуют Деяния святых апостолов, св. апостол Павел отплыл
на Кипр в своем первом миссионерском путешествии.
[375] Хиджаз – провинция в Саудовской Аравии.
В начале VII в. здесь зародился ислам и была основана Мухаммедом мусульманская
община, ставшая ядром Арабского халифата. Мекка и Медина стали священными
городами мусульман.
[376] Ятриб (Ясриб) – древнее название
Медины.
[377] Мансур, аль‑ (Абу Джафар Абдаллах ибн
Мухаммед аль‑Мансур) (ок. 709‑775) – второй и самый выдающийся аббасидский
халиф (с 754 г.). В 762 г. основал на месте древней Селевкии‑Ктесифона новую
столицу халифата – Багдад, ставший крупнейшим городом Востока, средоточием
арабской науки и культуры.
[378] Есть что‑то нелепое в этом изменении
топонимов. Издатель этой сокращенной версии вспоминает, как получил пятьдесят
лет назад письмо от друга, недавно возвратившегося из французского
провинциального города. Он писал: «С тех пор, как я был здесь в последний раз,
антиклерикалы получили большинство мест в Совете, и улица Иоанна Крестителя
стала улицей Эмиля Золя» (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[379] Блюхер Гебхард Лебрехт (1742‑1819) –
прусский фельдмаршал, чья непримиримая вражда к Наполеону принесла ему славу
национального героя. Неоднократно терпел поражения от наполеоновских войск, но
взял свое при Ватерлоо, когда его своевременное появление на поле битвы решило
исход последней в пользу союзников. После вторичного отречения Наполеона Блюхер
был единственным из командующих союзных армий, настаивавшим на его расстреле,
чему решительно воспротивился герцог Веллингтон.
[380] Имеется в виду принц‑регент (с 1811 г.) при
душевно больном короле Великобритании Георге III, его сын Георг (1762‑1830) –
будущий король Георг IV (с 1820 г.).
[381] От имени главного героя романа Ф. Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532‑1564) – великана Гаргантюа, прославившегося
неимоверным аппетитом и ставшего синонимом ненасытного обжоры и пьяницы.
[382] Артаксеркс I (ум. 424 г. до н. э.) –
персидский царь из династии Ахеменидов (правил с 465 г. до н. э.), прозванный
Долгоруким (Лонгиманом) за то, что его правая рука была длиннее левой. Был
покровителем Иудеи. Позволил Ездре возвратиться в Иудею, а Неемии, который
служил виночерпием Артаксеркса, отстроить Иерусалим. Заключил так называемый
Каллиев мир с Афинами, которым закончились греко‑персидские войны (449 г. до н.
э.).
[383] Лоян – город в Северном Китае,
основанный в 1108 г. до н. э. Был столицей китайских императорских династий Чжоу
с 770 по 516 гг. до н. э., Поздняя Хань с 25 по 220 гг. н. э. и других.
[384] Чжоу – китайская императорская
династия, правившая в 1122‑256 гг. дон. э.
[385] Первый среди равных (лат.).
[386] Кипу – «узелковое письмо»,
употреблявшееся в государствах инков (Южная Америка). Использовалось в качестве
средства для удержания в памяти последовательности и логической связи
передаваемых устно сообщений.
[387] Японское письмо – это идеографически‑фонетическое
письмо. Иероглифы, заимствованные в VI–VII вв. у китайцев, используются для
написания некоторых знаменательных слов и их неизменяемых частей (1850 знаков).
Другие слова и изменяемые части слов пишутся слоговой азбукой кана (которая
явилась результатом графического сокращения иероглифов), существующей с VIII в.
в двух вариантах: катакана (используется главным образом для записи
заимствованных слов) и хирагана (используется для собственно японских слов).
[388] Еще до опубликования этой сокращенной версии
VII–X томов минойское линейное письмо Б было дешифровано М. Вентрисом и Дж.
Чедвиком как средство передачи греческого языка (см.: The Journal of Hellenic
Studies. Vol. LXXIII. P. 84‑103), и их интерпретация сразу же почти единодушно
была признана всеми учеными.
[389] Линейное письмо А еще не было расшифровано ко
времени написания, к 1954 г. Оно имело широкое распространение на всем острове
Крите, а язык, средством выражения которого оно служило, вероятно, был
догреческим минойским (к какой бы языковой семье он ни принадлежал). Область
распространения линейного письма Б, которое, как теперь известно, было
средством выражения греческого языка, на Крите ограничивалась Кноссом, однако
распространялась также и на отдельные центры микенской культуры на материке.
[390] Абд аль‑Малик (ок.646‑705) – пятый
халиф Арабского халифата (685‑705) из династии Омейядов. Восстановил порядок в
мусульманской империи и расширил ее территорию в Северной Африке.
[391] Хиндустани – диалект языка хинди, на
котором говорят в Дели. Используется в качестве lingua franca во всей Индии.
Письменность – на основе алфавита деванагари, восходящего к древнеиндийскому
письму брахми (см. прим. 69).
[392] Урду – официальный язык Пакистана, один
из официальных языков Индии. Относится к индийской группе индоевропейской семьи
языков. Генетически тождествен хинди. Отличается от него обилием персидской и
арабской лексики и арабской графикой.
[393] Иосиф II (1741 ‑1790) – австрийский
государь в 1780‑1790 гг. (в 1765‑1780 – соправитель своей матери Марии
Терезии), император Священной Римской империи с 1765 г. Представитель
просвещенного абсолютизма, Иосиф II пытался преобразовать наиболее обветшалые
австрийские институты путем реформ «сверху», в рамках феодально‑абсолютистского
строя. Как правитель Иосиф II отличался энергичностью, огромной
трудоспособностью и в то же время деспотизмом.
[394] Имеется в виду знаменитая Бехистунская надпись
– трехъязычная (древнеперсидская, эламская и вавилонская) клинописная надпись
на скале Бехистун (Бисутун) близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу
царя Дария I. Содержит изложение событий в государстве Ахеменидов
преимущественно в 522‑519 гг. до н. э. Надпись прочтена в 30‑40‑х гг.
XIX в. английским ученым Г. К. Роулинсоном. Прочтение Бехистунской надписи
положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока.
[395] Свершившийся факт (фр.).
[396] Брахми – одна из древнейших
разновидностей индийского слогового письма, возникшая в VIII или VII вв. до н.
э. К брахми восходит большинство современных видов письма Индии и Индокитая.
[397] Кхароштхи – индийское письмо.
Развивалось на основе арамейского письма, читается справа налево, в позднейших
надписях – слева направо. Древнейшие надписи относятся к III в. до н. э.
[398] Кечуа – язык народа кечуа, один из двух
официальных языков Перу, один из трех официальных языков Боливии. Относится к
семье кечуа‑аймара индейских языков. До колонизации Южной Америки – официальный
язык государства инков (XV в.). Современный язык кечуа пользуется латинским
алфавитом.
[399] To есть пространства плодородной земли вокруг
севера Аравийской пустыни от Египта вдоль Сирии, Месопотамии и Вавилонии до
Персидского залива.
[400] Имеется в виду основатель манихейства перс
Мани (216 – между 274 и 277), родом из Вавилонии, который, по преданию,
проповедовал в Персии, Средней Азии, Индии. В основе манихейства лежало
дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и
равноправных принципов бытия. Распространилось в I тысячелетии н. э. от Китая
до Испании, подвергаясь гонениям со стороны зороастризма, римского язычества,
христианства, ислама и других религий. В VIII в. манихейство было
господствующей религией в Уйгурском царстве. Оказало влияние на средневековые
дуалистические ереси.
[401] В 212 г. римский император Каракалла (186‑217
гг.; правил с 211 г.) издал эдикт о даровании римского гражданства (Constitutio
Antoniniana) всему свободному населению Римской империи. Таким образом, римское
гражданство – самый привилегированный статус жителя Империи, за который
столетиями боролись италики и провинциальная аристократия, – сразу
предоставлялось почти всем свободным, в том числе и только включенным в состав
Империи окраинным варварским народам.
[402] «Вечный эдикт» (лат.). По распоряжению
императора Адриана (76‑138 гг.; правил с 117 г.) крупнейший римский юрист этого
времени Сальвий Юлиан пересмотрел и обобщил многочисленные преторские эдикты об
организации судебной власти (избираемые народным собранием во времена
Республики и в сенате во времена Империи преторы имели конституционное право
издавать дополнения и исправления в судебные инструкции). Эта обобщающая работа
предшествующего законодательства была издана от имени Адриана под названием «Вечного
эдикта», и тем было на долгий срок стабилизировано римское судопроизводство.
Изданием «Вечного эдикта» прекращалось судебное правотворчество преторов как
магистратов, право судебного творчества было передано императору как носителю
высшей власти.
[403] Имеются в виду составные части Кодификации
Юстиниана (Corpus iuris civilis) – Кодекс Юстиниана, Институции и
Дигесты. В 528 г. императором Юстинианом была учреждена комиссия юристов
для составления сборника римских конституций (constitutio‑ nes) с целью замены
устаревших законов и устранения противоречий в законодательстве. С принятием Кодекса
Юстиниана 16 апреля 529 г. все не вошедшие в него конституции, а также прежние
сборники законов потеряли свою силу.
[404] Морган Жак Жан Мари (1857‑1924) –
французский археолог. Вел раскопки в Иране, Закавказье, Египте, Индии и других
странах.
[405] Имеется в виду игра «заяц и собаки» (paper‑chase),
в которой убегающие оставляют за собой бумагу как след.
[406] Новеллы (от лат. novellae leges
– «новые законы») – законы, изданные после официальной кодификации права
(например, после выхода Кодекса Феодосия и до 472 г. н. э.). Новеллы
Юстиниана и его преемников, вышедшие после второго издания Кодекса
Юстиниана, составили позднее часть свода римских законов (Corpus iuris
civilis).
[407] Эпизод из комедии У. Шекспира «Сон в летнюю
ночь» (действие 3, сцена 1). Имена героев даны в пер. М. Л. Лозинского.
[408] Лев I Восстановитель (ок. 400‑474 гг.)
– византийский император в 457‑474 гг. По происхождению фракиец. Был возведен
на престол верховным военачальником Аспаром, которого затем сместил с помощью
исавров. Стремился восстановить единство Римской империи. Его попытки навязать
ортодоксальное христианство потерпели неудачу. Поражением закончился также его
поход против вандалов (468 г.).
[409] Македонская династия – династия
византийских императоров в 867‑1056 гг. Основана Василием I (867‑886), выходцем
из македонских крестьян. Основные представители: Лев VI, Константин VII,
Василий II.
[410] Шариат (араб, шариа, букв. –
«надлежащий путь») – свод мусульманских правовых и теологических нормативов,
провозглашенный исламом вечным и неизменным плодом божественных установлений.
[411] Декалог – десять заповедей Ветхого
Завета, данных Богом Моисею на горе Синай.
[412] Великий год (лат.).
[413] «Сотический цикл» (от имени Сотис
(Сопдет) – в египетской мифологии богиня звезды Сириус) – в древнеегипетском
календаре период в 1 460 «сотических лет». «Сотическим годом» назывался
фиксированный год, определявшийся солнечным восходом звезды Сириус и
равнявшийся 365 дням.
[414] Подобным же образом и слова «распятаго за ны
при понтийстем Пилате», имеющиеся как в Никейском, так и в Апостольском
Символах веры, используемых христианскими Церквями, представляют собой, скорее,
констатацию даты, нежели обвинение против конкретной личности. Если бы авторы
Символов пожелали увлечься полемикой, то они, скорее, обвинили бы в
преступлении евреев, которых продолжали ненавидеть, нежели представителя
имперского Рима, с которым примирились. Пункт «распятаго за ны при понтийстем
Пилате» является утверждением того, что Второе Лицо Троицы было исторической личностью
с определенной датой рождения в противоположность мифическим личностям других
религий – таким, как Митра, Исида или Кибела.
[415] Ашер Джеймс (1581 ‑1656) – англиканский
архиепископ и ученый. Его система библейской хронологии, датирующая творение
4004 г. до н. э., долгое время была общепринятой в Англии.
[416] Бешеным успехом (франц.).
[417] Республиканский (революционный) календарь был
введен во Франции в 1793 г. Вместо недели была принята единица исчисления
времени, равная десяти дням, – декада. 12 месяцев носили названия, связанные с
явлениями природы по сезонам; летоисчисление начиналось с 22 сентября 1792 г.
Этот календарь просуществовал до 1 января 1806 г.
[418] В России юлианский календарь сохранялся вплоть
до 14 февраля 1918 г., а в Русской Православной Церкви до сих пор признается
только юлианский календарь.
[419] Григорий XIII (1502‑1585) – римский
папа с 1572 г. Один из вдохновителей Контрреформации. Стремился распространить
католицизм в Русском государстве. Провел реформу календаря (1582 г.).
[420] Глас Божий (лат).
[421] Старого режима (франц.).
[422] Десятичная система счисления – берет
начало в глубокой древности и связана с пальцевым счетом. Десятичная система
мер и весов была введена во Франции 22 декабря 1795 г.
[423] Род человеческий (лат.).
[424] «Пристанище несбывшихся амбиций» (home
of lost causes) – прозвище Оксфордского университета.
[425] 24 часа в сутках и 60 минут в часе также имеют
шумерское происхождение и представляют собой гораздо лучший пример
неограниченной жизни пережитка. Даже французские революционеры не пытались
переводить часы на десятичную систему мер.
[426] Свидетельство присутствия (фр.).
[427] Лактанций Луций Целий Фирмиан († после
317) – христианский богослов. Был назначен императором Диоклетианом ритором в
Ни‑ комедию. До 303 г. перешел в христианство и из‑за преследований был
вынужден уйти из риторской школы. Позднее в Трире выполнял обязанности
воспитателя сына императора Константина I Криспа. Наиболее значительными из его
сочинений являются «Божественные установления» – первая попытка изложить на
латинском языке основные положения христианского вероучения, а также «О смерти
гонителей», доведенное до времен правления Диоклетиана.
[428] Тойнби имеет здесь в виду следующие слова из
Послания апостола Павла к Ефесянам: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и
меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 11‑17).
[429] Климент Римский, св. (t в 101 г.) –
четвертый римский епископ (с 92 г.). Согласно церковному Преданию, после своего
изгнания императором Траяном в Херсонес Таврический (Крым) продолжал там
проповедовать христианское учение и принял мученическую смерть. Как автора
Первого послания к Коринфянам (ок. 96 г.), его причисляют к мужам апостольским.
[430] В церковно‑славянском переводе – «оброци бо
греху смерть», в Синодальном – «возмездие за грех – смерть» (Рим. 6,
23).
[431] Баринг‑Гульд (Baring‑Gould), Сабин
(1834‑1924) – английский священник и писатель. Автор многочисленных работ по
фольклору, путешествиям и истории Запада Англии. Основные работы –
«Происхождение и развитие религиозной веры» (1869‑1870), «Жития святых» (1872‑1877),
роман «Брумсквер» (1896). Написал также произведение «Вперед, воины Христовы».
[432] Буф (Booth) Вильям («генерал» Буф)
(1829‑1912) – английский религиозный деятель, основатель и первый генерал
международной христианской организации «Армия спасения» (1865).
[433] Ниже [ее] достоинства (лат.).
[434] Бентам Иеремия (1748‑1832) – английский
философ, социолог, юрист, родоначальник утилитаризма. Этика Бентама, изложенная
в сочинении «Деонтология, или Наука о морали» (1834), утверждает руководящим
принцип полезности. Нравственный идеал – «наибольшее счастье наибольшего числа
людей», критерий морали – «достижение пользы, выгоды, удовольствия, добра и
счастья». Бентам рассматривал частные интересы в качестве единственно реальных
и сводил общественные интересы к совокупности индивидуальных интересов. Его
политические идеи изложены в трудах «О правительстве» (1776), «Принципы морали
и законодательства» (1789).
[435] Клавдий I (10 г. до н. э. – 54 г. н. э.) – римский
император (с 41 г. н. э.). Болезненный и слабохарактерный по природе, Клавдий
первоначально находился в стороне от государственных дел. Ревностно занимался
науками, в частности историей Рима и этрусков, а также пытался ввести в обиход
новые латинские буквы. После вступления на престол власть фактически перешла в
руки его третьей жены Мессалины и ее любовников. В период правления Клавдия по
его личному почину был проведен ряд важных мероприятий, например дарование
полного гражданства неиталийским общинам, что сыграло существенную роль в
романизации провинций; были внесены изменения в наследственное брачное и
рабское право; государственная казна возвращена в управление квесторов; были
основаны многочисленные колонии, проложены дороги и возведены технические
сооружения. В это период к Римской империи были присоединены Южная Британия и
Мавретания. Отравлен своей четвертой женой Агриппиной, которая боялась, чтобы
Клавдий не лишил престола ее сына Нерона.
[436] Арнольд Томас (1795‑1842) – английский
историк и педагог‑ теоретик, глава школы в Регби, известный своими реформами
образования в закрытых школах. Отец литературного критика и поэта Мэтью
Арнольда.
[437] Амвросий Медиоланский, св. (333/334 или
339/340‑397) – епископ Медиоланский, один из отцов Церкви, автор трудов по
церковному праву, догматике, экзегетике. После изучения права и риторики стал
консулом Эмилии с резиденцией в Медиолане (Милане). Здесь, посредничая между
православными и арианами, Амвросий приобрел такую репутацию, что еще не
крещенным был избран в 374 г. епископом. Основная его деятельность
сосредоточивалась в религиозно‑политической области. Так, он не допустил в
церковь без публичного покаяния императора Феодосия, когда тот возвратился
после избиения жителей Фессалоник. В своих экзегетических, догматических и
аскетических сочинениях использовал идеи Цицерона, Филона, греческих богословов
Оригена, Василия Великого, Афанасия Александрийского, неоплатоников Плотина и
Порфирия и тем самым приобрел большое значение в латинской культурной сфере.
Первым ввел в западное богослужение пение гимнов.
[438] Кассиодор Флавий Магн Аврелий (ок. 490‑583)
– римский политический деятель и писатель, выходец из сенатской аристократии.
Находясь на службе у Теодориха, стремился к достижению взаимопонимания между
готами и римлянами. С упадком готского могущества ушел около 540 г. в отставку
и основал на своей родине Виварийский монастырь, где занялся сбором рукописей
античных авторов, привлек к их переписыванию монахов и тем самым сыграл
огромную роль в сохранении древней литературы. Им написаны книги «Институции»,
«История готов», «12 книг», а также хроника от сотворения мира до 519 г.,
комментарии к псалмам, сочинения богословского содержания и труды о грамматике
латинского языка.
[439] Городской префект (лат.) – обладатель
полицейской власти и представитель правосудия в Риме.
[440] То есть додиоклетиановская Империя, основанная
Августом, который носил титул принцепса, означающий «первый в доме» (т. е. в
сенате).
[441] Цельс (греч. Келсос) – около 176 г. н.
э. написал полемическое сочинение против христианства «Истинное слово», от
которого сохранилось несколько незначительных фрагментов у Оригена в его
трактате «Против Цельса». В своем труде Цельс обвинял христианство в
нравственной и интеллектуальной деградации.
[442] Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. 2‑е изд.
М., 1983. С. 335‑336. В сноске автор признает, что распространение восточных
религий было не единственной причиной падения античной цивилизации.
[443] Розенберг Альфред (1893‑1946) –
немецкий политик и писатель, занимавшийся разработкой расовой идеологии
нацизма. С 1923 г. – главный редактор центрального органа национал‑социалистской
партии. С 1933 г. – руководитель внешнеполитического отдела партии, с 1941 г. –
министр оккупированных восточных территорий. Автор книги «Миф XX века». После
Второй мировой войны по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге
повешен как военный преступник.
[444] Несомненно, паломничество Христианина и двух
его спутников в первой части «Путешествия пилигрима» – это род деятельности,
который мы могли бы назвать «благочестивым индивидуализмом». Однако во второй
части это несовершенное понимание исправляется, и мы видим растущее общество
паломников, которые не только путешествуют к своей духовной цели, но также и
оказывают вполне земные социальные услуги друг другу на своем пути. Этот
контраст вдохновил монсеньора Нокса на jeu d'esprit (игру ума), в
которой он развивал тезис о том, что если первая часть была произведением
Беньяна‑пуританина, то вторая – произведением Псевдо‑Беньяна, под чьим пот
de plume (писательским именем) скрывалась набожная англо‑католическая дама (Knox,
Ronald A. Essays in Satire. London, 1928. Ch. VII: «The Identity of the
Pseudo‑Bunyan»).
[445] Франциск Ассизский (Джованни Франческо
Бернардоне; 1181 или 1182‑1226) – итальянский проповедник, основатель первого
нищенствующего ордена францисканцев, автор религиозных поэтических
произведений. Франциск углубил идею бедности, изначально присутствовавшую в
христианстве, и из отрицательного признака (отречение от мира) вывел
положительный идеал (бедность как подражание Христу). Традиционное монашеское
отшельничество Франциск заменил апостольским миссионерством. Францисканец,
отрекаясь от мира, должен был оставаться в миру. Католической Церковью
канонизирован как святой.
[446] Винсент де Поль (Vincent de Paul) (ок.
1581‑1660) – французский католический священник, известный своей деятельностью
в пользу бедных. Основал ордена лазаристов (1625) и сестер милосердия (1634).
Католической Церковью канонизирован как святой.
[447] Уэсли Джон (1703‑1791) – основатель
методистского движения, с именем которого связано религиозное возрождение в
Англии и в английских колониях (так называемое Великое пробуждение). В 1729 г.
вместе со своим братом Чарльзом Уэсли организовал в Оксфордском университете
кружок студентов, поставивших своей целью «методичное», т. е. полное и точное,
исполнение христианских заповедей. Из этого кружка впоследствии выросла
методистская Церковь. Методисты «шли в народ», проповедуя дух смирения и
покорности, отстаивая частную собственность. Методизм утверждал, что человек
при грехопадении, утратив праведность, не утратил божественного образа, разума
и свободы воли и способен в результате долгой борьбы со своими греховными
наклонностями достичь безгрешного состояния («второе рождение»).
[448] Антоний Великий, св. (ок. 251 – ок.
356) – египетский отшельник, основатель христианского монашества. Будучи еще
молодым, удалился в глубь Фиваидской пустыни и поселился в полном уединении,
никуда не выходя и никого к себе не принимая, ни с кем не говоря ни слова. Так
в непрерывной борьбе с бесами, вдали от людей преподобный Антоний прожил
двадцать лет. Но по прошествии времени он сделался и для других учителем и
руководителем. У него было много учеников, которых он склонил к отречению от
мира. Образовалось множество монастырей, которым он дал устав и в которых он с
любовью наставлял монахов в подвижнической жизни. 85 лет своей жизни он провел
в пустыне и скончался в возрасте 105 лет.
[449] Иоанн Милостивый, св. (ум. 620 г.) –
патриарх Александрийский (616‑620). Св. Иоанн родился в городе Амафунте на о.
Кипр от знатных и благочестивых родителей, с юности был воспитан в страхе
Божием. Когда его жена и дети умерли, святой ушел в монастырь и стал строгим
подвижником. Вскоре св. Иоанн сделался главой Александрийской церкви, где
ревностно заботился о нравственном и догматическом воспитании паствы, искоренял
остатки ереси монофелитов. Но главным свои делом св. Иоанн считал
благотворительность. Ни один нуждающийся не уходил от него опечаленным и с
пустыми руками – всем просящим он раздавал милостыню, всех утешал в скорбях не
только словом, но и делом. Он одевал раздетых, насыщал голодных, заботился о
странниках и больных, выкупал пленных. Ежедневно он давал все необходимое для
пропитания 7,5 тыс. нищих. Каждую среду и пятницу святой патриарх сидел при
церковных дверях, принимая всех нуждающихся, защищая обиженных и водворяя мир
между пасомыми. Нередко он навещал больных, которым сам прислуживал, и напутствовал
умирающих, своими молитвами помогая им при кончине, часто совершал заупокойную
Божественную литургию, говоря, что это приносит великую пользу усопшим.
Незадолго до своей кончины по болезни он оставил кафедру и вернулся на Кипр,
где ему было видение, призывавшее его в небесные обители. Память его 12 ноября
(ст. ст.).
[450] В духовно восприимчивой душе этот же самый
взгляд, несомненно, может породить, скорее, меланхолическое настроение, чем
самодовольство: «Как только античная цивилизация пала, христианство перестало
быть благородной верой в Иисуса Христа. Оно стало религией, полезной в качестве
социального цемента в мире распада. В этом качестве оно помогало при
возрождении западноевропейской цивилизации после периода «темных веков». Оно
дожило до того времени, когда превратилось в номинальное вероисповедание умных
и деятельных народов, которые перестают даже на словах уверять в преданности
его идеалам. Можно ли что‑либо пророчить о его будущем?» (Barnes E. W.
The Rise of Christianity. London, 1947. P. 336).
[451] Афанасий Великий, св. (295‑373) – самый
знаменитый из александрийских епископов (с 328 г.). За свою непоколебимую
ортодоксальную, антиарианскую позицию пять раз изгонялся императорами. Его
богословские, полные полемики сочинения являются важнейшим источником по
истории Церкви IV в. Несмотря на классическое образование, св. Афанасий уделял
мало внимания литературной форме своих трудов. Его произведение «Жизнеописание
Антония Великого» служило примером для подражания многим последующим поколениям
агиографов и сыграло большую роль в распространении идей и форм монашества,
особенно в Западной Европе.
[452] Работать значит молиться (лат.).
[453] Цистерцианский орден – католический
монашеский орден, основанный в 1098 г. Первым монастырем ордена был Цистерциум
(около Дижона во Франции). С XII в., после реорганизации ордена Бернардом
Клервоским, члены ордена стали называться бернардинцами. В XII–XIII вв. орден
цистерцианцев имел в Европе около 700 монастырей (мужских и женских).
[454] Раджпуты – военно‑феодальная каста‑сословие
в средневековой Индии, каста в современной Северной Индии. Предки раджпутов
населяли главным образом территорию Раджастхана.
[455] Различные отрывки из Второисайи, особенно гл.
53.
[456] Али ибн Абу Талиб (ок. 600‑661) –
двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, четвертый мусульманский халиф (правил
с 656 г.), фактический основатель шиитского направления в исламе (шииты
признают Али единственным праведным халифом наряду с самим пророком). Был убит
одним из фанатичных противников. Его недолгое, но полное бурных событий
правление послужило источником множества легенд (по преданию, он приживлял
отрезанные руки, обращал вспять воды Евфрата, а однажды Аллах даже вернул на
небо уже было зашедшее солнце, чтобы Али успел совершить вечернюю молитву).
Потомки Али были основателями правящих династий во многих мусульманских
государствах.
[457] Симмах Квинт Аврелий (ок. 345‑403) –
латинский оратор, в 384‑385 гг. – префект Рима, в 391 г. – консул. Глава
«Кружка Симмаха», объединявшего представителей сенаторской аристократии,
боровшихся против наступления христианства, за возрождение римской веры и
сохранение римского культурного наследия, в первую очередь литературы. При этом
они вели филологическую работу с произведениями древнейших римских поэтов (в
частности, Ливия и Вергилия), переиздавали их и тем самым спасали от гибели
драгоценные памятники культуры. Симмах – автор «Посланий» (сохранилось 10 книг)
и «Речей» (среди них – реляции, т. е. служебные письма императорам). В третьей
реляции Симмах выступает за восстановление алтаря Виктории в зале сената.
[458] Элиот Джордж (настоящее имя Мэри Анн
Эванс) (1819‑1880) – английская писательница. Из философии позитивизма
заимствовала идею постепенной эволюции общества и «гармонии» классов.
Некоторыми чертами творчество Элиот предвещало натурализм (роман «Мельница на
Флоссе», т. 1 ‑3, 1860). Социальная проблематика сочетается с психологическим
анализом (романы «Сайлес Марнер», 1861; «Миддлмарч», т. 1‑4, 1871‑1872).
[459] Причиной смертного приговора, вынесенного
Сократу, было то, что он имел многочисленных учеников из аристократических
кругов, подвергал нападкам некоторые демократические институты и обычаи, был
связан с представителями антидемократически настроенной софистики. Тойнби имеет
здесь в виду одного из учеников Сократа – афинского государственного деятеля и
полководца Алкивиада (ок. 450 –ок. 404 до н. э.).
[460] «Библейский пояс» – районы США, главным
образом на Юге и Среднем Западе, для которых характерно распространение
религиозного фундаментализма.
[461] Сенуситы – члены мусульманского
религиозно‑политического ордена Сенусийя (Сенусия), основанного в 1837 г. Сиди
Мухаммедом ибн Али аль Сенусси (ок. 1787‑1859). Наибольшим влиянием этот орден
пользовался в Ливии, где в XX в. играл значительную роль в борьбе против
итальянского империализма.
[462] Идриситы – сторонники внука основателя
ордена сенуситов – Мухаммеда Идрис аль‑Махди ассенуси (1890‑1983),
возглавившего освобождение Ливии от войск стран «оси» и провозглашенного в 1951
г. ливийским королем под именем Идриса I (правил до 1969 г.).
[463] Махдисты – участники освободительного
восстания в Восточном Судане (1881‑1898), возглавленного Махди Суданским
(Мухамедом Ахмедом).
[464] Восставший из мертвых» (фр.).
[465] Belloc H. Electric Light (удостоенная
Ньюдигейтовской премии шуточная поэма, тема которой, как дерзко предполагается,
была выбрана властями Оксфордского университета, вероятно, в 1890‑х гг.).
[466] «Бесплодная земля» – название поэмы Т.
С. Элиота (1922), темой которой является духовная деградация западной
цивилизации. Бесплодная земля – символ послевоенной Европы, мир «потерянного
поколения», пораженного кризисом бездуховности, безверия и безнадежности.
[467] Человек согласный (лат.).
[468] Цитата из комедии французского драматурга
Филиппа Детуша (1680‑1754) «Прославленный» (III, 5).
[469] Подготовка к Евангелию (лат.).
[470] Имеется в виду Фридрих II Гогенштауффен (1194‑1250),
император Священной Римской империи (1220‑1250), король Германии (1212‑1250) и
Сицилии (1198‑1250).
[471] Имеется в виду Иннокентий III (в миру –
Джованни Лотарио де Конти) (ок. 1161‑1216), римский папа (1198‑1216), в
понтификат которого светская власть папства достигла своей вершины. Организовал
Четвертый крестовый поход (1202) и крестовый поход против альбигойцев (1208). В
1215 г. созвал Четвертый Латеранский собор.
[472] Григорий I Великий (Двоеслов), св. (ок.
540‑604) – римский папа с 590 г. До избрания римским папой был бенедиктинским
монахом. Распространил христианстве в Британии, послав туда миссионеров во
главе с примасом Августином Кентерберийским. Укрепил светскую власть пап. Стремился
возродить разоренную варварскими нашествиями Италию. Боролся с
Константинопольским патриархом за первенствующее положение в христианской
Церкви. Автор ряда трудов, в том числе «Собеседований о загробной жизни».
[473] Ноулз (Knowles) Дом Дэвид (в миру –
Майкл Клайв) (1896‑1974) – английский монах и историк монашества. Основные
произведения: «Гражданская война в Америке» (1926), «Монашеские ордена в
Англии… 940‑1216» (1940), «Религиозные ордена в Англии» (в 3 томах, 1948‑1959).
[474] Хуже всего – портить лучшее (лат.).
[475] Авернское озеро (Avernus) – озеро
вулканического происхождения, глубина которого достигает 65 м, восточнее Кум в
Кампании (Италия). Здесь, согласно мифу, Одиссей и Эней сошли в подземное
царство Аида. В переносном смысле – Ад.
[476] Тридентский собор (Триентский собор) –
собор католической Церкви, который заседал в 1545‑1547, 1551‑1552, 1562‑1563
гг. в городе Тренто (лат. Tridenum, нем. Trient), находившемся на границе между
Италией и Германией, а в 1547‑1549 гг. – в Болонье. Закрепил догматы
католицизма, подтвердил верховенство римских пап над церковными соборами,
усилил гонения на еретиков, ввел строгую церковную цензуру. Решения
Тридентского собора стали программой Контрреформации. После собора религиозное
брожение в католических странах стало постепенно ослабевать, чем был положен
предел распространению в них протестантизма.
[477] Предшествующий параграф вместе с оставшейся
частью данного раздела «Исследования истории» был предоставлен в машинописи
другу автора г‑ну Мартину Уайту, а полная версия книги воспроизводит множество
собственных авторских комментариев, включая следующий: «Римский католический
критик ответил бы вам здесь словами, которые вы так часто цитируете: “Respice
finem” [Гляди в конец]. Весь предшествующий отрывок является ожиданием: еще не
свершилось. Разве не является фактом то, что римская Церковь – несравнимо более
сильна и влиятельна в XX столетии, чем в любое другое время со дня Тридентского
собора? Если в 1870 г., в период явного надира в своей судьбе, она внесла в
список своих догматов догмат о непогрешимости папы в качестве вызова, то в 1950
г. она стала способна еще больше шокировать светский западный мир, добавив
догмат о непорочном зачатии Девы Марии в качестве свидетельства своей
самоуверенности. Разве ко времени написания этой книги не было одинаково
вероятно, что римская Церковь в ее тридентских доспехах будет единственным
западным институтом, способным бросить вызов и противостоять неоязыческому
тоталитарному коммунистическому государству, и разве не подтверждалось это тем
особым страхом и ненавистью, с которыми Москва смотрела на Ватикан? Если это
так, то вид панциря динозавра будет менее подходящим, чем долгая и успешно
выдерживаемая осада, и тридентская фаза истории католичества в ретроспективе
может показаться схожей с черчиллевской фазой британской истории – от падения
Франции до дня высадки союзных войск в Европе. Вы предрешаете исход. “Respice
finem”».
[478] Библейская аллюзия. См.: Исх. 16, 3.
[479] Эти слова неоднократно упоминаются в Ветхом
Завете (Исх. 3, 8;3. 17; 13, 5; 33, 3, Числ. 14, 18, Втор. 6, 3 и
т. д.).
[480] Ромул Августул (лат. augustulus –
«государик») (475‑476) – последний западно‑римский император. ОтецРомула
Августула, уроженец Паннонии Орест, обладавший титулами патриция и
военачальника (magister militium), сверг в 475 г. императора Юлия Непота. Вслед
за тем Орест, оставив себе звание главнокомандующего войсками Империи,
провозгласил в Равенне малолетнего Ромула Августула императором. Его права на
престол не были признаны ни Восточной Римской империей, ни правителем Галлии
Сиагрием, ни правившим в Далмации Непотом. После того как Орест и Ромул
Августул не удовлетворили требование отрядов восточно‑германских наемников о
выделении им трети италийских земель, последние восстали и провозгласили 23
августа 476 г. своим царем Одоакра. Орест был убит, Ромул Августул низложен в
Равенне и сослан на бывшую виллу Лукулла в Кампании. Низложение Ромула
Августула считается концом Западной Римской империи.
[481] Белуджи – народ в Пакистане, Иране,
Афганистане, населявший историческую область Белуджистан, территория которой в
Средние века входила в различные государства. В XVIII в. Белуджистан был
объединен под властью Насир‑хана Белуджа. В середине XIX в. Англия подчинила
Восточный Белуджистан, а в 1849‑1857 гг. Западный Белуджистан был включен в
Иран. При образовании Пакистана Восточный Белуджистан в 1947‑1948 гг. вошел в
его состав.
[482] Тевтобургский лес (лат. Saltus
Teutoburgiensis) – гряда низкогорий в Германии. Тевтобургский лес известен
благодаря победе херусков во главе с Арминием над римскими легионами Квинктилия
Вара (9 г. н.э.). Тевтобургский лес упоминается только один раз Тацитом,
поэтому его точное положение определить сложно – предположительно, где‑то между
средним течением Везера на востоке и верховьем Эмса на западе. Существует
множество гипотез на этот счет. Оспариваются даже некоторые детали
вышеупомянутого сражения между херусками и римлянами.
[483] Человек‑земледелец (лат.).
[484] Херуски – германское племя, обитавшее
между Везером и Эльбой севернее Граца. В конце I в. до н. э. были покорены
Друзом и Тиберием. Впоследствии они разгромили под предводительством Арминия
три римских легиона в Тевтобургском лесу и сохранили независимость в борьбе
против римского полководца Германика (15‑16 гг.). В I в. н. э. ведущая роль
племени херусков упала из‑за внутренних распрей, часть из них попала в
зависимость к хаттам. Позднее остатки херусков были подчинены тюрингами и
саксами.
[485] Вар Публий Квинктилий (ок. 46 г. до н.
э. – 9 г. н. э.) – римский полководец. Был консулом в 13 г. до н. э.,
наместником в Сирии, где в 6‑4 гг. до н. э. подавил восстание иудеев. Являясь
главнокомандующим римскими войсками в Германии, попытался ввести в завоеванных
Друзом и Тиберием вплоть до Эльбы землях провинциальную систему управления.
Однако германские племена херусков, бруктеров, марсов и хаттов под
предводительством Арминия восстали против римского гнета и в сентябре 9 г. н.
э. полностью уничтожили состоявшее из трех легионов и многочисленных
вспомогательных отрядов войско Вара в битве в Тевтобургском лесу. Вар покончил
жизнь самоубийством. Это сражение было самым тяжелым военным поражением Рима за
всю эпоху Августа и положило конец римскому владычеству во внутренней Германии.
[486] Вазиристан – историческая область в
Пакистане, населенная пуштунскими племенами, которые разделяются на две
основные группы: дарвишы, или вазири, и махсуды. Махсуды, являющиеся
доминирующим населением в южной части Вазиристана, прежде постоянно участвовали
в набегах на приграничные территории. Территория Вазиристана была постепенно
подчинена британской политической администрации. Начиная с 1892 г. Вазиристан
был сценой нескольких крупномасштабных военных операций британской армии против
местных племен в течение второй половины XIX и в XX в., пока Пакистан не
получил в 1947 г. независимость.
[487] «Ресурсы цивилизации не исчерпаны», – сказал г‑н
Гладстон в Палате общин, подразумевая тем самым, что британская администрация
со временем могла бы продемонстрировать еще очень многое в области
националистической агитации и преступлении в Ирландии. Он заблуждался. Сорок
лет спустя «цивилизация» признала свою исчерпанность и подписала договор,
устанавливающий свободное Ирландское государство.
[488] Феодосии I Великий (347‑395) – римский
император с 379 г. После победы готов над армией Валента в Адрианопольском
сражении (378) Грациан провозгласил его августом в Сирмии. В 382 г. заключил
мир с вестготами и расселил их в качестве федератов южнее нижнего течения
Дуная, при этом они должны были нести воинскую повинность. Отказался от
арианства в пользу православного учения Афанасия, провозглашенного единой
государственной религией на созванном им в 381 г. в Константинополе II
Вселенском соборе. Отказался от сана великого понтифика и преследовал
приверженцев язычества. Перед смертью разделил всю Империю между своими
сыновьями – Аркадием и Гонорием, которые соответственно в 383 и 393 гг. стали
августами. Этот шаг означал фактический конец единой Империи и привел в 395 г.
к образованию Западной и Восточной Римской империи. Под критиком Феодосия
Тойнби имеет в виду языческого историка Зосима (жил во второй половине V в.),
резко отзывавшегося об императорах‑христианах и связывавшего упадок Римской
империи с отходом римлян от религии предков и обращением в христианство.
[489] Человек экономический (лат).
[490] Стилихон Флавий (ок. 365‑408) – римский
полководец и государственный деятель. Романизированный вандал по рождению,
Стилихон женился на племяннице императора Феодосия I, который не позднее 393 г.
назначил его главой войска, полководцем (magistrum militum). После победы над
узурпатором Евгением в 394 г. Феодосии сделал Сти‑ лихона главнокомандующим
войсками Империи. Находясь при смерти, император поручил ему опекунство над
своим младшим сыном Гонорием. С 395 по 408 г. Стилихон возглавлял правительство
Западной Римской империи. Императора, который полностью зависел от него,
Стилихон женил в 398 г. на своей старшей, а после ее смерти в 408 г. – на
младшей дочери. Попытка распространить свое владычество на восточную часть
Империи не удалась. Стилихон стремился создать мощную защиту границы по Рейну и
Дунаю, но прежде всего очистить Италию от постоянно вторгавшихся германцев. В
результате антигерманского дворцового переворота Стилихон был свергнут. Гонорий
не поддержал его, и Стилихон был казнен в Равенне.
[491] Аэций Флавий (ок. 390‑454) – римский
полководец, под руководством которого в 451 г. в битве на Каталаунских полях
войска Западной Римской империи, состоявшие в основном из германцев и аланов, в
союзе с вестготами нанесли поражение полчищам гуннов во главе с Аттилой. По
сути, это был последний военный успех умирающей Римской империи, а сам Аэций
получил у современников прозвище «последний римлянин». Был убит во время
аудиенции на Палатинском холме по приказу императора Валентиниана III, на
дочери которого он хотел женить своего сына.
[492] В цивилизованной стране (лат.).
[493] Сопровождающие, свита (лат.).
[494] Название франки впервые упоминается в
291 г. н. э. Оно служит для обозначения морских и прибрежных разбойников и
связано прежде всего с местностью к востоку от Рейна. Поскольку франкские
разбойничьи отряды селились в районе устья этой реки и совершали набеги вниз по
течению, франки стали собирательным названием для варваров, живших к востоку от
Нижнего Рейна. Начиная с последней трети IV в. франки и германцы стали одной
группой людей. Утверждение о том, что франки делились на салических и
рипуарских, не соответствуют действительности, поскольку о рипуарских франках
можно говорить с VIII в., а название «салические франки» к тому времени уже
исчезло.
[495] Грендель – в англо‑саксонском эпосе
«Беовульф» (VIII в.) ужасное чудовище, обликом отдаленно напоминающее человека.
В течение 12 лет подряд Грендель приходит по ночам во дворец короля датчан
Хродгара, убивает его дружинников и пожирает их трупы. Он безнаказанно творит
эти злодейства до той поры, пока к королю не прибывает герой Беовульф, который
в схватке одерживает верх над Гренделем, а затем убивает в подводном жилище его
еще более чудовищную мать.
[496] Зигфрид (Сигурд) – герой германо‑скандинавской
мифологии и эпоса. Главный его подвиг – умерщвление дракона Фафнира,
стерегущего чудесный клад, по наущению брата Фафнира – Регина.
[497] Персей – сын Зевса и Данаи. Царь
Полидект, пожелавший взять в жены Данаю, предложил Персею добыть голову Горгоны
Медузы, взгляд которой превращал всех в камень. При поддержке Афины и Гермеса
Персею удалось получить от нимф шлем, крылатые сандалии и суму. Персей
обезглавил одну из Горгон – смертную Медузу, пользуясь зеркалом, чтобы избежать
ее губительного взгляда. На обратном пути освободил от чудовища Андромеду.
Чудовище он убил или обратил в камень при помощи головы Медузы.
[498] Ясон – в греческой мифологии сын Эсона
из Иолка. Брат Эсона Пелий, свергнув Эсона с престола, послал Ясона в Колхиду
за золотым руном, чтобы погубить его. Ясон возглавил поход аргонавтов в Колхиду
и выполнил поставленные царем Колхиды Ээтом задачи (распахать поле на
огнедышащих быках, посеять драконовы зубы и побороть выросших из них мужей).
Тайно похитил руно при помощи дочери царя Ээта Медеи и отправился с ней на
родину.
[499] Имеется в виду двенадцатый, самый тяжелый
подвиг Геракла, когда он спустился в подземный мир, одолел адского трехголового
пса Кербера (Цербера), охранявшего ворота подземного царства Аида, и привел его
живым на поверхность земли.
[500] Богов, демонов, Кер (богинь смерти) (греч.).
[501] Ролан Жанна Мари (1754‑1793) – жена
министра внутренних дел во французских жирондистских правительствах Жана Мари
Ролана (1734‑1793). В ее салоне в Париже собирались вожди жирондистов (М. Ж.
Кондорсе, Ж. Петион и др.). Казнена якобинцами во время террора.
[502] Атрей – в греческой мифологии микенский
царь, сын Пелопса и Гипподамии, отец Агамемнона и Менелая (Атридов). Брат Атрея
Фиест соблазнил его жену Аэропу. В отместку за это Атрей, притворившись готовым
к примирению, позвал брата на пир и подал ему жаркое из мяса его собственных
сыновей. Этот отвратительный поступок не остался безнаказанным – позднее Атрей
был убит младшим сыном Фиеста – Эгисфом.
[503] Гензерих (Гейзерих) (ум. 477) – король
вандалов, возглавивший в 429 г. их переселение из Испании в Северную Африку и
основавший Вандальское королевство со столицей Карфаген, откуда вандалы
неоднократно совершали пиратские рейды к берегам других средиземноморских
стран. Прославился захватом и жестоким разграблением Рима в 455 г. Затем завоевал
те части Северной Африки и острова Западного Средиземноморья, которые еще
принадлежали Риму. В 468 г. отразил наступление обоих римских государств.
Могущество вандалов на море и создание северо‑африканского государства с
чертами раннефеодальной структуры было в первую очередь заслугой Гензериха.
[504] Валгалла (др.‑сканд. «чертогубиенных»)
– в скандинавской мифологии находящееся на небе, принадлежащее Одину жилище
эйнхериев – павших в бою храбрых воинов, которые там пируют, пьют неиссякающее
медовое молоко козы Хейдрун и едят неиссякающее мясо вепря Сэхримнира. Валгалла
как небесное царство для избранных, по‑видимому, относительно поздно отделилось
от подземного царства мертвых (хель).
[505] В пустоте (лат.).
[506] Фраза из названия памфлета шотландского
протестантского деятеля эпохи Реформации Джона Нокса (Knox) (ок. 1505‑1572)
«Первый зов трубы против чудовищного правления женщин» (1558).
[507] Альбоин (ум. 573) – король лангобардов
(ок. 561 – ок. 573), основатель Лангобардского королевства в Италии (со
столицей в Павии). Был убит в Вероне своей женой Розамундой, дочерью разбитого
им короля гепидов Кунимунда. По преданию, Розамунда отомстила за то, что
Альбоин заставил ее на пиру пить из кубка, сделанного из черепа ее отца.
[508] Гепиды – германское племя, во II в.
переселившееся от Балтики на юг, к границам Римской империи, и в V в. вошедшее
в состав разноплеменной державы гуннов. После смерти Аттилы в 453 г. гепиды
возглавили союз племен, выступивших против гуннов, и разбили войско сына Аттилы
– Эллаха, после чего основали независимое государство в Паннонии,
просуществовавшее до 566 г., когда последний король гепидов Кунимунд погиб в
сражении с лангобардами (см. прим. 21).
[509] Брунгильда – героиня германо‑скандинавского
эпоса. В немецкой «Песни о Нибелунгах» (ок. 1200) Брунгильда – правительница
Исландии, давшая обет выйти замуж лишь за того, кто одолеет ее в трех
состязаниях: метании копья, бросании камня и прыжке. Бургундский король Гунтер
решает попытать счастья и с помощью Зигфрида, одетого в плащ‑невидимку,
выполняет условие Брунгильды. Однако после свадьбы Брунгильда ведет себя столь
вызывающе, что Гунтер вновь вынужден обратиться за помощью к Зигфриду, и тот
(опять же под видом Гунтера), применив грубую физическую силу, делает из нее
кроткую и покорную супругу. В финале становится зачинщицей убийства Зигфрида. В
скандинавской «Саге о Вёльсунгах» Брунгильда отождествляется с валькирией
Сигрдривой, разбуженной Сигурдом ото сна, в который ее погрузил Один, и
становящейся смертной женщиной. Выпив колдовской напиток, Сигурд забывает о
своей помолвке с Брунгильдой и берет в жены Гудрун (Кримхильду). В финале
Брунгильда подстрекает бургундского короля Гуннара к убийству Сигурда и кончает
с собой, приказав положить ее на погребальный костер рядом со своим
возлюбленным.
[510] Брунгильда (ум. 613) – дочь короля
вестготов Атанагильда. В 561 г. стала женой австразийского короля Зигберта (ум.
575), которого она побудила к войне против его брата, короля Нейстрии
Гильпериха, умертвившего ее сестру Гальсвинту. В 613 г., попав в руки сына
последнего, короля Клотара II, была предана казни. Возможно, именно история
борьбы двух франкских королев – Брунгильды и Фредегонды – лежит в основании
сюжета германского эпоса (но с перестановкой ролей: убитый в 575 г. король
Сигиберт был мужем Брунгильды).
[511] Фредегонда (Фредегунда) (ум. 597) –
франкская королева. На ней после умерщвления своей супруги Гальсвинты женился
король Нейстрии Гильперих.
[512] Гонерилья, Регана и леди Макбет –
героини трагедий У. Шекспира. Гонерилья и Регана – старшая и младшая дочери
короля Лира из трагедии «Король Лир». Их имена стали символом дочерней
неблагодарности. Леди Макбет – героиня трагедии «Макбет».
[513] В третьей сцене первого акта трагедии У.
Шекспира «Макбет» описывается встреча Макбета с тремя ведьмами.
[514] Марониты (от имени легендарного
основателя Map Марона) – приверженцы особой христианской секты, исповедующей
ересь моно‑ фелитства (учения, утверждающего, что Христос обладал двумя
природами, но одной волей и «энергией» – богочеловеческой). Общины маронитов
возникли в V–VII вв. в Сирии. Живут главным образом в Ливане, а также в Сирии,
Египте и других странах.
[515] Династия Шан (или Инь, как ее принято
именовать в позднейшей китайской историографии) считается первой исторической
династией Китая, существование которой подтверждено современными ей
материальными и письменными источниками. Династия возникла в местности, в
которой сейчас находится провинция Хэнань, и правила с 1766 по 1122 г. до н. э.
Родоначальником династии был Тан (или Чэнтан), потомок легендарного Хуанди.
Наследники Тана в большинстве своем известны нам только по именам. Правители
династии Шан контролировали земли к югу вплоть до берегов Янцзы. При последних
правителях династии государство пришло в упадок и в 1122 г. до н. э. было
завоевано народом, называвшим себя чжоу, после чего в Китае установилось
господство династии Чжоу.
[516] Тифон – в древнегреческой мифологии сын
Лаомедонта, супруг богини Эос. Эос, полюбив Тифона, унесла его к себе, попросив
для него у Зевса бессмертие, но забыла о вечной молодости. Хотя Эос и давала
Тифону нектар и амбросию, он состарился и сделался сверчком.
[517] За свою историю Вена дважды подвергалась
нашествию турецких полчищ. В сентябре – октябре 1529 г. ее осаждала огромная
армия во главе с султаном Сулейманом Великолепным – это был пик турецкого
могущества, и отступление мусульман от стен Вены было с огромным облегчением
воспринято во всем христианском мире. Полтора столетия спустя, в июле –
сентябре 1683 г., немногочисленный гарнизон и жители Вены, покинутые
императором, героически обороняли свой город от 200‑тысячной армии турок под
началом великого визиря Кара‑Мустафы. На сей раз вовремя подоспевшая имперская
армия Карла Лотарингского и войска польского короля Яна Собеского нанесли
туркам тяжелое поражение – именно с этого момента началось постепенное вытеснение
турецких завоевателей из Европы.
[518] Западный человек (лат).
[519] Имеется в виду Плиний Младший (61 /62 – ок.
113) – римский общественный деятель и писатель из состоятельной семьи. Был
оратором, адвокатом, консулом в 100, в 111‑112 или 112‑113 гг., императорским
легатом в Вифинии. Из его литературных трудов сохранились 10 книг «Писем».
Задуманные как эпистолярный литературный труд, тщательно стилизованные, они
дают представление о материальной и духовной стороне жизни главным образом
привилегированного римского общества времени Траяна. Книга 10‑я включает письма
Плиния и Траяна, которые они писали друг другу в период наместничества Плиния.
Эта переписка – важный исторический документ («Письма об обращении с
христианами», №№ 96‑97).
[520] Деятельность иезуитского ордена, основанного в
1534 г. испанским дворянином Игнатием Лойолой, особенно ярко проявилась в Литве
и частично в Польше. В первой половине XVI в. обе эти страны значительно
подпали под влияние кальвинизма. В 1550 г. в Польше проповедовал глава
антитринитариев Социн. Кальвинизмом увлекались целые приходы и даже
католическое духовенство. Тогда в 1560 г. на помощь обессилевшему в борьбе с
протестантами католическому духовенству по его просьбе был прислан орден
иезуитов. На первых порах они проявили себя как скромные и самоотверженные
иноки, благотворители несчастных, благочестивые и образованные проповедники и
бескорыстные наставники юношества, для которого заводили бесплатные школы. Их
проповеди, школьные и публичные диспуты, торжественные богослужения, пышные
религиозные процессии, благотворения и самоотверженное служение больным,
особенно проявившееся во время чумы, стали привлекать к ним толпы народа.
Католичество укреплялось и возвеличивалось. Одолев протестантов, иезуиты начали
борьбу против Православия. Их ученик, польский король Сигизмунд III, был душой
заключенной в 1596 г. Брестской унии и пытался в «Смутное время» начала XVII в.
насадить католичество в России. Там, где нельзя было действовать обычными
средствами, иезуиты прибегали к силе оружия.
[521] В результате церковно‑религиозной «реформации»
XVII в., начатой патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем и
инспирированной иезуитами, прежде единая Русская церковь раскололась на две
части: старообрядческую и новообрядческую. Одна половина, более демократическая
и национальная, стояла за старую веру и обычаи, вторая же, правительственная,
стояла за новую веру и склонялась к Западу. По оценкам современных историков,
около трети населения Русского государства осталось верным старым обрядам,
несмотря на жесточайшие преследования со стороны правительства и иерархов. Так
что ни в численном, ни тем более в каноническом отношении староверов сектой
назвать нельзя. К сожалению, А. Дж. Тойнби оказался здесь в плену обычных
мифов, на протяжении столетий распространявшихся господствующей в России
Церковью и ангажированными ею историками.
[522] Латинская империя – государство,
основанное в 1204 г. участниками Четвертого крестового похода на завоеванной
ими византийской территории. Столицей Латинской империи стал Константинополь.
Помимо непосредственных владений императора, в Латинскую империю входили
Фессалоникийское королевство, Ахейское княжество, Афинское герцогство и другие
земли. В 1261 г. никейский император занял Константинополь, и Латинская империя
пала.
[523] Кантемир Дмитрий Константинович, князь
(1673‑1723) – молдавский господарь (с 1710 г.), ученый и политический деятель.
С 1711 г. в России, советник Петра I. Участник Персидского похода 1722‑1723 гг.
Автор трудов по истории Молдавии.
[524] Государство в государстве (лат).
[525] Кораис Адамандиос (1748‑1833) – греческий просветитель.
Разоблачал реакционную роль высшего греческого духовенства, призывал к
антиосманскому восстанию (при поддержке Франции). В 1805 г. начал издание
«Греческой библиотеки» (греческой классики). Выступал в поддержку греческой
национально‑освободительной революции 1821‑1829 гг.
[526] Караджич Вук Стефанович (1787‑1864) –
сербский филолог, историк, фольклорист, деятель национального возрождения,
иностранный член‑корреспондент Петербургской академии наук (1851 г.).
Осуществил реформу сербскохорватского литературного языка на основе народной
речи, составил его грамматику и словарь. Опубликовал исторические и
этнографические материалы, произведения устной словесности.
[527] Карагеоргий (настоящее имя и фамилия –
Георгий Петрович) (1768‑1817) – руководитель Первого сербского восстания 1804‑1813
гг. против османского ига, основатель (1808 г.) династии Карагеоргиевичей. Был
гайдуком, добровольцем участвовал в борьбе против турок в рядах австрийской
армии (1788‑1790), затем продолжал борьбу в партизанском отряде. Выделился в
качестве наиболее талантливого руководителя освободительного восстания,
начавшегося в 1804 г. Под руководством Карагеоргия сербы одержали крупные
победы над турецкой регулярной армией. Благодаря союзу с Россией, находившейся
в состоянии войны с Турцией (1806‑1812), войска Карагеоргия одерживали победы
над турецкими войсками. В 1808 г. сербская скупщина провозгласила Карагеоргия
верховным кнезом (князем) Сербии. В 1811 г., сломив сопротивление воевод,
Карагеоргий стал единодержавным правителем Сербии. Воспользовавшись тем, что
Россия оказалась занятой борьбой против наполеоновской Франции, турки в 1813 г.
опять захватили все освободившиеся от их гнета сербские земли. Карагеоргий
бежал в Австрию, а в 1814г. выехал в Россию. В 1817г. тайно вернулся в Сербию,
был обезглавлен по приказу князя Милоша Обреновича, боявшегося притязаний
Карагеоргия на власть.
[528] Милош Обренович (Милош Теодорович)
(1780‑1860) – сербский князь в 1815‑1839 гг. и с 1858 г.; основатель династии
Обреновичей. Был выходцем из бедной крестьянской семьи, происходившей из
деревни под Ужицами (Западная Сербия). Работал пастухом и приказчиком у некоего
Обрена, по имени которого стал именоваться Обреновичем. Участник Первого
сербского восстания 1804‑1813 гг., один из воевод Карагеоргия. После поражения
восстания вступил в переговоры с турками. В 1815 г. назначен турецкими властями
оберкнезом (главным князем) трех сербских областей, а вскоре – башкнезом
(верховным князем) всей Сербии. Добился превращения своей власти в
наследственную. Проводил абсолютистскую политику.
[529] По отношению (фр.).
[530] Русско‑турецкая война 1877‑1878 гг.
была вызвана подъемом национально‑освободительного движения на Балканах и
обострением международных отношений. Основные события: сражение на Шипке, осада
и взятие русскими войсками Плевны и Карса (Закавказье); зимний переход русской
армии через Балканский хребет, победы у Шипки (Шейново), Филипполя, взятие
Адрианополя. Завершилась Сан‑Стефанским миром 1878 г., решения которого
пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. Способствовала освобождению народов
Балканского полуострова от османского ига.
[531] Из ничего (лат.).
[532] Автором фразы является граф Жозеф де Местр
(1753‑1821) – французский публицист, политический деятель и религиозный
философ, который наиболее активные свои годы провел в России в качестве
посланника без жалованья изгнанного сардинского короля.
[533] Гама Васко да (1469‑1524) – знаменитый
португальский мореплаватель. В 1497‑1499 гг. совершил плавание из Лиссабона в
Индию, обогнув Африку, и обратно, впервые проложив морской путь из Европы в
Южную Азию. В 1502‑1503 гг. он по поручению короля Мануэла во главе большой
флотилии вновь отправился в Индию, где утвердил португальское господство,
повсеместно уничтожая чужие корабли и подвергая бомбардировке прибрежные
города. Третье плавание да Гама совершил в 1524 г. уже в должности вице‑короля
Индии. На сей раз его главной целью было пресечь злоупотребления, распущенность
нравов и казнокрадство, ставшие нормой поведения португальцев на Востоке при
нескольких предшествующих вице‑королях. Да Гама решительно взялся за дело, но,
не успев довести его до конца, внезапно заболел и умер. В 1538 г. его останки
были перевезены из Индии в Португалию и здесь торжественно захоронены. Личная
честность, отвага, решительность и практицизм сочетались в характере да Гамы с
необычайным высокомерием и доходившей порой до садизма жестокостью, что в целом
делало его образцовым представителем европейских конкистадоров эпохи великих
географических открытий.
[534] Банья – купеческая каста на севере и
западе Индии.
[535] Корнвалис Чарлз, 1‑й маркиз (1738‑1805)
– британский генерал, участвовавший в американской Войне за независимость.
Командовал войсками и потерпел поражение при Йорктауне (1781 г.). Одержал
победу над Типу Сагибом в 1791 г. Был генерал‑губернатором Индии в 1786‑1793
гг. и в 1805 г. Подписал в 1802 г. Амьенский мирный договор.
[536] Набоб – в Англии и Франции в XVIII в.
человек, разбогатевший в колониях, главным образом в Индии.
[537] Наваб – наместник в империи Великих
Моголов.
[538] Человек, любящий пожить в свое удовольствие (фр.).
[539] Мансабдар – военачальник‑феодал в
Могольской империи (Индия).
[540] По названию народа суахили (васуахили),
обитающего в Танзании, Кении, частично в Мозамбике и говорящего на языке
суахили.
[541] Декан – плоскогорье на юге Индии между
реками Нармада и Кришна.
[542] Русско‑турецкая война 1768‑1774 гг. была
начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких
войск при Ларге и Кагуле (командующий – П.А. Румянцев), турецкого флота в
Чесменском бою, занятие Крыма заставили турецкое правительство подписать Кючук‑Кайнарджийский
мир 1774 г.
[543] В 1798‑1801 гг. состоялась так называемая
Египетская экспедиция – поход французской армии генерала Наполеона Бонапарта с
целью завоевания Египта и нарушения английских коммуникаций с Индией. В июне
1798 г. французские войска высадились около Александрии и захватили Египет, но
оказались отрезанными от Франции, так как французский флот был разгромлен в
августе 1798 г. при Абукире. После неудачного похода в Сирию (1799 г.) и в
связи с обострением борьбы за власть во Франции Бонапарат уехал во Францию. В
1801 г. французские войска в Египте капитулировали.
[544] Руритания – шуточное название небольшой
малоизвестной страны или района, считающегося достаточно удаленным или
экзотическим. Название происходит от вымышленного королевства в Центральной
Европе из романа «Узник Зенды» (1894) А. Хоупа.
[545] Антонио – венецианский купец в
одноименной комедии У. Шекспира (1596). Шейлок – кровожадный еврей‑ростовщик в
той же комедии, испытывающий личную неприязнь к Антонио.
[546] По Люблинской унии 1569 г. королевство Польша
образовало с Великим княжеством Литовским государство Речь Посполитую. Петербургскими
конвенциями 1770‑1790‑х гг. территория Речи Посполитой была разделена (всего
было три раздела – в 1772,1793 и 1795 г.) между Пруссией, Австрией и Россией.
[547] «Королевством Польским» называлась
часть Польши, по решению Венского конгресса 1815 г. отошедшая к России.
[548] Герцль Теодор (1860‑1904) – еврейский
писатель и журналист, основатель политической формы сионизма как движения.
Родился и жил в Австро‑Венгрии. В его брошюре «Еврейское государство» (1896)
высказывалась мысль о том, что еврейский вопрос – это вопрос политический, и
решать его надо всемирному совету наций. Герцль организовал всемирный конгресс
сионистов, проходивший в Базеле в августе 1897 г. и стал первым президентом
Всемирной сионистской организации, созданной на конгрессе. Хотя Герцль умер
более чем за 40 лет до основания государства Израиль, именно он как неутомимый
организатор, пропагандист и дипломат сумел превратить сионизм в политическое
движение мирового масштаба.
[549] Сунь Ятсен (другие имена: Сунь
Чжуншань, Сунь Вэнь) (1866‑1925) – китайский революционер‑демократ. Создал в
1894 г. революционную организацию Синчжунхой, в 1905 г. – более массовую
революционную организацию Тунмэнхой. Вождь Синьхайской революции 1911‑1913 гг.,
первый (временный) президент Китайской республики (с 1 января по 1 апреля 1912
г.). В 1912 г. основал партию Гоминьдан. В 1924 г. выдвинул три основные
политические установки – союз с СССР, союз с коммунистической партией Китая,
опора на рабоче‑крестьянские массы.
[550] Госпожа Сунь Ятсен – Сунь Цинлин (1890‑1981)
– вторая супруга Сунь Ятсена, китайский государственный и общественный деятель,
заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей в 1954‑1959 гг. и с 1975 г. Почетный председатель КНР. В 1959‑1975
гг. заместитель председателя КНР. С 1954 г. председатель (затем почетный
председатель) Общества китайско‑советской дружбы.
[551] Мадам Чан Кайши – Мейлин Сун (род.
1898) – вторая супруга (с 1927 г.) главы гоминьдановского режима в Китае Чан
Кайши (1887‑1975). Образование получила в США. Помогала Чан Кайши внедрять
западную культуру в Китае. Во время Второй мировой войны писала много статей о
Китае в американские журналы и была первой китайской женщиной (и второй
женщиной в мире), приглашенной на совместное заседание Конгресса США в 1943 г.
С тех пор и вплоть до 1967 г. ее имя неизменно появлялось в американском списке
10 самых популярных женщин мира.
[552] Сун Цзе Вун (1894‑1971) – китайский
финансист и государственный деятель, в свое время считавшийся одним из
богатейших людей мира. После 1923 г. начал финансировать Гоминьдан, в 1924 г.
учредил в Кантоне Центральный банк Китая. В 1925 г. стал министром финансов в
новом националистическом правительстве. В 1942 г. стал министром иностранных
цел. Когда к власти в Китае пришли коммунисты, Сун эмигрировал в США.
[553] Перри Мэтью Колбрайт (1794‑1858) –
военно‑морской деятель США, коммодор (1841 г.). Вынудил японское правительство
под угрозой военных действий подписать договор 1854 г., положивший конец более
чем двухвековой изоляции Японии от внешнего мира и открывший для американских
кораблей японские порты Хакодате и Симода.
[554] Макартни Джордж, 1‑й граф Макартни
(1737‑1806) – английский дипломат и колониальный губернатор. В 1764‑1767 гг.
был чрезвычайным послом в Санкт‑Петербурге. В 1769‑1772 гг. назначен главным
министром в Ирландии; в 1775‑1779 гг. – генерал‑капитан и губернатор Карибских
островов, затем занимал должность губернатора и президента форта Сент‑Джордж
(Мадрас) в Индии. В 1792‑1794 гг. – чрезвычайный и полномочный посол
Великобритании в Пекине; в 1796‑1798 гг. – губернатор Мыса Доброй Надежды.
Написал «Отчет о посольстве в Россию», «Политический отчет об Ирландии» и
«Дневник посольства в Китай».
[555] Прежнее название города Токио. При сегунах
Токугава (1603‑1867 гг.) Эдо был их резиденцией, а в 1869 г. сюда была
перенесена из Киото резиденция императора, город был переименован в Токио
(«восточная столица») и стал столицей Японии.
[556] Старый режим (фр.).
[557] Японо‑китайская война 1894‑1895 гг. –
война Японии против Китая в целях утверждения японского контроля над Кореей и
проникновения в Китай. Вооруженные силы полуфеодального Китая были разбиты. В
1895 г. подписан Симоносекский договор, по которому Китай отказывался от своего
сюзеренитета над Кореей, что создавало благоприятные возможности для японской
экспансии в Корее, передавал Японии о. Тайвань, о‑ва Пэнхуледао, выплачивал
контрибуцию.
[558] Карикатура в журнале «Панч» по поводу этой
войны озаглавлена «Японец – гигант‑убийца» и изображает добродушно‑легкомысленное
отношение британской публики того времени (Прим. Л. Дж. Тойнби).
[559] Амалфея (Амалтея) – в греческой
мифологии коза (по другой версии мифа – нимфа), вскормившая грудью Зевса на о.
Крит, в пещере горы Ида, где его спрятала мать, спасая от Кроноса. Выражение
«рог Амалфеи» связано со следующим эпизодом. Случайно обломив рог вскормившей
его козы, Зевс сделал его рогом изобилия, а саму Амалфею поместил на небо
(звезда Капелла в созвездии Возничего).
[560] Имеется в виду так называемая Великая
депрессия – глубокий кризис американской, а затем и мировой экономики,
последовавший за крахом нью‑йоркской биржи 24 октября 1929 г. и продолжавшийся
вплоть до начала Второй мировой войны. Великая депрессия сопровождалась
массовой безработицей, нищетой, бродяжничеством и была воспринята многими как
крушение «американской мечты».
[561] Русско‑японская война 1904‑1905 гг. –
война за господство в Северо‑Восточном Китае и Корее. Начата Японией. Основные
события 1904 г.: нападение японского флота на Порт‑Артур, оборона Порт‑Артура,
неудачные для России сражения на р. Ялу, Ляоянское и сражение на р. Шахэ.
События 1905 г.: разгром русской армии при Мукдене, флота – при Цусиме. Война
завершилась Портсмутским мирным договором 1905 г. и ускорила начало Революции
1905‑1907 гг.
[562] Например, общеизвестным фактом английской
истории является то, что права, данные «третьему сословию» Тюдорами, были
использованы против Стюартов (Прим. А. Дж. Тойнби).
[563] Абдул‑Хамид II (1842‑1918) – турецкий
султан в 1876‑1909 гг. Установил деспотический режим. Турция при нем превратилась
в полуколонию западных держав. После Младотурецкой революции 1908 г. был
низложен. В литературе получил прозвище «кровавого султана».
[564] Новые люди (лат.).
[565] Катулл Гай Валерий (87 или 84 г.
до н. э. – ок. 54 г. до н. э.) – римский лирик, выходец из состоятельной семьи,
жил в Риме, самый значительный из поэтов‑неотериков. Его творческое наследие
насчитывает 116 стихотворений. Произведения Катулла воздавали хвалу друзьям и
их деяниям, посвящались жизненным впечатлениям и размышлениям самого автора,
смерти безвременно ушедшего из жизни на чужбине брата поэта, злободневным
тревогам. Особой известностью и популярностью пользовались любовные
стихотворения Катулла, полные страсти и поэтической выразительности и
представлявшие собой историю пережитой поэтом любви к Клодии (воспетой Катуллом
под именем Лесбии).
[566] Хоть ненавижу, люблю. Зачем же? – пожалуй, ты
спросишь. И не пойму, но в себе чувствуя это, крушусь. (Пер. А. А. Фета)
[567] Керенский Александр Федорович (1881‑1970)
– русский политический деятель. Адвокат. Лидер фракции трудовиков в IV
Государственной думе. С марта 1917 г. эсер, во Временном правительстве: министр
юстиции (март – май), военный и морской министр (май – сентябрь), с 8 (21) июля
министр‑председатель, с 30 августа (12 сентября) верховный главнокомандующий.
После Октябрьской революции 1917 г. организатор антисоветского мятежа.
Эмигрировал за границу, после 1946 г. жил в США.
[568] Кызылбаши (тюрк, «красноголовые») –
объединение тюркских кочевых племен в Иране, составлявших главную военную силу
шаха Исмаила I в созданном им государстве Сефевидов. Отличительным знаком
воинов‑кызылбашей была чалма с 12 красными полосами.
[569] Хальса – воинственное братство,
основанное в 1699 г. и остающееся одной из наиболее сплоченных общин сикхов.
[570] Чосер Джефри (1340?‑1400) – английский
поэт. Один из первых памятников на общеанглийском литературном языке –
«Кентерберийские рассказы» – охватывают жизнь различных социальных групп. Чосер
стремился дать индивидуальное выражение типического. Речь каждого персонажа
соответствует его характеру и положению. Ему принадлежит также поэма «Троил и
Хризеида». Творчество Чосера положило начало реалистической традиции в
английской литературе.
[571] Магриб, что по‑арабски означает «Запад», это
исламское название северо‑западной части Африки, включающей современные Тунис,
Алжир и Марокко. Эта «Малая Африка» фактически является островом, поскольку
пустыня Сахара отделяет ее от тропической Африки («Африки в собственном смысле
слова») гораздо более эффективно, чем Средиземное море отделяет ее от Европы (Прим.
А. Дж. Тойнби).
[572] Имеется в виду так называемая клюнийская
реформа – преобразования в конце X‑XI вв. в католической Церкви, направленные
на ее укрепление. Движение за реформу возглавило аббатство Клюни (Cluny).
Главные требования клюнийцев: суровый режим в монастырях, независимость их от
светской власти и от епископов, непосредственное подчинение папе, запрещение
симонии, соблюдение целибата. Часть требований была осуществлена. Программу
клюнийцев использовало папство в борьбе с императорами за инвеституру.
[573] Поло Марко (ок. 1254‑1324) –
итальянский путешественник. В 1271‑1275 гг. совершил путешествие в Китай, где
прожилок. 17 лет. В 1292‑1295 гг. морем вернулся в Италию. Написанная с его
слов «Книга» (1298 г.) – один из первых источников знаний европейцев о странах
Центральной, Восточной и Южной Азии.
[574] Тремя отвратительными действиями, которые
сделали разрыв неотвратимым, были резня франкских жителей Восточной Римской
империи в 1182 г., разграбление Салоник желавшими отомстить норманнскими
экспедиционными войсками в 1185 г. и разграбление Константинополя франко‑венецианскими
экспедиционными войсками в 1204 г. («Четвертый крестовый поход») (Прим.
Л.Дж. Тойнби).
[575] Мануил I Комнин (1123? – 1180) –
византийский император с 1143 г. Принудил Венгрию (1164) и Сербию (1172)
признать суверенитет Византии. Потерпел в 1176 г. поражение от сельджуков при
Мириокефалоне (на западе Малой Азии).
[576] Выскочки (фр.).
[577] Лиутпранд Кремонский (ок. 920 – ок.
972) – ломбардский дипломат, историк; епископ Кремонский. Его хроники являются
главным источником по истории X в. В 949 г. был послан фактическим правителем
Италии маркизом Беренгаром II в качестве посла ко двору византийского
императора Константина VII Багрянородного. После возвращения в Италию
поссорился с Беренгаром II и отправился ко двору германского короля
(впоследствии императора Священной Римской империи) Оттона I. Около 961 г. был
поставлен во епископа Кремонского. В 968 г. послан Оттоном I в Константинополь
для переговоров о браке сына Оттона и византийской принцессы, однако эта миссия
закончилась неудачей.
[578] Здесь ошибка: в 968‑969 гг. правил Оттон I, а
не Оттон II.
[579] Никифор II Фока (912‑969) –
византийский император (с 963 г.) и полководец. Его успехи в войне с арабами‑мусульманами
внесли большой вклад в восстановление византийской державы в X в. Ему удалось
отодвинуть границу Византийской империи за Евфрат до Сирии.
[580] Боэмунд (Боэмунд Тарентский) (1065‑1111)
– старший сын норманнского герцога Робера Гвискара, отстраненный кознями мачехи
от наследования престола. Один из главных участников Первого крестового похода.
С 1098 г. – князь Антиохии, покровительствовавший наукам и искусствам.
[581] Изумление мира (лат.).
[582] «Хтоническими» (от греч.
«земля») назывались божества земли и подземного мира. По представлениям греков,
благодаря им осуществлялось развитие растений, они принимали покойных в своем
царстве. К ним принадлежали Аид, Плутон, Гея, Деметра, Кора, Геката, Дионис,
Гермес (как проводники душ в подземное царство). Принято было приносить в
жертву этим богам животных черной масти. В народных верованиях хтонические боги
играли значительную роль.
[583] Адриан Публий Элий (76‑138) – римский
император (правил с 117 г.). Отказался от завоевательной политики своего
предшественника Траяна и ограничился защитой границ Империи. В 122 г. в
Северной Британии начал строительство Адрианова вала, укрепил рубежи в Верхней
Германии и на Дунае, установил восточную границу Империи на Евфрате, жестоко
подавил последнее крупное восстание иудеев (132‑135). В области внутренней
политики стремился к консолидации государства и романизации покоренных племен.
Поощрял развитие искусства и философии.
[584] Точно так же в XVII в. христианской эры жившие
на острове англичане пользовались преимуществом перед своими континентальными
голландскими конкурентами по заокеанской торговле благодаря тому факту, что
голландцы, в отличие от англичан, подверглись военным атакам Габсбургских и
Бурбонских континентальных строителей империй (Прим. А.Дж. Тойнби).
[585] Киммерийцы – в греческой традиции
киммерийцы иногда смешивались с другими народами (например, у Гомера). По
Геродоту, киммерийцы – кочевое племя из южно‑русских областей. За неимением
письменных источников вопрос об индоевропейском происхождении киммерийцев
остается открытым. Ассирийские источники содержат свидетельства о пребывании
киммерийцев в VII в. до н. э. в Армении (Урарту). Ок. 675 г. до н. э.
киммерийцы уничтожили государство фригийцев, в 652 г. до н. э. захватили
столицу Лидии Сарды. Ок. 600 г. до н. э. их, согласно Геродоту, разгромил
лидийский царь Алиатт.
[586] Скифы – собирательное название племен,
обитавших в древности у Черного моря, на Дону, Днепре и Дунае. Описаны
Геродотом. Часть из них осела в Южной России, другие продолжали кочевать,
вторгаясь в Переднюю Азию. Уже в VII или VI в. до н. э. скифы имели прочные
экономические и культурные связи с греческими городами на берегах Понта.
Скифская конница считалась грозной силой. В 514 г. до н. э. скифы отразили
нашествие персов. В низовье Днепра скифы организовали государство,
управлявшееся аристократией (это так называемые царские скифы). Оно было
поделено на самостоятельные области, жители которых занимались земледелием и
скотоводством. С III в. до н. э. на скифов усиливается давление со стороны
наступающих сарматов. В конце II в. до н. э. последнее скифское княжество в
Крыму вошло в состав Понтийского царства.
[587] Псамметих I (ум. 610 г. до н. э.) –
египетский фараон (с 664 г. до н. э.) из XXVI династии. Установил контакт с
лидийским царем Гигом, который около 654 г до н. э. послал ему на помощь отряды
своих карийских и ионийских наемников. С их помощью Псамметих изгнал из Египта
ассирийские гарнизоны и привел под свою руку других египетских князей Дельты.
Затем он совершил поход на юг и взял Фивы. Таким образом, после многовековой
раздробленности страна вновь объединилась. Значительно увеличив свои доходы,
Псамметих сформировал достаточно многочисленную армию, в которой ведущее
положение принадлежало иноземцам – карийцам и ионийским грекам.
Воспользовавшись ослаблением Ассирии, Псамметих начал завоевания в Палестине.
Но дальнейшее продвижение египтян на север остановили вторгшиеся в Азию скифы,
от которых фараону пришлось откупаться подарками.
[588] Алкей (конец VII– 1‑я половина VI в.
дон. э.) – греческий лирик из Митилены (о. Лесбос). Вместе с Сапфо был
представителем эолийского мелоса (лирической песни). Пользовался огромной
популярностью в античные времена и оказал влияние на творчество Анакреонта,
Феокрита и Горация.
[589] Камбис II (ум. 522 г. до н. э.) – царь
персов с 529 по 522 г. до н. э., сын Кира II. После того как его отец покорил
Мидию. Лидию и Вавилонию, а сам Камбис II захватил в 525 г. до н. э. Египет, он
совершил поход в Ливию и Нубию, а Египет и Персия составили его личную унию. В
самой Персии власть Камбиса II наталкивалась на сопротивление (восстание
самозванца Смердиса (Гауматы), который выдал себя за брата Камбиса II и правил
несколько месяцев после его смерти). В 522 г. до н. э. власть в Персии перешла
к Дарию I.
[590] Человек‑земледец (лат.).
[591] Марафон – поселение на северо‑восточном
побережье Аттики. На Марафолнской равнине афинское войско под командованием
Мильтиада в 490 г. до н. э. разгромило персидскую армию (во главе с Артаферном
и Датисом) и обеспечило господствующее положение Афин.
[592] Саламин – остров с городом того же
названия между восточным побережьем Аттики и южным мегарским побережьем. Во
время персидских войн остров служил афинянам убежищем. В 480 г. до н. э. в
Саламинском проливе произошла знаменитая морская битва, во время которой
персидский военный флот, состоявший из больших, малоподвижных кораблей, был
полностью разгромлен маленькими, юркими греческими триерами. Эта победа,
одержанная под верховным командованием спартанца Эврибиада и под стратегическим
руководством Фемистокла, обусловила (после успехов при Платеях и Микале)
создание тесного союза греческих государств, в результате чего возросла
обороноспособность эллинов.
[593] Платеи – город в Беотии у подножия
Киферона. Здесь греки в 479 г. до н. э. под предводительством Павсания
разгромили персов во главе с Мардонием.
[594] Микале – мыс в северной части Милетской
бухты в устье р. Меандр. На нем был воздвигнут Панионион – храм Посейдона,
считавшийся священным местом для всех ионийцев. В 479 г. до н. э. высадившийся
с греческого флота десант во главе со спартанским царем Леотихидом захватил
созданный персами около Микале укрепленный лагерь и уничтожил вытащенные на
берег корабли.
[595] Кумы – древнейшая, самая северная
греческая колония в Италии. В 474 г. до н. э. в морской битве при Кумах тиран
Сиракуз Гиерон I одержал решающую победу над этрусками.
[596] Разделы, касающиеся столкновений с сирийским
обществом и столкновений с египетским обществом эпохи Нового царства, мы
упустили в данной сокращенной версии (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[597] Слово «сцепление» (concatenation) часто
неверно употребляется, и для читателя, не знающего латинский язык, возможно,
будет полезно сказать, что catena означает «цепь» и что «сцепление»
(concatenation) событий тем самым является рядом, в котором один случай влечет
за собой другой (Прим. А. Дж. Тойнби).
[598] Ио – в греческой мифологии дочь речного
бога Инаха, жрица Геры, возлюбленная Зевса. По воле ревнивой Геры Ио,
превращенную в корову, стерег стоокий Аргус. Когда Гермес убил его, Гера
наслала овода, преследовавшего Ио, которая странствовала по многим землям, пока
наконец в Египте не обрела вновь покой и человеческий облик. Там она родила
сына Эпафа.
[599] Европа – в греческих легендах дочь
финикийского царя Агенора и Телефассы. Зевс, превратившись в ручного белого
быка, увез на себе игравшую на берегу Европу через море на Крит. Там она родила
Миноса, Радаманта и Сарпедона. В античности похищение Европы было одной из
излюбленных тем вазовой и настенной живописи.
[600] Медея – в греческой мифологии дочь царя
Колхиды Ээта, наделенная даром волшебства. Полюбив Ясона, она с помощью
волшебного зелья помогла ему овладеть золотым руном и выдержать испытания,
которым подверг его Ээт. После похищения Медея бежала с Ясоном и аргонавтами.
[601] Елена – в греческих сказаниях
прекраснейшая из женщин, дочь Зевса и Леды. Тесей и Пирифой похитили Елену и
увезли в Аттику, но ее братья Диоскуры освободили ее. По совету Одиссея, который
тоже сватался к Елене, многочисленные женихи поклялись признать ее выбор и
всегда защищать ее. Елена обручилась с Менелаем и родила Гермиону. В споре трех
богинь за яблоко Эриды Елена была обещана Афродитой Парису и увезена им в Трою.
Верные своей клятве, все греческие цари и герои участвовали в Троянской войне,
чтобы вернуть Елену. После падения Трои Елена возвратилась домой в Спарту.
[602] Некоторые дальнейшие замечания о теории
Геродота можно найти в Примечании в конце данной части (Прим. А. Дж.
Тойнби).
[603] Ксеркс (ок. 521‑465 гг. до н. э.) –
персидский царь с 486 по 465 г. до н. э., сын и преемник Дария I. Вступил на
престол во время внутренних смут (восстаний в Египте и Вавилонии). После их
усмирения продолжал дело отца – создание мировой персидской монархии. Тщательно
подготовившись, Ксеркс выступил против Греции. Война, поначалу успешная для
персов (им, например, удалось разрушить Афины), окончилась рядом сокрушительных
поражений – при Саламине, Платеях и Микале. Победы греков, смерть персидского
полководца Мардония, объединение греков Малой Азии в Афинском морском союзе и
новые восстания внутри страны помешали Ксерксу повторить нападение.
Политические неудачи привели его в 465 г. до н. э. к гибели от рук
заговорщиков.
[604] Дарий I (550‑486 гг. до н.э.) –
персидский царь с 522 по 486 г. до н. э. Укрепил основанное Киром и
объединившее много народностей Персидское царство. В его внутренней политике
можно отметить такие достижения, как усмирение восставших, проведение реформы
административной структуры (20 сатрапий), введение упорядоченной системы
налогообложения, создание устойчивой монетной системы, установление
официального государственного языка, организация системы связи, оживление
торговли и средств сообщения (строительство дорог и каналов), вооружение
боеспособного войска. Во внешней политике расширял границы Персидского царства:
в 514 г. до н. э. поход против скифов, в 498‑494 гг. до н. э. подавление
Ионического восстания, в 492 г. до н. э. нападение на Северную Грецию,
генеральное наступление на Афины.
[605] Тартесс – город в устье реки Тартесс на
юге Испании (современный Гвадалквивир), а также название всей области вокруг
Андалусской низменности. Тартесс упоминается еще в Ветхом Завете под названием
«Таршиш» в связи с заходом в него финикийских торговых судов, вывозивших отсюда
олово и в первую очередь серебро. Первым греком, который побывал в Тартессе,
был мореход Колей с о. Самос (VII в. до н. э.). Вслед за ним последовали
фокейцы, основавшие примерно в 600 г. до н. э. город Менака.
[606] Дронт (англ. dodo от португ.
doudo – «глупый») – крупная (размером с индейку) птица, обитавшая на о.
Маврикий и к 1680 г. полностью истребленная людьми. Дронт не мог ни летать, ни
быстро бегать, и был совершенно беззащитен, так что охотники убивали этих птиц
просто ударом палки.
[607] Карл XII (1682‑1718) – шведский король
с 1697 г., полководец. В начале Северной войны 1700‑1721 гг. одержал ряд
крупных побед, но вторжение в 1708 г. в Россию завершилось его поражением в
Полтавском сражении 1709 г. Бежал в Турцию. В 1715 г. вернулся в Швецию. Убит
во время завоевательного похода в Норвегию.
[608] Утратившие свои корни (фр.).
[609] Константин V Копроним (719‑775) –
византийский император с 741 г., представитель Исаврийской (Сирийской)
династии. Продолжал иконоборческую политику своего отца Льва III в интересах
феодальной фемной военно‑земледельческой знати, против политического
преобладания константинопольской знати. Подавил восстание столичной знати во
главе с Артаваздом (741‑742). Опираясь на фемное войско, одержал ряд побед над
арабами (в 746 и 752 гг.) и болгарами (у Анхиала в 763 г. и др.).
[610] Зангвиль (Zangwill) Исраэль (1865‑1926)
– английский писатель‑романист и драматург еврейского происхождения.
[611] Аллюзия на слова из Евангелия: «…и еще говорю
вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в
Царство Божие» (Мф. 19, 24; также Мк . 10, 25; Мк .
18,25).
[612] Яхья ибн Мухаммед аль‑Мутаваккиль (1867
или 1869‑1948) – король Йемена в 1918‑1948 гг. В 1904 г. принял титул имама
(духовного главы) мусульманской секты зейдитов. Убит заговорщиками.
[613] «Общество друзей» (квакеры от англ.
quakers, буквально – «трясуны») – религиозная протестантская община, основанная
в середине XVII в. в Англии. До закона о веротерпимости 1689 г. они
подвергались яростным преследованиям. Признавая главные протестантские догматы,
квакеры придают значение не столько Священному Писанию, сколько присущему
человеку «внутреннему свету» и отрицают всякое определенное богослужение и
таинства. Духовенства у них нет, а собираясь в своих молитвенных домах, они
молча ждут, пока какой‑нибудь член общины не почувствует себя просветленным и
не выступит перед собранием. Если же в течение нескольких часов никто не
почувствует внутреннего просветления, они молча расходятся. Позднее квакеры
стали возлагать проповедь на наиболее способных ораторов. Общины квакеров имеют
демократическое устройство. Квакеры проповедуют пацифизм и большое место
уделяют благотворительности.
[614] Ораби‑паша (Араби‑паша) (1839‑1911) –
один из руководителей национально‑освободительного движения в Египте в 1879‑1882
гг., полковник. В июле – сентябре 1882 г. руководил борьбой египетского народа
против английских оккупантов. В декабре 1882 г. приговорен к смертной казни,
замененной пожизненной ссылкой. В 1901 г. был помилован.
[615] Аллюзия на евангельскую притчу о мытаре и
фарисее (Лк. 18, 10‑14).
[616] Волхвы – в христианских преданиях
волхвы (цари‑волхвы, маги) – мудрецы‑звездочеты, пришедшие поклониться младенцу
Христу. Евангельское каноническое повествование (только Мф. 2, 1‑12) не
называет ни их числа, ни имен, ни этнической принадлежности, но ясно, что это
не иудеи и что их страна лежит на восток от Палестины. Церковные и
апокрифические предания добавляют подробности. Уже Ориген (II–III вв.) исходит
из того, что число волхвов соответствовало числу их даров, т. е. было равно
трем, и это становится общепринятой версией. С наступлением эпохи Великих
географических открытий и активизацией миссионерской деятельности в
«экзотических» странах волхвы становятся олицетворением человеческих рас –
белой, желтой и черной, или трех частей света – Европы, Азии, Африки.
[617] Родс (Rhodes) Сесил Джон (1853‑1902) –
организатор захвата английскими колонизаторами (на рубеже 1880‑1890‑х гг.)
территории в Южной и Центральной Африке, часть которых составила колонию
Родезию. В 1890‑1896 гг. премьер‑министр Капской колонии, один из главных
инициаторов англо‑бурской войны 1899‑1902 гг.
[618] Правительство Виши – общепринятое
наименование профашистского режима в оккупированной немцами Франции,
существовавшего с июля 1940 г. по август 1944 г. Названо так по курортному
городку Виши, где обосновалось возглавляемое маршалом А. Ф. Петеном
коллаборационистское правительство.
[619] «Сражающаяся Франция» – во Второй
мировой войне патриотическое движение за освобождение Франции от фашистских
оккупантов, за национальную независимость (до 1942 г. называлось «Свободная
Франция»). Возглавлялось генералом Ш. Де Голлем. Примыкала к антифашистской
коалиции и участвовала в ряде ее военных операций. Руководящий орган –
Французский национальный комитет (Лондон), в 1943‑1944 гг. Французский комитет
национального освобождения.
[620] Évolué (фр. от глагола évoluer – «развиваться»,
«двигаться вперед») – название африканцев – жителей бывших французских и
бельгийских колоний, получивших европейское образование или усвоивших
европейский образ мысли.
[621] Имеется в виду царь Иудеи Ирод I (ок. 73‑4 гг.
до н. э.), правивший с 40 г. до н. э.
[622] «Сага о Вёльсунгах» – скандинавское
прозаическое повествование, сюжет которого в своей основе совпадает с сюжетом
германской «Песни о Нибелунгах» (ок. 1200).
[623] Вильгельм Апулийский – автор написанной
в гекзаметрах между 1090 и 1111 гг. по заказу папы Урбана II поэмы «Деяния
Роберта Гискара», герцога Апулии.
[624] Фокс Джордж (1624‑1691) – английский
религиозный лидер и писатель. Будучи простым ремесленником, но при этом
человеком религиозным и склонным к мечтательности, он вместе с усердным чтением
Библии постоянно предавался размышлениям о религиозных предметах. Эти
размышления при отсутствии положительных богословских знаний довели его до
религиозного самообольщения, так что свои религиозные мечты он стал принимать
за непосредственные откровения Божественного Духа. Истинное христианство, по
его мнению, состояло не в догматах и обрядах, а в непосредственном озарении
каждого человека от Святого Духа, которое просвещает его и направляет к
нравственному совершенству. Вообразив себя человеком, предназначенным свыше
восстановить истинное христианство, Фокс в 1647 г. выступил с проповедью о
покаянии и вступлении в новую совершенную Церковь, непосредственно озаряемую
Святым Духом. Проповедь его имела успех, и в 1649 г. он образовал религиозное
общество, которому дал название «Христианское общество друзей», более широко
известное как секта квакеров («дрыгунов») (см. также прим. 80).
[625] См. с. 331‑342 второго тома данного издания.
[626] Самое раннее употребление этого термина на
английском языке, приведенное в «Оксфордском словаре английского языка»,
датируется 1845 г. Мэтью Арнольд вве т в практику англизированное слово и
написание «renascence» (Прим. А. Дж. Тойнби) .
[627] Лев III (ок. 750‑816) – римский папа
(795‑816). Осенью 800 г. король франков Карл Великий отправился в Рим и провел
здесь почти полгода, разбирая распри между папой Львом III и местной знатью. 25
декабря он слушал праздничную мессу в соборе св. ап. Петра. Вдруг папа
приблизился к своему гостю и возложил ему на голову императорскую корону. Все
находившиеся в соборе франки и римляне дружно воскликнули: «Да здравствует и
побеждает Карл Август, Богом венчанный великий и миротворящий римский
император». Хотя все это не стало для Карла неожиданностью, он первое время
делал вид, что недоволен «самовольным» поступком папы. Делал он это, видимо,
для того, чтобы успокоить константинопольский двор. Однако в Византии этот
поступок был воспринят как вызов, а Карл – как узурпатор. После своей смерти
Лев III был канонизирован католической Церковью.
[628] Оттон III (980‑1002) – немецкий король
и император Священной Римской империи, правивший в 983‑1002 гг., сын Оттона II
и византийской принцессы Фефано. С детских лет мечтал поселиться в Италии, в
стране образованности и утонченной культуры, и грезил о воссоздании великой
Римской империи. В феврале 999 г. приехал в Рим и решил не возвращаться пока в
Германию. Здесь он устроил себе дворец на Авентине и постарался воссоздать
пышность и церемониал византийского двора. Перед подданными он являлся в
странной, давно забытой в Италии одежде – мантии, украшенной изображениями из Апокалипсиса.
Обедал он отдельно от своих придворных за особым столом на возвышении. По
обычаю древних императоров он присоединил к своему титулу прозвания
Саксонского, Римского и Итальянского. Восстановлены были звания римских
консулов и сенаторов, а также римских граждан, не имевшие в новой обстановке
никакого смысла. Он ввел также многие византийские титулы: магистра, комита,
протовестария. Городское управление в Риме было поручено патрицию и префекту.
Оттон старался восстановить судебные обычаи древности и заменить право
германцев римским. Явное презрение Оттона к своему народу, видимый упадок
государства, пустой блеск и тщеславие в конце концов ожесточили умы против него
и привели к образованию обширного заговора большинства герцогов и князей.
[629] Имеется в виду так называемый Наполеон II
(Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт) (1811‑1832) – сын Наполеона I, провозгласившего
его французским императором при своем отречении от престола в 1815 г. Никогда
не правил, жил при дворе своего деда – австрийского императора Франца I, а с
1818 г. титуловался герцогом Рейхштадтским.
[630] Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт)
(1808‑1873) – французский император в 1852‑1870тг. Племянник Наполеона I.
Используя недовольство крестьян режимом Второй республики (декабрь 1848 г.),
добился своего избрания президентом и при поддержке военных совершил 2 декабря
1851 г. государственный переворот. 2 декабря 1852 г. провозглашен императором.
Придерживался политики бонапартизма. При нем Франция участвовала в Крымской
войне 1853– 1856 гг., в войне против Австрии в 1859 г., в интервенциях в
Индокитай в 1858‑1867 гг., в Сирию в 1860‑1861 гг., Мексику в 1862‑1867 гг. Во
время франко‑прусской войны 1870‑1871 гг. сдался в 1870 г. со 100‑тысячной
армией в плен под Седаном. Низложен Сентябрьской революцией 1870 г.
[631] Берхтесгаден – согласно средневековым
легендам, так именуется место, где в горной пещере спит германский император
Фридрих Барбаросса в ожидании того дня, когда ему настанет срок пробудиться,
чтобы восстановить единство и мощь Германии. В 1930‑х гг. горное местечко
Берхтесгаден в Баварии стало одной из главных резиденций Адольфа Гитлера,
который обещал сделать то, чего немецкий народ тщетно ждал от спящего
Барбароссы. Там же в сентябре 1938 г. во время Мюнхенского кризиса произошла
встреча Гитлера с британским премьер‑министром Н. Чемберленом.
[632] Бонифаций, св. (в миру Винфрид) (672‑754)
– англо‑саксонский миссионер, архиепископ Майнцский (746‑754). Основал во
Франкском государстве несколько епископий и монастырей (например, в Фульде),
превратившихся благодаря его усилиям в культурные и научные центры.
Многочисленные письма Бонифация, сохранившиеся в некоторых сборниках,
свидетельствуют о его миссионерской и литературной деятельности. Вслед за
позднеантичными авторами Бонифаций написал трактаты о грамматике и метрике, а
также различные поэтические произведения.
[633] Василий I Македонянин (ок. 836‑886) –
византийский император (с 867 г.). Основатель Македонской династии. Сын
крестьянина из Македонии, Василий I сумел получить доступ ко двору императора
Михаила III, стал его фаворитом, а в 866 г. – соправителем. Убив Михаила,
захватил престол. Вел борьбу против арабов на востоке Империи и в Италии.
Подавил восстание павликиан.
[634] Мадам Тюссо, Мари (1760‑1850) –
швейцарский модельер восковых фигур, основавшая в Лондоне постоянную выставку
своих экспонатов, изображающих исторических деятелей и знаменитых
современников.
[635] Грациан (жил около 1140 г.) –
признанный отец канонического права, своими трудами открывший новую, отличную
от теологии дисциплину – изучение церковного права. Является автором
«Concordantia discordantium canonum» – собрания около 3 000 текстов, касающихся
всех сфер церковной дисциплины, созданного между 1139 и 1150 гг.
[636] Александр III (мирское имя – Роландо
Бандинелли) (ок. 1105‑1181) – римский папа с 1159 г. Стремился к верховной
власти папства над светскими государями. В борьбе с Фридрихом I Барбароссой
поддерживал Ломбардскую лигу. После продолжительной борьбы ему удалось
заключить мир в 1177 г. в Венеции, в результате чего император отказался от
своих претензий на имперскую власть над Римом и даже вынужден был вынести унизительную
церемонию: папа наступил ему на шею и произнес слова 90 псалма: «На аспида и
василиска наступиши, и попереши льва и змия». По инициативе Александра III был
созван III Латеранский собор (1179 г.), на котором главным стал вопрос о
свободе выборов папы: отныне для законности избрания требовалось больше 2/3
голосов, а император вообще не упоминался.
[637] Иннокентий IV (ок. 1195‑1254) – римский
папа с 1243 г. Продолжал борьбу своих предшественников с императором Фридрихом
II. Удалившись в Лион, собрал там в 1245 г. собор, проклял на нем Фридриха как
еретика и святотатца и объявил его лишенным престола, предложив германцам и
сицилийцам выбрать нового государя. Среди этой борьбы Фридрих II умер, а папа
продолжал борьбу уже с его наследниками – последними Гогенштауффенами Конрадом
IVи Манфредом. Поддерживал политику Тевтонского ордена.
[638] «Изумление мира» (лат.) – имеется в
виду император Фридрих II Гогенштауффен.
[639] Тайцзун (Ли Шиминь) (600‑649 гг.) –
китайский император (с 627) из династии Тан. Отстранил от власти своего отца Ли
Юаня. Сделал некоторые уступки крестьянству, мелким и средним феодалам,
купечеству. При Тайцзуне завершается складывание феодального централизованного
государства. Этому способствовали реорганизация государственного аппарата,
введение обязательных государственных экзаменов для отбора на чиновничьи
должности, укрепление армии, составление (с 631)кодекса законов.
[640] Канишка (78‑123) – царь Кушана (Средняя
Ачия, Афганистан и Северо‑Западная Индия) с 103 г. При нем Кушан достиг своего
расцвета. Известен как покровитель буддизма. Под его эгидой прошел большой
собор, установивший основы догматики северного буддизма (махаяны). Сам Канишка
сделался одним из популярнейших героев буддийской литературы, где ему
приписывается строительство храмов, покровительство монастырям и буддийским
философам.
[641] Абеляр Пьер (1079‑1142) – французский
философ, богослов и поэт. В споре о природе универсалий развил учение,
названное позже концептуализмом. Разрабатывал схоластическую диалектику
(сочинение «Да и нет»). Рационалистическая направленность идей Абеляра
(«понимаю, чтобы верить») вызвала протест ортодоксальных церковных кругов, и в
результате учение Абеляра было осуждено соборами 1121 и 1140 гг. Трагическая
история любви Абеляра к Элоизе, которая закончилась уходом их в монастырь,
описана в автобиографической «Истории моих бедствий».
[642] Иоанн Солсберийский (ум. 1180) –
английский средневековый богослов, автор богословских и политических трактатов.
Учился в Парижском университете у Абеляра, затем у Гильома Коншского в Шартре.
С 1150 г. был секретарем архиепископа Кентерберийского Теобальда, а с 1161 г. –
Томаса Бекета. был его другом и советником, поддержав в борьбе с королем
Генрихом II. После убийства Бекета (1170) стал епископом Шартрским (с 1176 г.).
В сочинении «Policraticus» (1159) изложена система политических и этических
взглядов Иоанна Солсберийско‑ го, в том числе развивается идея о верховенстве
духовной власти над светской. В сочинении «Metalogicus» (1159) изложена
философская система, близкая к платоновскому «идеальному государству».
[643] Вопрос, допрос (лат.).
[644] Дуне Скот Иоанн (ок. 1264‑1308) –
шотландский философ‑ францисканец, именуемый по названию его родного местечка
Дуне на юге Шотландии. Был преподавателем богословия в Оксфорде и Париже. Автор
ряда философских трудов, комментариев к Библии, Аристотелю и др. Является
создателем философского учения, которое в противоположность учению Фомы
Аквинского утверждало первенство индивидуального над абстрактно‑всеобщим и
первенство воли над интеллектом как у человека, так и у Бога. Яростное
противостояние «скотистов» (приверженцев Дунса Скота) и «томистов»
(последователей Фомы Аквинского) продолжалось на протяжении всей эпохи
Средневековья. Как следствие этих давних философских распрей в английском языке
сохранилось образованное от имени Дунса Скота слово «dunce», означающее
«тупица, болван, закосневший в своем невежестве».
[645] Константин VII Багрянородный (905‑959)
– византийский император с 913 г. (фактически – только с 945 г.). Долгие годы
вынужденного бездействия провел в занятиях наукой и литературой. По его
инициативе было составлено 53 объемистых сборника выписок из античных авторов
по разнообразным отраслям знания – от военного дела до агрономии и от
литературы до организации дворцовых церемоний. На основе других источников сам
написал трактат о провинциях Византийской империи. Ценным источником по истории
Византии является также трактат «Об управлении Империей», где содержатся
сведения о «варварских» народах, обитавших на ее окраине, и важные исторические
сведения о русско‑византийских отношениях X в. Не меньший интерес представляет
также большой сводный труд «О церемониях византийского двора».
[646] Юнлу (1360‑1424) – китайский император
(1404‑1424) из династии Мин. Перенес столицу империи из Нанкина в
восстановленный им Пекин. Под его руководством был составлен «Великий канон эры
Юнлу», включавший 22 937 свитков, или книг, в 11 095 томах, включавших в себя
все, что было написано о конфуцианском каноне, философии, истории, науках и
искусствах.
[647] Канси (1654‑1722) – император (с 1662
г.) династии Цин в Китае. При Канси завершено завоевание Китая маньчжурами.
Проводил агрессивную политику в отношении соседних стран и народов. Очень любил
учение, а его жажда знаний, постепенно увеличиваясь по мере его возраста,
достигала такой степени, что, даже будучи больным от переутомления, он не мог
перестать читать книги. По его указанию 50 человек работали над компиляцией
«Минши» – официальной историей династии Мин. Среди других великих книги,
составленных по указанию Канси, были словарь китайского языка, включавший 42
000 иероглифов (1716), рифмованный словарь китайских сложных слов (1711) и
предметная энциклопедия (1710), состоявшая из 10 000 статей.
[648] Цяньлун (1711‑1799) – император (1736‑1796
гг.) маньчжурской династии Цин в Китае. При Цяньлуне маньчжуро‑китайские
феодалы вели многочисленные завоевательные войны. Роль, которую Цяньлун сыграл
в области искусства и литературы, возможно, была одной из наиболее важных. Сам
он писал прозу и стихи, рисовал и занимался искусством каллиграфии. По его
указанию была составлена компиляция китайских классиков – «Полная библиотека
четырех отраслей литературы», в которую входили произведения классиков, труды
по истории, философии и художественная литература. Эта библиотека достигала 36
275 томов.
[649] Лев Диакон (род. ок. 950 г.) –
византийский историк. Автор «Истории» (в 10 книгах), охватывающей период с 959
по 975 г. (с экскурсами вплоть до 989 г.). «История» Льва Диакона содержит
обширный фактический материал не только по вопросам внутренней истории Византии
этого времени, но и подревней истории Киевской Руси и Болгарии.
[650] Медичи Лоренцо (прозванный «Великолепным») (1449‑1492) –
итальянский поэт, правитель (синьор) Флоренции с 1469 г. Меценат, способствовал
развитию культуры Возрождения. Автор «Карнавальных песен», написанных в
народном духе, стансов «Леса любви», пастушеских идиллий и шуточных поэм.
[651] Николай V (мирское имя – Томмазо
Парентучелли) (1398‑1455) – 206‑й римский папа (1447‑1455). Был домашним
учителем у богатых флорентийских семейств. Возвысился при папе Евгении IV,
сделавшем его кардиналом и архиепископом Болонским. Подписал с Фридрихом III
Венский конкордат (1448), благодаря которому Германия сохранила верность
папскому престолу, и короновал его императором в Риме (1452). В его понтификат
завершился (1449) схизматический Базельский собор, когда Николаю удалось
добиться отречения от папского сана последнего антипапы Феликса V. После
падения Константинополя (1453) тщетно пытался организовать крестовый поход. Сам
чрезвычайно образованный человек, Николай содержал блестящий двор выдающихся
деятелей Возрождения (Поджо, Валла, Альберти, Манетти). Основал библиотеку
Ватикана.
[652] Беда Достопочтенный (672 или 673 – ок.
735) – англо‑саксонский летописец, монах. На восьмом году жизни поступил в монастырь.
В 702 г. став пресвитером, он начал свою писательскую деятельность. Она главным
образом состояла в толковании отдельных книг Ветхого и Нового Завета. Он
обладал обширными познаниями в духовных и светских науках. Свои труды он
переводил на английский язык. Особенно замечательна его «Церковная история
народа англов», которая до сих пор остается единственным источником по
древнейшей истории Англии до 731 г.
[653] Алкуин (735‑804) – англо‑саксонский теолог,
ученый и педагог. С 780 г. находился при дворе Карла Великого, где возглавлял
знаменитую Академию. Основал школу письменности в Туре. Является автором
совершенных по форме метрических стихов, написанных по античным образцам, а
также многочисленных писем. Своей деятельностью по пропаганде античной культуры
заложил основу Каролингского Возрождения.
[654] Вот почему «Оксфордский студент» в чосеровском
«Прологе» имел его, или желал иметь, «у своего изголовья» (Прим. А. Дж.
Тойнби).
[655] Боэций Аниций Манлий Торкват Северин
(ок. 480‑524 или 526) – римский философ, поэт, государственный деятель.
Принадлежал к старой римской знати, достиг высокого положения на службе у
остготского короля Теодориха, но по ложному обвинению в тайных сношениях с
Византией был заключен в темницу и казнен. Оказал исключительное влияние на
средневековую культуру. К многочисленным сочинениям Боэция, написанным им в
переходный период от эпохи античности к Средним векам, принадлежат латинские переводы
и комментарии к Аристотелю и Порфирию, трактаты о логике, арифметике, музыке и
богословских вопросах. Последним и главным сочинением Боэция явилось «Утешение
философией» в пяти книгах, написанное им в заключении и представляющее собой
моралистический трактат о свободе духа, – в течение целого тысячелетия
волновало умы европейцев и оказало огромное влияние на литературу.
[656] Элиот Томас Стерн (1888‑1965) – поэт,
драматург, публицист, критик, теоретик культуры, классик англо‑американской
литературы XX в. Чтение поэм Элиота предполагает высокую филологическую
культуру и напряженную работу мысли читающего, ориентировано на очень узкий
круг «интеллектуальной элиты».
[657] Эразм Роттердамский, Дезидерий (1469‑1536)
– гуманист эпохи Возрождения (глава «северных гуманистов»), филолог, писатель.
Родом из Роттердама. Автор «Похвалы Глупости» – сатиры, высмеивавшей нравы и
пороки современного Эразму общества (невежество, тщеславие, лицемерие
духовенства, придворных и т. д.). Сыграл большую роль в подготовке Реформации,
но не принял ее.
[658] Саисский период – период примерно с 664
г. до н. э. по 525 г. до н. э., когда столица фараонов XXVI династии находилась
в городе Саисе.
[659] Генрих VII (1457‑1509) – английский
король с 1485 г., первый из династии Тюдоров. Вступил на престол, одержав
победу над Ричардом III в битве при Босворте. При Генрихе VII были заложены
основы английского абсолютизма.
[660] В небесах (лат.).
[661] Торриджани Пьетро (1472‑1528) –
флорентийский скульптор и художник, ставший первым представителем итальянского
Ренессанса в Англии. Учился вместе с Микеланджело у Бертольдо ди Джованни в
Академии Лоренцо Медичи. После того как покинул Флоренцию, работал в Риме,
Болонье, Сиене и Антверпене, затем перебрался в Англию. Его наиболее известные
работы – гробницы короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской в Вестминстерском
аббатстве. В 1521 г. переезжает в Севилью и меняет свой стиль под влиянием
Высокого Ренессанса и маньеризма («Дева и Младенец», ок. 1521; «Св. Иероним»,
ок. 1525). Оказал влияние на творчество Веласкеса, Сурбарана и Монтаньеса.
[662] Челлини Бенвенуто (1500‑1571) –
итальянский скульптор, ювелир, писатель. Представитель маньеризма. Ему
принадлежат виртуозные по мастерству ювелирные изделия («Солонка Франциска I»,
1539‑1543), статуи («Персей», 1545‑1554), рельефы. Автор всемирно известных
мемуаров.
[663] Джотто ди Бондоне (1266 или 1267‑1337)
– итальянский живописец, представитель Проторенессанса. Порывая со
средневековыми канонами, внес в религиозные сцены земное начало, изображая
евангельские сюжеты с небывалой жизненной убедительностью. Фрески капеллы дель
Арена в Падуе (1304‑1306) и церкви Санта‑Кроче во Флоренции (ок. 1320‑1325)
поражают внутренней силой и величием образов, тектоничностью композиции. Автор
проекта колокольни собора во Флоренции.
[664] Эльвирский собор – первый известный
собор христианской Церкви в Испании, проходивший в начале IV в. (ок. 300‑303
гг. или в 309 г.) в Эльвире, близ современной Гранады. На нем присутствовало 19
епископов и 24 священника из Южной Испании. Было принято 81 правило о
внутренней жизни и внешних отношениях Испанской церкви. В основном правила были
направлены на ужесточение церковной дисциплины, в частности против
идолопоклонства, введено безбрачие духовных лиц и т. д. Впоследствии некоторые
из правил этого собора были включены в правила позднейших соборов, в том числе
и Никейского Вселенского собора (325 г.).
[665] Адриан I (ум. в 795) – римский папа в
772‑795 гг. Его отношения с Карлом Великим можно охарактеризовать как дружеское
соперничество. Карл стремился использовать Церковь для укрепления своей империи
и распространить свое господство на папские владения, тогда как Адриан боролся
за церковную автономию и старательно соединял папские владения в одно
государство, просуществовавшее до XIX в. Выступил против ереси адопционизма. Во
время господства иконоборческой ереси на Востоке выступил в защиту
иконопочитания, поддержав решения Второго Никейского (Вселенского) собора (787
г.).
[666] Шпенглер Освальд (1880‑1936) – немецкий
философ, представитель «философии жизни». Стал известным после сенсационного
успеха главного труда «Закат Европы» (в 2 т., 1918‑1922). Трактовал культуру
как «организм», который, во‑первых, обладает жестким сквозным единством и, во‑вторых,
обособлен от других, подобных ему «организмов». Это означает, что единой
человеческой культуры нет и быть не может. Шпенглер насчитывает 8 культур, при
этом каждому культурному «организму» заранее отмерен определенный (около
тысячелетия) срок, зависящий от внутреннего жизненного цикла. Умирая, культура
перерождается в цивилизацию. Переход от культуры к цивилизации есть переход от
творчества к бесплодию, от становления к окостенению, от героических «деяний» к
механической «работе».
[667] Ибн Халъдун (1332‑1406) – арабский
государственный и общественный деятель, социальный философ и историк. Играл
видную роль в политической жизни мусульманских государств Северной Африки, был
воспитателем, советником, канцлером, послом и судьей у ряда правителей.
Неоднократные попытки Ибн Хальдуна воплотить в жизнь идеи справедливого
общественного строя во главе с «правителем‑философом» завершились, однако,
неудачей. В философии был последователем и комментатором Ибн Рушда. Основное
его сочинение – многотомная «Книга поучительных примеров и сведений из истории
арабов, персов, берберов и других современных им могущественных народов». В
пространном «Введении» («аль‑Мукаддима») к ней Ибн Хальдун изложил свою
социальную философию. Это была первая в истории общественной мысли попытка
создания самостоятельной науки об обществе, или, как ее называл Ибн Хальдун, «науки
о культуре», служащей руководством для политической деятельности. Ибн Хальдун
утверждал закономерный характер общественного развития, обусловленный
географической средой и проявляющийся в циклах подъема и упадка цивилизации в
процессе смены поколений. Согласно теории Ибн Хальдуна, уровень развития
культуры и характер правления в государстве обусловливаются общественным
разделением труда, взаимным обменом экономической деятельностью и вытекающей
отсюда социальной солидарностью правителей и подданных.
[668] Коллингвуд Робин Джордж (1889‑1943) –
английский философ и историк, представитель неогегельянства, специалист
подревней истории Британии. Стремился установить связь между философией и
историей, считая, что философия должна усвоить методы истории и что обе
дисциплины имеют общий предмет – исторически развивающееся человеческое
мышление. Историк изучает его, анализируя продукты духовной и материальной
культуры, а философ – на основе истолкования данных самосознания и рефлексии.
Мышление, по Коллингвуду, образует восходящую иерархию «форм духовной
активности», которая основывается на воображении, символизации и абстракции
(искусство, религия, наука, естествознание, история и философия), В противовес
неопозитивизму отстаивал традиции идеалистической метафизики, восходящей к
Платону и Гегелю.
[669] Деисты – последователи деизма (от. лат.
Deus– «Бог»), религиозно‑философского учения, получившего распространение в
эпоху Просвещения, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в нем
какого‑либо участия и не вмешивается в закономерное течение его событий. Таким
образом, деизм противостоит как теизму, в основе которого лежит представление о
Божественном Провидении в постоянной связи человека и Бога, так и пантеизму,
растворяющему Бога в природе, и атеизму, отрицающему существование Бога. Деизм
выступил с идеей естественной религии, или религии разума, которую он
противопоставлял религии Откровения. Естественная религия, поучениям деистов,
является общей для всех людей и представляет собой норму для всех позитивных
религий, в том числе и христианства.
[670] Пейли (Paley) Уильям (1743‑1805) –
английский богослов и философ, архидиакон. Автор книг «Принципы моральной и
политической философии», «Естественная теология, или Свидетельства
существования и атрибутов бытия Божия, собранные из явлений природы».
[671] «Life is just one damned thing after another»
(«Жизнь – это одно проклятье за другим») – фраза принадлежит американскому
писателю Элберту Хаббарду (1859‑1915).
[672] Религия историков (лат.).
[673] Намек на так называемые «Тридцать девять
статей» – изложение англиканского вероучения, принятое в 1562 г. духовным
парламентом (синодом) англиканской Церкви и ставшее обязательным для всех
последователей этой Церкви Символом веры.
[674] Ллойд Сэмюэль Джонс, 1‑й барон Оверстон (1796‑1883)
– английский банкир, весьма влиятельный в области банковского дела и финансов,
представитель «валютной школы» в экономике. В 1844 г. стал партнером своего
отца по банковскому бизнесу (Лондонский и Вестминстерский банк, основанный в
1834 г.). Влиял на текущую политику с финансовой стороны. Банковский закон 1844
г., в основном, опирался на его принципы.
[675] Митчелл Уэсли Клер (1874‑1948) –
американский экономист. признанный авторитет в области теории экономических
циклов. В 1920 г. помог в организации Национального бюро экономических
исследований и был его директором до 1945 г. Основные произведения:
«Экономические циклы» (1913), «Экономические циклы: проблема и ее постановка»
(1927) и др.
[676] Бленхеймская битва – сражение,
состоявшееся 13 августа 1704 г. в ходе войны за Испанское наследство. После
сражения у Шелленберга франко‑баварские войска отступили к Аугсбургу и
соединились с остальными французскими силами под командованием Тайяра. Англо‑австрийские
войска под командованием Мальборо и принца Евгения Савойского обнаружили лагерь
противника 12 августа и на следующий день решили атаковать. На утро следующего
дня началось сражение. Французы удерживали свои позиции, пока кавалерии
Мальборо не удалось наконец прорвать центр неприятеля. Это решило исход
сражения. Разделенные французские силы были охвачены с флангов, а Тайяр с
пехотой взят в плен. Вена была спасена, а остатки французской армии отброшены
за Рейн.
[677] Филипп II (1527‑1598) – испанский
король с 1556 г. Его политика способствовала укреплению испанского абсолютизма.
Нация, которой он управлял, достигла в его царствование такого высокого
положения, какого уже никогда более не достигала. Она стала во главе
католического мира, охраняла его, служила для него руководительницей и
господствовала над ним. В течение полувека Испания вела упорные войны в разных
частях Европы. Филипп присоединил в 1581 г. к Испании Португалию. Вел войны с
Англией и Францией, которые закончились для него неудачно.
[678] Карл VIII (1470‑1498) – французский
король из династии Валуа с 1483 г. Объявил, что как наследник Анжуйского дома
он имеет права на Неаполитанское королевство и стал готовиться к итальянскому
походу. В августе 1494 г. назначил своего родственника Пьера Бурбонского
правителем государства и двинулся через Мон‑Женевр в Италию. Действия
сухопутной армии поддерживал французский и генуэзский флот. Эта грозная сила
произвела на итальянцев такое впечатление, что Карл нигде не встречал
сопротивления. Уже в начале 1495 г. вся Италия до самой южной оконечности
покорилась французскому королю. Европа была изумлена неслыханным и быстрым
завоеванием Италии. Но еще при жизни Карла почти все захваченное было вновь
утеряно.
[679] За этими данными читатель должен обратиться к
IX тому полной версии «Исследования истории» (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[680] Имеется в виду Адрианопольское сражение. 9
августа 378 г. около города Адрианополя (Восточная Фракия) вестготы во главе с
Фриттигерном разгромили римскую армию императора Валента. Сам Валент в этом
сражении погиб. Этой победой готы открыли себе путь на Балканы.
[681] «Нет доспехов против Судьбы» – строка
из пьесы английского драматурга Джеймса Ширли (1596‑1666) «Спор Аякса и Улисса»
(1659) (действие 1, сцена 3).
[682] Катары (от греч. καθαρός –
«чистый») – приверженцы ереси XI–XIII вв., распространившейся в Западной Европе
(главным образом в Италии, Фландрии, Южной Франции) преимущественно среди
ремесленников и среди части крестьян. Считая материальный мир порождением
дьявола, осуждали все земное, призывали к аскетизму, обличали католическое
духовенство. Вероучение катаров легло в основу ереси альбигойцев.
[683] Янсенизм – религиозное течение в
католицизме в XVII–XVIII вв., осужденное несколькими папскими буллами и
преследуемое королевской властью во Франции. Название данного течения восходит
к голландскому теологу Янсению (1585‑1638), проповедовавшему строгое этическое
учение и развивавшему близкие протестантизму идеи о предопределении. Янсенизм
привлек к себе многих выдающихся мыслителей и писателей XVII в. – Арно, Расина,
Паскаля, который провел последние годы своей жизни в аббатстве Пор‑Рояль,
центре янсенизма.
[684] Джевонс Уильям Стенли (1835‑1882) –
английский логик, экономист, статистик. Последователь Дж. Буля. Создал систему
логики, основанную на принципе замещения равных. Построил «логические счеты» и
логическую машину. Был сторонником теории предельной полезности. Пытался также
применить математический аппарат к анализу экономических явлений.
[685] Пигу (Pigou) Артур Сесил (1877 ‑1959) –
выдающийся английский экономист XX в. В самой значительной своей работе
«Экономика благосостояния» (1920) пытается исследовать воздействие
экономической деятельности на общее благосостояние общества и различных групп и
классов.
[686] Хаберлер Готфрид фон (р. 1900) –
американский экономист и писатель австрийского происхождения. Известен в
основном как автор книг по международной торговле. Его главное произведение
«Теория международной торговли» (1937) стала классической. Написал также для
Лиги Наций другое свое классическое исследование «Процветание и депрессия» (1937).
[687] На первый взгляд (лет.).
[688] Баал‑Хамон (финик, b'lhmn, видимо,
«хозяин‑жаровик») – божество западносемитской мифологии. Судя по значению
имени, бог Солнца. В Карфагене был одним из главных божеств, богом плодородия.
[689] Джаггернаут (инд., миф.) – грубый идол
Кришны, которому поклонялись в Пури и по всей Ориссе и Бенгалии. На ежегодном
празднике в честь этого идола его везли через весь город на гигантской
колеснице, а его поклонники, как предполагают, иногда бросались под колеса этой
колесницы в надежде попасть прямо в рай.
[690] Ищите банк (фр.).
[691] Ищите женщину (фр.).
[692] Фишер Герберт Альберт Лоуренс (1865‑1940)
– британский историк, преподаватель, государственный деятель и писатель;
влиятельный в свое время представитель либерального направления в исторической
науке. Основные произведения: «Средневековая империя» (1898), «Государство»
(1924) и «История Европы» (1935, в 3 т.). Тойнби здесь имеет в виду
процитированный выше фрагмент из книги Фишера «История Европы» (см. с. 350).
[693] Это стихи не самого Омара Хайяма, а строки из
поэмы Эдуарда Фитцджеральда «Рубайят Омара Хайяма» (Фитцджеральд Э.
Рубайят Омара Хайяма / / Омар Хайям. Рубай. СПб., 2000. С. 244).
[694] Путь страданий, крестный путь (лат.).
[695] У‑вэй (букв. – «недеяние»,
«бездействие») – в концепции китайского философа Лао‑Цзы означает подчинение
естественному процессу, гармонии с дао (естественному пути возникновения,
развития и исчезновения всех вещей), отсутствие всякого действия, идущего
вразрез с ним.
[696] Симплегады – согласно греческому мифу,
две сталкивающиеся скалы. Различные предания помещали их то у входа в Черное
море, то у берегов Сицилии, то у Геркулесовых столбов под Гадесом. Когда
аргонавты хотели проплыть между ними, Финей посоветовал им послать вперед
голубя. Вслед за ним корабль «Арго» быстро прошел Симплегады, которые успели
лишь слегка повредить корму судна. С тех пор Симплегады стоят неподвижно.
[697] Олимпейон – храм Зевса Олимпийского в
Афинах. Был начат афинским тираном Писистратом (VI в. до н. э.) и закончен
римским императором Адрианом (II в. н. э.).
[698] Майориан (ум. 461) – император Западной
Римской империи. Был возведен на трон в 457 г. полководцем и фактическим
правителем Империи Рицимером, который приказал его в 461 г. казнить, подозревая
в намерении захватить реальную власть.
[699] Расцвет (лат.).
[700] Хатшепсут – древнеегипетская царица в
1490‑1468 гг. до н. э. Соправительница своего мужа Тутмоса II и пасынка Тутмоса
III, Хатшепсут фактически отстранила их от власти. Вела большое храмовое
строительство, снарядила экспедицию в Пунт.
[701] Нельсон Горацио (1758‑1805) – виконт
(1801), английский флотоводец, вице‑адмирал (1801). Одержал ряд побед над
французским флотом, в том числе при Абукире и Трафальгаре (в этом бою был
смертельно ранен). Был сторонником маневренной тактики и решительных действий.
[702] Генрих Мореплаватель (1394‑1460) –
португальский принц (сын короля Жуана I), организатор морских экспедиций к
северо‑западным берегам Африки, положивших начало португальской экспансии на
этот материк. По инициативе Генриха Мореплавателя начался вывоз африканских
рабов в Португалию.
[703] Маркион Понтийский (ок. 100 – ок. 160)
– гностический учитель. Выступил с планами реформировать христианскую Церковь
и, когда эти планы потерпели крушение, ок. 144 г. основал особую общину.
Стремился к разделению Закона и Евангелия, отграничению христианства от
иудейства. Чтобы еще более подчеркнуть это «расхождение Закона с Евангелием»,
Маркион выдвигал свои антитезы: действия Бога Ветхого Завета обнаруживают
немощи, несовместимые с представлениями о Высшем Существе. С совершенно иными
чертами выступает Бог Нового Завета. Если первый Бог справедливый, жестокий и
суровый, то второй Бог благой. В результате Маркион допускал существование двух
разных богов – Бога Ветхого Завета, Демиурга‑Судию, и Бога Нового Завета,
неведомого в Ветхом Завете, благого и любвеобильного.
[704] Блейк Вильям (1757‑1827) – английский
поэт и художник. В романтической поэзии Блейка христианская мораль, ценности и
нормы буржуазного общества подвергаются беспощадной критике. В «пророческих
книгах» Блейка им создана мифологическая эпопея, охватывающая судьбы мира и
человечества от их сотворения через грехопадение и тысячелетние страдания до
грядущего освобождения и «Нового Иерусалима».
[705] Имеется в виду св. Ириней Лионский (t
202), среди сочинений которого первое место занимает «Обличение и опровержение
лжеименного знания» («Против ересей»), состоящее из пяти книг. В нем он опровергает
гностические системы, опираясь на Священное Писание и Священное Предание.
[706] Когда редактор этой сокращенной версии стоял
на склоне горы Килиманджаро в 1935 г., ему рассказали о причине Первой мировой
войны, как ее понимает племя чагга, обитающее на южном склоне этой горы. На
гору Килиманджаро впервые поднялся немец, доктор Ганс Мейер, в 1889 г. Когда он
достиг вершины, он встретил там бога горы, который, будучи обрадован вниманием,
которое ему никогда не уделяли, передал достойному немецкому альпинисту и всем
его соотечественникам всю страну племени чагга, но с одним условием, а именно
чтобы один из его соотечественников‑альпинистов поднимался на гору каждый год
(или каждые пять лет?), чтобы почтить его. Все шло хорошо. Немцы заняли
Германскую Восточную Африку, и старательные партии немецких альпинистов
поднимались на гору через соответствующие промежутки времени, пока в 1914 г. не
произошло то самое злополучное упущение в исполнении этого долга. В праведном
гневе бог горы забрал свой дар и передал страну врагам немцев, которые объявили
им войну и вытеснили их. Эта англо‑германская война в восточно‑африканском
центре мира повлекла за собой между прочим, как обычно и бывает в войнах,
некоторые «промежуточные» вспышки борьбы в относительно незначительных
удаленных областях.
Объяснение племенем чагга причин Первой мировой войны кажется
таким же уместным, как и другие объяснения ее причин, а в действительности даже
и лучшим объяснением, нежели некоторые из них, поскольку осознает важность той
роли, которую в истории играет религия (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[707] Ипох – город в Малайзии, на полуострове
Малакка.
[708] Трумэн Гарри (1884‑1972) – 33‑й
президент США (после смерти президента Ф. Рузвельта), в 1945‑1953 гг. от
демократической партии. Отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и
Нагасаки. Был одним из инициаторов политики «холодной войны». В 1947 г. им была
выдвинута так называемая доктрина Трумэна – внешнеполитическая программа
правительства США, которая предусматривала под видом оказания помощи Греции и
Турции вмешательство в их внутренние дела и использование их территорий в
качестве военно‑стратегического плацдарма против СССР и других социалистических
стран.
[709] Тойнби имеет в виду первого исторически
достоверно установленного греческого поэта Гесиода (VIII в. до н. э.), уроженца
города Аскры в Беотии.
[710] Евангельская аллюзия. Имеются в виду пастухи,
пришедшие в Вифлеем посмотреть на младенца Христа (Лк. 2, 8‑20).
[711] Человек человеку – волк (лит.).
[712] «Польский коридор» («Данцигский
коридор») – так называлась полоса земли, полученная Польшей по Версальскому
договору (1919) и давшая ей выход к Балтийскому морю.
[713] Нападение Людовика XIV на Испанские
Нидерланды.
[714] Турецко‑итльянская война 1911‑1912 гг.;
Балканские войны 1912‑1913 гг.
[715] 1494‑1503, 1510‑1516, 1521‑1525 гг.
[716] 1568‑1609 гг. в Испанской Габсбургской
монархии; 1562‑1598 гг. во Франции.
[717] 1672‑1678, 1688‑1697 и 1702‑1713 гг.
[718] 1792‑1802. 1803‑1814 и 1815 гг.
[719] Возобновившаяся всеобщая война 1939‑1945 гг.
была возвещена вспышками предварительных войн: японским нападением в Маньчжурии
в 1931 г.; Итало‑абиссинскои войной 1935‑1936 гг.; войной 1936‑1939 гг. в
Испании и роковой однодневной в 1936 г., за бескровность котором привьюсь
заплатить огромные проценты в виде бойни 1939‑1945 гг.
[720] 1536‑1538. 1542‑1544 гг. [1544‑1546 и 1549‑1550
гг., Англия против Франции], [1546‑1552 гг., Шмалькальденский союз
протестантских князей в Священной Римской империи против Карла VI], 1552‑1559
гг.
[721] 1733‑1735, 1740‑1748 и 1756‑1763 гг.
[722] 1848‑1849, 1853‑1856, 1859 гг. [1861‑1865 гг.,
Гражданская война в Соединенных Штатах: 1862‑1867 гг., франзуз.‑прусс. 1870‑1871
гг.
[723] Конец века (фр.).
[724] Пипе (Pepys) Сэмюэль (1633‑1703) –
английский писатель, автор дневника и флотский чиновник. Его дневник,
охватывающий период с 1660 по 1669 г., является ярким отчетом о лондонской
жизни во время таких бедствий, как великая чума, лондонский пожар и вторжение
голландского флота в Темзу.
[725] Варфоломеевская ночь (Парижская кровавая
свадьба) – массовая резня гугенотов католиками в ночь с 23 на 24 августа 1572
г. (День св. Варфоломея) в Париже, организованная королевой Екатериной Медичи и
герцогами Гизами. Для скрепления мира между католиками и протестантами решено
было устроить бракосочетание короля Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа, на
которое съехалось много гугенотов. Екатерина Медичи, желавшая устранить своего
противника – адмирала Колиньи, заранее составила заговор, и по данному сигналу
началась резня, которая затем распространилась по всей Франции. Всего погибло
около 10 000 гугенотов.
[726] Бэкон Фрэнсис (1561‑1626) – английский
философ, родоначальник английского материализма. Лорд‑канцлер при дворе короля
Якова I. В трактате «Новый органон» (1620) провозгласил целью науки увеличение
власти человека над природой, предложил реформу научного метода – очищение
разума от заблуждений («идолов», или «призраков»), обращение к опыту и
обработка его посредством индукции, основа которой – эксперимент. Является
также автором утопии «Новая Атлантида».
[727] Хедлэм‑Морли (Headlam‑Morley), сэр
Джеймс Уиклиф (1863‑1929) – английский историк, автор работ по политической
истории Европы. Основные произведения: «Бисмарк и Германская империя» (1899),
«История 12‑и дней» (1915) и др.
[728] Валери Поль Амбруаз (1871 ‑1945) –
французский поэт и литературный критик. На раннем этапе своего творчества
примыкал к символистам. Со временем основные его интересы переместились в
область философии, математики, экономики и других научных дисциплин, и он
заявил, что поэзия его интересует только в качестве умственного экзерсиса.
Следуя за Леонардо да Винчи, которого считал своим учителем, создал некое
подобие математической метафизики и руководствовался им в своей жизни и
творчестве. Книги стихотворений Валери выходили ограниченным тиражом, так как
автору казалось, что это повышает их духовную и материальную ценность.
Наибольшую известность приобрели литературоведческие и философские эссе Валери,
объединенные в сборники «Смесь» (четыре выпуска).
[729] Ассирийская ярость (лат.).
[730] Маленков Георгий Максимилианович (1902‑1988)
– советский политик. Председатель Совета министров (1953‑1955). Был отстранен
от обязанностей члена Президиума ЦК КПСС в 1957 г. за участие в заговоре против
Хрущева. В 1961 г. исключен также и из коммунистической партии.
[731] Хрущев Никита Сергеевич (1894‑1971) –
советский партийный и государственный деятель. С 1953 г. 1‑й секретарь ЦК КПСС,
одновременно в 1958‑1964 гг. председатель Совета министров СССР. Освобожден
Пленумом ЦК КПСС 14 октября 1964 г. от обязанностей 1‑го секретаря ЦК КПСС и
члена Президиума ЦК КПСС.
[732] Тито (Броз Тито) Иосип (1892‑1980) –
деятель югославского и международного коммунистического движения; председатель
Союза коммунистов Югославии (СКЮ) с 1966 г. (в 1940‑1952 гг. генеральный
секретарь ЦК компартии, в 1952‑1966 гг. генеральный секретарь СКЮ), президент
Югославии с 1953 г., председатель Президиума СФРЮ с 1971 г., маршал (1943). В
1910 г. вступил в социал‑демократическую партию Хорватии и Славонии. В 1915 г.
оказался в России как военнопленный. С сентября 1920 г. на родине. В 1934 г.
избран членом ЦК и Политбюро ЦК КП Югославии (КПЮ). В 1935‑1936 гг. в Москве,
работал в Коминтерне. С декабря 1937 г. в Югославии, возглавил КПЮ. Во время
Народно‑освободительной войны в Югославии 1941‑1945 гг. верховный
главнокомандующий Народно‑освободительной армии Югославии. В 1943‑1945 гг.
председатель Национального комитета освобождения Югославии. В 1945‑1946 гг.
председатель Временного правительства, министр обороны и верховный
главнокомандующий вооруженными силами, в 1946‑1953 гг. председатель Совета
министров Югославии, в 1953‑1963 гг. председатель Союзного исполнительного веча
(правительства) Югославии.
[733] Вильгельм II Гогенцоллерн (1859‑1941) –
германский император и прусский король в 1888‑1918 гг. Играл активную роль во
внешней и внутренней политике Германии. Одним из первых его мероприятий была
отставка в 1890 г. канцлера Бисмарка. В том же году последовал разрыв «договора
о перестраховке» с Россией. Затем началась активизация военно‑морского
строительства, колониальной политики в Китае, Марокко, на Балканах. Вильгельм
II был лишен каких‑либо дипломатических талантов и своими поступками часто
достигал результатов, обратных тем, которых добивался. Использовал убийство австрийского
эрцгерцога Франца‑Фердинанда и последующий июльский кризис 1914 г. как повод
для развязывания Первой мировой войны. В начале Ноябрьской революции 1918 г. в
Германии бежал в Голландию. По Версальскому мирному договору 1919 г. как
преступник и виновник войны подлежал суду Международного трибунала. Однако
правительство Голландии отказалось выдать Вильгельма II. а правители держав‑победительниц
не настаивали на его выдаче. До конца своих дней жил в Голландии, занимаясь
писанием мемуаров. Приветствовал вторжение в 1940 г. в Голландию немецко‑фашистских
войск.
[734] Священный союз – союз Австрии, Пруссии
и России, заключенный в Париже 26 сентября 1815 г., после падения империи
Наполеона I. Целями Священного союза являлось обеспечение незыблемости решений
Венского конгресса 1814‑1815 гг., подавление революционных и национально‑освободительных
движений. В 1815 г. к Священному союзу присоединились Франция и ряд европейских
государств. Священный союз санкционировал вооруженную интервенцию и подавление
австрийскими войсками революций в Неаполе (1820‑1821) и Пьемонте (1821) и
французскими войсками – в Испании (1820‑1823). В ряде актов участвовала
Великобритания. Противоречия между европейскими державами и развитие
революционного движения расшатывали Священный союз, и в конце 20‑х – начале 30‑х
гг. XIX в. Священный союз фактически распался.
[735] Доктрина Монро – внешнеполитическая
программа правительства США, провозглашенная в 1823 г. в послании президента
США Джеймса Монро (1758‑1831; 5‑й президент в 1817‑1825 гг.) американскому
Конгрессу. Декларировала принцип взаимного невмешательства стран американского
и европейского континентов во внутренние дела друг друга. Одновременно
выдвигала положение, согласно которому рост могущества США ставился в
зависимость от присоединения новых территорий, что было использовано позднее
для обоснования экспансии США в Латинской Америке.
[736] Высшее благо (лат.).
[737] Народное ополчение (фр.).
[738] Прекрасное занятие (фр.).
[739] Хейердал Тур (1914‑2002) – норвежский
этнограф и археолог. Для подтверждения своей теории первоначального заселения
островов Полинезии из Америки в 1947 г. проплыл с экипажем на плоту «Кон‑ Тики»
от Перу до Полинезии. В 1969 и 1970 гг. проплыл на папирусных лодках «Ра» от
Африки до островов Центральной Америки, в 1977‑1978 гг. – на тростниковой лодке
«Тигрис» по маршруту Эль‑Курна (Ирак) – устье Инда–Джибути. Написал книги
«Путешествие на “Кон‑ Тики”» (1949), «Аку‑Аку» (1957), «Ра» (1970), «Фату‑Хива»
(1975).
[740] Теннисон Альфред (1809‑1892) –
английский поэт. Цикл поэм «Королевские идиллии» (1859), основанный на
артуровских легендах. Драмы «Королева Мария» (1875), «Беккет» (1879). В
сентиментальной поэзии Теннисона, отличающейся музыкальностью и живописностью,
сильны консервативные тенденции.
[741] Организация Объединенных Наций (ООН) –
международная организация государств, созданная в целях поддержания и
укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между государствами.
Устав ООН, предварительно разработанный на конференции в Думбартон‑Оксе в 1944
г. представителями СССР, США, Великобритании и Китая, подписан 26 июня 1945 г.
государствами – участниками учредительной Сан‑Францисской конференции 1945 г. и
вступил в силу 25 октября 1945 г. В 1982 г. в ООН входили 157 государств.
Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности,
Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и
Секретариат. Штаб‑квартира ООН находится в Нью‑Йорке.
[742] После победы в 1949 г. народной революции в
Китае и провозглашения Китайской Народной Республики остров Тайвань стал
прибежищем остатков гоминьдановской группировки и ее войск. Между
гоминьдановской администрацией Тайваня и США был заключен в 1954 г. т. н. договор
о взаимной безопасности. В октябре 1971 г. Тайвань, занимавший в ООН место КНР,
был исключен из этой организации.
[743] План Маршалла – программа
восстановления и развития Европы после Второй мировой войны путем
предоставления ей американской экономической помощи. Был выдвинут в 1947 г.
американским генералом Джорджем Кэтлеттом Маршаллом (1880‑1959). Вступил в
действие в апреле 1948 г. В осуществлении плана Маршалла участвовало 17
европейских стран (включая Западную Германию). План Маршалла ставил целью
укрепление гегемонии США в Западной Европе, создание объединенного фронта
против СССР и складывавшейся мировой системы социализма. В 1951 г. заменен
законом «о взаимном обеспечении безопасности», предусматривавшим одновременное
предоставление экономической и военной помощи.
[744] Олни Ричард (1835‑1917) – американский
государственный секретарь. Стал известен благодаря свой формулировке т. н.
следствия Олни из доктрины Монро, которое утверждало право США вмешиваться в
любой международный спор в пределах Западного полушария.
[745] Уолл‑Стрит – улица в Нью‑Йорке, где
находится биржа; в переносном смысле – американский финансовый капитал,
финансовая олигархия.
[746] Ломбард‑Стрит – денежный рынок,
финансовый мир Англии (по названию улицы в лондонском Сити, на которой
находится много банков).
[747] «Новый курс» – в США система
мероприятий правительства президента Ф. Рузвельта в 1933‑1938 гг. для
ликвидации последствий экономического кризиса 1929‑1933 гг. и смягчения противоречий
американского капитализма. Сочетал меры по усилению государственного
регулирования экономики с некоторыми реформами в социальной области.
[748] Маньчжурский мир (лат.).
[749] Рузвельт Франклин Делано (1882‑1945) –
32‑й президент США (с 1933 г.) от демократической партии (четыре раза избирался
на этот пост). Провел ряд реформ («Новый курс»). В 1933 г. правительство
Рузвельта установило дипломатические отношения с СССР. С начала Второй мировой
войны выступил за поддержку Великобритании, Франции и (с июня 1941 г.) СССР в
их борьбе с фашистской Германией. Внес значительный вклад в создание
антигитлеровской коалиции. Придавал большое значение созданию ООН и
послевоенному международному сотрудничеству, что, в частности, нашло отражение
в т. н. Атлантической хартии – англо‑американской декларации о целях мировой
войны и послевоенном переустройстве мира (1941).
[750] Аллюзия на евангельскую притчу о добром
самарянине (Лк. 10, 30‑37).
[751] Идея о том, что когда‑то машины «станут
взрослыми» и освободят своих человеческих помощников, была развита в книге
Сэмюэля Батлера «Едгин», опубликованной в 1870 г. (Прим. А. Дж. Тойнби).
[752] Эвинг Альфред, сэр (1855‑1935) –
английский физик, открывший явление гистерезиса и давший ему название.
[753] Имеется в виду древнегреческий миф о
волшебнице Цирцее (Кирке), жившей на острове Эея и превратившей спутников
Одиссея в свиней. Однако Одиссей заставил Цирцею снять колдовство.
[754] Аллюзия на роман‑антиутопию О. Хаксли
«Прекрасный новый мир» (1932) о стандартизованном технократическом обществе.
[755] У Тойнби библейская цитата «feel after Him and
find Him». В синодальном переводе это место звучит так: «Дабы они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Дели.
17,27).
[756] 4 июля – американский национальный
праздник, день провозглашения независимости США.
[757] День Гая Фокса – в Великобритании 5
ноября, праздник, установленный в честь взятия в плен Гая Фокса (1570‑1606) –
английского заговорщика, возглавившего т. н. Пороховой заговор с целью убийства
короля Якова I и всей Палаты лордов и Палаты общин в результате взрыва здания
Парламента 5 ноября 1605 г. в отместку за законы, принятые в Англии против
католиков.
[758] День перемирия – 11 ноября, официальный
праздник в США, установленный в память окончания Первой и Второй мировых войн.
Впоследствии был переименован в День ветеранов, в честь ветеранов вооруженных
сил.
[759] Кларендон Эдуард Хайд (1609‑1674) –
граф, лорд‑канцлер Англии в 1660‑1667 гг. В период Английской буржуазной
революции XVII в. один из лидеров роялистов. Автор первой истории революции
(написанной с роялистских позиций).
Комментарии
Отправить комментарий
"СТОП! ОСТАВЬ СВОЙ ОТЗЫВ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!"