Арнольд
Джозеф Тойнби

Исследование
истории. Том I: Возникновение, рост и распад цивилизаций.
От
Издателя
Главное свое произведение А. Дж. Тойнби опубликовал между
1934 и 1961 гг. Оно, как и многие другие его исторические и философские
исследования, было переведено не только на европейские языки, но и на арабский,
гуджарати, японский, персидский и сингальский языки. В 1991 г. вышел и
долгожданный русский перевод (Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с
англ. / Сост. Огурцов А.П.; вступ. ст. Уколовой В.И.; заключ. ст. Рашковского
Е.Б. – М.: Прогресс, 1991). Это издание представляло собой сильно сокращенный
вариант, составленный отечественными исследователями на основе первых 10 томов
«Исследования истории», и впервые ознакомило русского читателя с концепцией
всемирно известного историка.
Достоинство нашего издания в том, что оно, в первую очередь,
представляет собой перевод сокращенного варианта, составленного еще при жизни
Тойнби и лично им отредактированного (а тем самым и вновь «освоенного») в
зрелый период его творчества (т. е. после Второй мировой войны). Таким образом,
это издание учитывает ту эволюцию, которую претерпели взгляды выдающегося
мыслителя начиная со времени выхода первых томов. К тому же, сокращенный
вариант, сделанный Д. Ч. Сомервеллом по личной инициативе и одобренный самим
Тойнби, позволяет ознакомиться со знаменитой концепцией гораздо большему
количеству читателей, интересующихся историей, но не имеющих времени прочесть
все 12 томов. При этом наиболее важным является тот факт, что фрагменты выбраны
не произвольно, а вполне адекватно представляют философию истории Тойнби в том
виде, в каком она выражена в «Исследовании». Если бы это было не так, Тойнби
вряд ли одобрил бы данную публикацию. Главным достоинством именно этого
варианта является то, что аргументация «Исследования» в основном сохранена, и
лишь многочисленные примеры были сокращены до оптимального количества. Так что
читатель имеет редкую возможность ознакомиться с великим трудом, сильно
потерявшим в объеме, но не в смысловом содержании. В заключение необходимо
отметить, что вариант, изданный под редакцией Д. Ч. Сомервелла, во всем мире
уже давно стал своего рода классикой и наиболее часто издаваемым вариантом
«Исследования истории». Сокращенное изложение I–VI томов увидело свет в 1946
г., VII–X томов – в 1957 г. В 1960 г. этот вариант был издан в одном томе, а
позднее, в 1972 г., появилась даже иллюстрированная версия, способствовавшая
еще большему расширению круга читателей и почитателей Тойнби.
Мы надеемся, что издание всемирно известного произведения в
его не менее знаменитой сокращенной версии не только адекватно представит идеи
выдающегося английского историка и мыслителя, но и даст возможность более
широкой читательской аудитории ознакомиться с его концепцией. Ввиду того что
Тойнби приводит массу фактов, имен, названий, понятий, которые не всегда можно
найти в справочной литературе, мы прилагаем к переводу обширные примечания, где‑то
дополняющие, а где‑то комментирующие текст.
Предисловие
автора
В нижеследующем своем предварительном примечании господин Д.
Ч. Сомервелл объясняет, как он приступил к созданию сокращенного варианта
первых шести томов моей книги. До того как я об этом узнал, мне задавали
множество вопросов, особенно читатели из Соединенных Штатов: «Есть ли какая‑то
вероятность, что со временем будет выпущен сокращенный вариант этих томов?»
(теперь все первоначальные ожидания были неизбежно отложены из‑за войны);
«Когда я смогу опубликовать оставшуюся часть работы?» Я чувствовал, насколько
сильна потребность [в сокращенном варианте], но не понимал, как ее
удовлетворить (поскольку был очень занят работой, связанной с войной), пока эта
проблема не решилась самым счастливым образом благодаря письму от господина
Сомервелла, сообщавшего мне, что сокращенный вариант, сделанный им, теперь
существует.
Когда господин Сомервелл прислал мне свою рукопись, прошло
уже более четырех лет со времени публикации IV–VI томов и более девяти – со
времени публикации I‑III. Для писателя акт публикации, я полагаю, всегда имеет
эффект возврата в чуждое тело произведения, на протяжении времени создания
являвшегося частью жизни своего создателя. А в данном случае между моей книгой
и мной пролегла война 1939‑1945 гг. с вызванной ею занятостью и переменой
обстоятельств (тома IV‑VI были опубликованы за сорок один день до начала
войны). Работая над рукописью господина Сомервелла, я тем самым был в состоянии
(несмотря на его умение сохранять мои собственные слова) прочесть сокращенный
вариант почти так, как если бы он был новой книгой, написанной не мной. Я
сделал эту книгу теперь полностью моей, то там, то здесь поправляя слог по
всему тексту книги (с великодушного согласия господина Сомервелла), но не сравнивая
сокращенный вариант с оригиналом строка за строкой, и считал своей обязанностью
никогда не вставлять пассажи, выкинутые господином Сомервеллом, убедившись, что
автор [оригинала], к несчастью, плохой судья того, что является необходимой
частью его произведения, а что – нет.
Создатель искусного сокращенного варианта оказывает автору
неоценимую услугу, которую его собственная рука не может для него сделать с
легкостью, и читатели настоящего тома, знакомые с первоначальным текстом, я
уверен, согласятся со мной в том, что мастерство господина Сомервелла в самом
деле искусно. Ему удалось сохранить аргументацию книги, представить большую ее
часть в оригинальных словах и в то же самое время сократить шесть томов до
одного. Если бы передо мной стояла подобная задача, я сомневаюсь, что сумел бы
с ней справиться.
Хотя господин Сомервелл постарался насколько возможно
облегчить для автора работу над сокращенным вариантом, прошло еще два года
после того, как я впервые сел за книгу. В течение недель и месяцев я вынужден
был отложить книгу в сторону, и она лежала нетронутой у меня под рукой. Эта
задержка была вызвана острой необходимостью военной работы. Однако заметки к
оставшейся части книги остались в целости, хранясь в сейфе Совета по
иностранным делам в Нью‑Йорке (я отправил их в Мюнхен на неделю исполнительному
секретарю Совета господину Мэллори, который любезно согласился позаботиться о
них), а там, где есть жизнь – есть надежда окончания работы. Не последней из
причин моей благодарности господину Сомервеллу является то, что процесс работы
над его сокращенным вариантом уже опубликованных томов помог мне вновь
обратиться к тем томам, что я еще должен был написать.
Я счастлив также и тому, что этот том публикуется, подобно
полной версии книги, издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс», и что указатель
составлен мисс В. М. Бултер, которой читатели полной версии уже обязаны двумя
указателями к томам I–III и IV‑VI.
Арнольд
Дж. Тойнби
Примечание
Издателя сокращенного издания
«Исследование истории» господина Тойнби представляет собой
единый непрерывный аргумент относительно природы и структуры исторического
опыта человеческого рода с первого появления на свет тех видов общества,
которые называются цивилизациями. Данный аргумент иллюстрируется и, насколько
позволяет природа материала, «доказывается» на каждой ступени множеством
иллюстраций, взятых изо всей человеческой истории, известной на сегодня историкам.
Некоторые из этих иллюстраций разработаны с мельчайшими подробностями. Что
касается основной сути книги, то задача редактора сокращенной версии, в
сущности, очень проста: сохранить аргументацию, хотя и в сокращенном виде,
нетронутой, уменьшив до некоторой степени количество иллюстраций и в гораздо
большей степени – количество деталей в их изложении.
Думаю, что этот том адекватно представляет философию истории
господина Тойнби в том виде, в каком она изложена в шести опубликованных томах
его еще не законченной работы. Если бы это было не так, господин Тойнби,
очевидно, не одобрил бы эту публикацию. Но мне было бы очень неловко, если бы
этот том стали рассматривать в качестве вполне удовлетворительной замены
оригинального произведения. Для «деловых целей», возможно, это и адекватная
замена. Для удовольствия – конечно же, нет, ибо значительная часть очарования
оригинала содержится в требующем свободного времени обилии его иллюстраций.
Только большая книга – и это чувствует всякий – в эстетическом плане достойна
величины своего предмета. Я столь широко мог пользоваться подлинными
предложениями и параграфами оригинала, что не боялся того, что этот сокращенный
вариант найдут скучным, но одинаково уверен, что оригинал найдут гораздо более
очаровательным.
Я сделал этот сокращенный вариант для своего собственного
удовольствия, не уведомляя господина Тойнби и не думая о публикации. Он
показался мне приятным времяпрепровождением. Только когда текст был закончен, я
сообщил господину Тойнби о его существовании и предоставил ему текст – на тот
случай, если у автора когда‑нибудь возникнет желание использовать этот вариант.
Так что, будучи его источником, я позволял себе изредка вставлять свою
собственную небольшую иллюстрацию, не найденную в оригинале. В конце концов, ведь
написано: «Не заграждай рта волу, когда он молотит» (Втор. 25, 4). Эти
мои вторжения – небольшие по размеру и еще меньшие по важности. Поскольку моя
рукопись в целом была тщательно проверена господином Тойнби и мои вторжения
получили его imprimatur [одобрение на печатание] вместе со всем
остальным, то нет нужды на них указывать ни здесь, ни, тем более, в сносках к
тексту. Я упомянул о них лишь потому, что внимательный читатель, который
откроет их, сравнивая эту книгу с оригиналом, может почувствовать, что в данном
отношении игра в сокращенный вариант ведется не по самым строгим правилам. Есть
также одно или пара мест, где – то ли господином Тойнби, то ли мной – вставлено
несколько предложений в представлении событий, произошедших со времени
публикации оригинала. Но в целом, учитывая, что три первых тома были
опубликованы в 1933‑м, а вторые три – в 1939 г., поразительно, какая небольшая
потребовалась работа такого рода.
«Краткое содержание», которое выходит в качестве приложения
к работе, является, в сущности, «сокращением сокращения». В то время как данная
работа умещает 3000 страниц оригинала в 565 страниц, «Краткое содержание» –
лишь в 25. Прочитанное как «вещь в себе», оно окажется крайне неудобоваримым,
однако может оказаться полезным в целях всякого рода ссылок. Это, фактически,
род «оглавления», и единственная причина не помещать его в начало книги – то,
что оно составило бы довольно большой и уродливый объект на переднем плане
картины.
Для читателей, которые хотят направиться за информацией к
томам оригинала, будут полезны следующие уравнения:
I том:
Страницы данного варианта: 32‑157 (Том оригинала: I), 158‑280
(Том оригинала: II), 281‑390 (Том оригинала: III)
Том оригинала: I
II том:
Страницы данного варианта: 5‑168 (Том оригинала: IV), 169‑319
(Том оригинала: V), 319‑428 (Том оригинала: VI)
Том оригинала:
III том:
Страницы данного варианта: 5‑104 (Том оригинала:
VII), 105‑192 (Том оригинала: VIII), 193‑342 (Том оригинала:
IX), 343‑452 (Том оригинала: X)
Д.
Ч. Сомервелл
ПЛАН КНИГИ
А. Дж. Тойнби «Исследование истории» (в 2 томах)
I том
I. Введение
II. Возникновение цивилизаций
III. Рост цивилизаций
IV. Надломы цивилизаций
V. Распады цивилизаций
II том
VI. Универсальные государства
VII. Вселенские церкви
VIII. Героические века
IX. Контакты между цивилизациями в пространстве
X. Контакты между цивилизациями во времени
XI. Ритмы в истории цивилизаций
XII. Перспективы западной цивилизации
XIII. Вдохновение историков
Кожурин
К.Я. История с высоты птичьего полета
(«Исследование
истории» А. Дж. Тойнби)
«Я всегда желал увидеть обратную сторону Луны», – так кратко
и емко на закате своих дней сформулировал свое кредо всемирно известный
английский историк, дипломат, общественный деятель, социолог и философ Арнольд
Джозеф Тойнби, с детства живо интересовавшийся историей народов, не
вписывавшихся в традиционную европоцентристскую схему, – персов, карфагенян,
мусульман, китайцев, японцев и др. Этому интересу он остался верен и в зрелые
годы. Действительно, Тойнби как историк всю свою жизнь боролся против
недалекого европоцентризма, настаивая на неповторимости облика каждой
цивилизации, а как общественный деятель и публицист – против любых попыток
Запада навязать другим народам и цивилизациям собственную систему ценностей и
оценок в качестве истины в последней инстанции. Значение Тойнби трудно
переоценить. Немного в истории найдется имен, сопоставимых с ним по широте
охвата и эрудиции, по глубине проникновения в суть поставленных проблем. Его
воистину грандиозный труд, несмотря на недоброжелательство критиков и
объективно существующие погрешности, уже прочно вошел в золотой фонд мировой
философской и исторической мысли. Без преувеличения можно сказать, что и спустя
более четверти века после смерти Тойнби его идеи, ломая общепринятые
стереотипы, продолжают оказывать значительное влияние на социальную философию и
общественное сознание как западной, так и других цивилизаций.
* * *
Арнольд Джозеф Тойнби родился 14 апреля, в Вербное воскресенье,
1889 г. в Лондоне. Родословная его по‑своему замечательна. Он был назван в
честь сразу двух своих близких родственников: деда и старшего дяди. Дед
будущего историка Джозеф Тойнби (1815‑1866) был известным врачом‑оториноларингологом
и успешно излечил от глухоты саму королеву Викторию; был близко знаком с
интеллектуальной элитой своего времени – среди его друзей и знакомых можно
назвать Дж. С. Милля, Дж. Рёскина, М. Фарадея, Б. Джоуэтта, Дж. Мадзини… Однако
жизнь его оборвалась трагически – он пал жертвой медицинского эксперимента,
умерев от передозировки хлороформа.
Джозеф Тойнби оставил после себя трех сыновей, и каждый из
них был, в своем роде, уникален. Старший сын Джозефа, в честь которого А. Дж.
Тойнби получил свое первое имя, – Арнольд Тойнби (1852‑1883), стал известным
английским историком, экономистом и социальным реформатором, его основной труд
«Промышленная революция» (1884 г.; в русском переводе 1898 г. «Промышленный
переворот в Англии в XVIII столетии») является классическим. Именно Арнольду Тойнби‑старшему
принадлежит сам термин «промышленная революция». Средний сын Джозефа – Паджет
Тойнби (1855‑1932) – занялся филологией, став одним из ведущих специалистов по
творчеству Данте. Третий сын, Гарри Волпи Тойнби (1861‑1941), нашел свое
призвание в общественной деятельности, работая в Обществе по организации
благотворительности. Он‑то и был отцом А. Дж. Тойнби.
Уже с раннего детства Арнольд Джозеф Тойнби проявлял
незаурядные способности в словесности и отличался исключительной памятью.
Основное влияние (вплоть до его женитьбы в 1913 году) оказывала на него мать –
Сара Эдит Тойнби, урожденная Маршалл (1859‑1939), – женщина необыкновенно умная
и чрезвычайно твердая в своей англиканской вере, британском патриотизме,
чувстве долга и привязанности к сыну. Нельзя не упомянуть здесь и о двоюродном
дедушке (младшем брате Джозефа) – Гарри Тойнби (1819‑1909), в доме которого
родился и вырос будущий историк. «Дядя Гарри» был морским капитаном в отставке,
одним из пионеров метеорологии, в старости занявшимся написанием теологических
трактатов. Он поощрял рано развившуюся ученость двоюродного внука и
культивировал его способности к языкам – например, давал мальчику несколько
пенсов за выученные наизусть отрывки из Библии, так что в свои зрелые годы А.
Дж. Тойнби мог дословно цитировать по памяти довольно большие куски из Ветхого
и Нового Заветов. Однако «дядя Гарри», являясь наследником и представителем
пуританской традиции, в религиозном отношении был фанатиком и весьма враждебно
относился к представителям других конфессий, прежде всего к католикам и к тем
англиканам, которые тяготели к католицизму. Родители же Тойнби придерживались
англиканства – своего рода «срединного пути», и были гораздо терпимее
престарелого дяди к другим религиям, что впоследствии отличало и самого
Арнольда Джозефа.
В школе пристрастия Тойнби определились еще яснее.
Математика давалась ему с трудом, зато он с легкостью осваивал языки, прежде
всего классические. В 1902 г. он поступил в престижный Винчестерский колледж,
после окончания которого в 1907 г. продолжил свое образование в Баллиол‑колледже
Оксфорда, являвшемся в начале XX в. привилегированной стартовой площадкой для
многообещающей карьеры государственного деятеля. Обучение в колледже открывало
дорогу к высоким правительственным постам.
Из колледжей Тойнби вынес блестящее знание латинского и
греческого языков, выдержав в 1909 г. первый публичный экзамен на степень
бакалавра по обоим классическим языкам, а в 1911 г. – по так называемым
гуманитарным наукам («litterae humaniores»). По окончании Баллиол‑колледжа он
остался там преподавать древнегреческую и римскую историю. За блестящие успехи
Тойнби продлили стипендию и поощрили его намерение совершить путешествие.
В 1911 и 1912 гг. Тойнби много путешествовал, исследуя
достопримечательности Греции и Италии, – сначала в компании британских
филологов‑классиков, а затем один – пешком, имея при себе лишь флягу с водой,
плащ от дождя, запасную пару носков и некоторое количество денег, необходимое
для покупки пищи у жителей деревень, расположенных на пути. Он спал под
открытым небом или на полу в кофейнях. Всего он прошел почти 3000 миль, в
основном следуя по горам узкими козьими тропами (лишь иногда сходя с тропы –
или с целью достичь какой‑нибудь высокой точки, удобной для обозрения
окрестностей, или в поисках более короткого пути к той или иной античной
достопримечательности). Чтобы лучше изучить особенности новой для него науки,
Тойнби год проучился в Британской школе археологии в Афинах, а затем принял
участие в раскопках только что открытых памятников крито‑микенской культуры.
Во время путешествия по Лаконии с Тойнби произошел один
случай, оказавшийся судьбоносным. Вот как много лет спустя он описывал его сам:
«26 апреля 1912 года, оказавшись в Лаконии, я планировал пройти пешком из Като‑Везани,
где я провел предыдущую ночь, в Гитион… Я рассчитал, что на это путешествие мне
вполне хватит одного дня, потому что на листке псевдоавстрийской штабной карты
здесь была помечена первоклассная дорога, проходившая как раз по участку
пересеченной местности; таким образом, последний этап этого однодневного похода
обещал быть простым и быстрым. Этот лживый листок, который я в ту пору
постоянно носил с собой, и сейчас лежит у меня на столе, прямо перед глазами.
Вот она, эта якобы прекрасная дорога, обозначенная двумя бесстыдными, дерзкими
черными линиями. Когда, перейдя через [реку] Эвротос по мосту, который на карте
не был указан, я достиг того места, где должна была начинаться дорога,
оказалось, что там вообще нет никакой дороги, а значит, мне предстояло
добираться до Гитиона по пересеченной местности. Одно ущелье следовало за
другим; я уже на несколько часов опаздывал против моего расписания; фляга моя
была наполовину пуста, и тогда, к моей радости, я набрел на резво бегущий ручей
с прозрачной водой. Наклонившись, я припал к нему губами и пил, пил, пил. И
только когда я напился, я заметил какого‑то человека, стоявшего неподалеку у
входа в свой дом и наблюдавшего за мной. “Это очень плохая вода”, – заметил он.
Если бы этот человек обладал чувством ответственности и если бы он внимательнее
относился к ближнему, он сказал бы мне об этом прежде, чем я начал пить; однако
если бы он поступил так, как следовало поступить, то есть предупредил бы меня,
то меня, весьма вероятно, не было бы сейчас в живых. Нечаянно он спас мне
жизнь, ибо оказался прав: вода была плохая. Я заболел дизентерией, и благодаря
этой болезни, не отпускавшей меня в течение следующих пяти‑шести лет, я
оказался непригодным к несению воинской службы и не был призван на войну 1914‑1918
годов».{1} На Первой мировой войне погибли многие из друзей и
сверстников Тойнби. Переживания, связанные с их смертью, будут преследовать его
всю жизнь. Тем самым роковой случай, возможно, спас Тойнби – он не был призван
в действующую армию и, продолжая заниматься наукой, в дальнейшем смог создать
свое главное произведение.
С 1912 по 1924 гг. Тойнби занимал должность профессора‑исследователя
международной истории в Лондонском университете. Во время Первой мировой войны
он работал в Информационном отделе министерства иностранных дел Великобритании
в качестве научного консультанта по историческим, политическим и
демографическим проблемам Ближнего Востока. Эта работа, несомненно, наложила
сильный отпечаток на подход Тойнби к историческим фактам. Здесь ему часто
приходилось иметь дело со многими свидетельствами, не попадавшими в официальные
документы. На Парижской мирной конференции 1919 г. (а впоследствии, после
Второй мировой войны, и на Парижской конференции 1946 г.) Тойнби присутствовал
в качестве члена британской делегации. С 1919 по 1924 гг. Тойнби – профессор
византийского и современного греческого языка, истории и культуры в Лондонском
университете. В 1925 г. он становится научным руководителем британского
Королевского института международных отношений. Эту должность он занимал до
1955 г. Одновременно он являлся редактором и соавтором ежегодно выпускаемых
институтом «Обзоров международных отношений» («Survey of international
affairs». London, 1925‑1965).
После выхода на пенсию Тойнби много путешествует по странам
Азии, Африки, Америки, читает лекции и преподает в университете Денвера,
государственном университете Нью‑Мексико, Миллс‑колледже и других заведениях.
Почти до самой смерти он сохранял ясный ум и необыкновенную память. За
четырнадцать месяцев до смерти его разбил сильный паралич. Он почти не мог
двигаться и разговаривать. 22 октября 1975 г. в возрасте 86 лет Тойнби
скончался в частной лечебнице Йорка.
Такова вкратце биография Арнольда Джозефа Тойнби. Что
касается его «интеллектуальной биографии», то здесь можно выделить множество
самых различных людей, в тот или иной период повлиявших на историка. Их имена
мы встречаем на страницах его произведений: прежде всего это мать Тойнби, сама
писавшая популярные переложения истории, Э. Гиббон, Э. Фримен, Ф. Дж. Теггарт,
А. Е. Циммерн, М. И. Ростовцев, У. X. Прескотт, сэр Льюис Намьер, античные
авторы – Геродот, Фукидид, Платон, Лукреций, Полибий. В зрелые годы наиболее
сильное влияние на Тойнби оказали произведения А. Бергсона, Августина
Блаженного, Ибн Хальдуна, Эсхила, И. В. Гёте, К. Г. Юнга… Список можно
продолжать и продолжать. Однако всегда необходимо помнить о том, что все эти
многочисленные влияния сплавились у Тойнби в собственную, глубоко оригинальную
концепцию исторического развития благодаря глубокому знанию первоисточников и
живой жизни.
* * *
Перу А. Дж. Тойнби принадлежит значительное число работ,
посвященных античной истории, истории международных отношений, истории
новейшего времени. Многие его книги почти сразу же становились бестселлерами.
Произведения Тойнби уже при жизни автора были переведены более чем на 25
языков. Однако основным трудом, снискавшим ему мировую известность, стало 12‑томное
сочинение «Исследование истории» («A Study of History»), опубликованное
издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс» в 1934‑1961 гг.
Будучи еще совсем молодым человеком, Тойнби составил
программу того, что бы он хотел осуществить в своих произведениях, и он
выполнил эту программу до конца, о чем свидетельствуют многочисленные записные
книжки, заполненные идеями и ссылками, которые спустя годы были использованы
для осуществления первоначального плана. «Он вырос в атмосфере непоколебимых
авторитетов, изучая Библию, историю, классические языки. Но поздние
произведения Бергсона потрясли его спокойный мир с силой откровения. Бергсон
ему принес впервые острое переживание ненадежности, переменчивости, но зато и
веру в творческую силу руководящих личностей и социальных слоев, поднимающих
вегетативную жизнь к высшему порядку».{2}
Это произошло накануне Первой мировой войны, и примерно
тогда же у Тойнби неожиданно родилась мысль, вызванная началом войны, о том,
что западный мир вошел в ту же самую полосу жизни, какую прошел греческий мир в
ходе Пелопоннесской войны. Это мгновенное осознание подало Тойнби идею провести
сравнение между цивилизациями.
Первая мировая война, как позднее писал сам историк,
покончила с либерально‑прогрессистскими иллюзиями и в значительной степени
стимулировала его интерес к истории человечества, взятой в целом. Если в самый
канун войны он не хотел еще признавать действительным для Европы тот тезис, что
культуры смертны, как люди, то к концу войны картина изменилась.
«Мы, цивилизации, – мы знаем теперь, что мы смертны. Мы
слыхали рассказы о лицах, бесследно исчезнувших, об империях, пошедших ко дну
со всем своим человечеством и техникой, опустившихся в непроницаемую глубь
столетий, со своими божествами и законами, со своими академиками и науками,
чистыми и прикладными, со своими грамматиками, своими словарями, своими
классиками, своими романтиками и символистами, своими критиками и критиками
критиков. Мы хорошо знаем, что вся видимая земля образована из пепла и что у
пепла есть значимость. Мы различали сквозь толщу истории призраки огромных
судов, осевших под грузом богатств и ума. Мы не умели исчислить их. Но эти
крушения, в сущности, нас не задевали. Элам, Ниневия, Вавилон были
прекрасно‑смутными именами, и полный распад их миров был для нас столь же мало
значим, как и самое их существование. Но Франция, Англия, Россия… Это
тоже можно бы счесть прекрасными именами. Лузитания – тоже прекрасное
имя. И вот мы ныне видим, что бездна истории достаточно вместительна для всех.
Мы чувствуем, что цивилизация наделена такой же хрупкостью, как жизнь.
Обстоятельства, которые могут заставить творения Китса и Бодлера разделить
участь творений Менандра, менее всего непостижимы: смотри любую газету».{3}
Это слова из статьи крупнейшего поэта Франции Поля Валери
«Кризис духа», написанной в 1919 г. и впервые опубликованной в лондонском
журнале «Атенеум». Однако сходные мысли мы находим у многих и многих
мыслителей, прошедших через опыт Первой мировой войны. «Потерянное поколение»,
«кризис духа», «закат Европы» – вот наиболее известные характеристики
послевоенного времени. «Мировая война 1914‑1918 годов, – отмечает американский
историк Мак‑Интайр, – начала ряд длившихся в течение двух поколений кризисов
колоссального масштаба, которые вывели интеллектуалов и политиков, общественных
и культурных деятелей из состояния благонравного самодовольства цивилизацией…
[Она] показала, что варварства войны могут, благодаря утонченной технологии,
быть увеличены до такой степени, что поглотят все человечество и все культуры».{4}
Тойнби назвал этот период «смутным временем», пошатнувшим идею прогресса и
доверие к человеческому разуму, которые лежали в основе как прежних,
либеральных, так и новых, марксистских взглядов на историю. «Смутное время»
продолжалось в течение 20‑30‑х гг. XX в. и подготовило ситуацию для
альтернативного взгляда на историю.
* * *
В XIX – начале XX в. в западноевропейском сознании
преобладала «аксиологическая» трактовка культур. Она делила различные способы
человеческого существования на «культурные» и «некультурные», «высшие» и
«низшие». Ярким примером подобной трактовки может служить европоцентристская
система взглядов. В русской философской традиции данная точка зрения не раз
критиковалась уже в XIX столетии – здесь можно вспомнить славянофилов и предшественников
цивилизационной модели истории Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. Однако в
XX в. ограниченность и несостоятельность «аксиологической» трактовки стала
очевидной и для многих исследователей на Западе. Многие западные исследователи
культуры в процессе критики традиционного европоцентризма пошли по пути
«неаксиологической» трактовки культур. Вполне логично они приходили к идее
уравнивания всех исторических способов существования, рассматривая их как
равноценные и эквивалентные. По мнению этих исследователей, ошибочно делить
культуры на «высшие» и «низшие», поскольку они представляют исторически
выработанные эквивалентные в своей альтернативности образы жизни. В
отечественной критической литературе за этими концепциями закрепилось название
концепций «локальных», или «эквивалентных», культур. К сторонникам подобной
точки зрения можно причислить (кроме упомянутых выше Н. Я. Данилевского и К. Н.
Леонтьева) таких мыслителей и ученых, как О. Шпенглер, Э. Майер, П. А. Сорокин,
К. Г. Доусон, Р. Бенедикт, Ф. Нортроп, Т. С. Элиот, М. Херсковиц и, наконец,
сам А. Дж. Тойнби. Критика европоцентризма у них нередко сочеталась с
циклической моделью исторического процесса.
Идея исторических циклов известна давно. Еще в древнем мире
многие философы и историки высказывали мысль о цикличности истории (например,
Аристотель, Полибий, Сыма Цянь). Подобные взгляды были продиктованы стремлением
усмотреть определенный порядок, естественный ритм, закономерность, смысл в
хаосе исторических событий по аналогии с природными циклами. В дальнейшем
аналогичные взгляды высказывали такие мыслители, как Ибн Хальдун, Никколо
Макиавелли, Джамбаттиста Вико, Шарль Фурье, Н. Я. Данилевский. Однако
господствующей в западноевропейской философии истории на протяжении XVIII‑XIX
вв. продолжала оставаться линейно‑прогрессистская схема, основанная на
европоцентристском подходе и культе прогресса. Прогресс стал верой среднего
европейца, верой, сначала заменившей традиционную христианскую религию в
Европе, а затем распространившейся по всему миру. Процесс секуляризации,
начавшийся еще в эпоху Возрождения и достигший своего апогея в XVIII в.,
неизбежно привел к утрате связи самой культуры с направлявшим ее в течение
многих столетий духом христианства. Европейская культура, утратив эту связь,
начала искать новое вдохновение для себя в идеале прогресса (или Прогресса, как
часто писали это слово начиная с XVIII в.). Вера в прогресс, в безграничные
возможности человеческого разума становится самой настоящей религией, в большей
или меньшей степени маскировавшейся за фасадом философии или науки. С
преклонением перед «Прогрессом» связан культ «Цивилизации» (одной,
уникальной и абсолютной, европейской цивилизации) и ее достижений. Как писал С.
Л. Франк, характеризуя исторические схемы, основанные на вере в прогресс, «если
присмотреться к истолкованиям истории такого рода, то не будет карикатурой
сказать, что в своем пределе их понимание истории сводится едва ли не всегда на
такое ее деление: 1) от Адама до моего дедушки – период варварства и первых
зачатков культуры; 2) от моего дедушки до меня – период подготовки великих
достижений, которые должно осуществить мое время; 3) я и задачи моего времени,
в которых завершается и окончательно осуществляется цель всемирной истории».{5}
XX век по‑своему расставил акценты как в отношении
«Цивилизации», так и в отношении «Прогресса». Как писал Пити‑рим Сорокин,
«практически все значительные философии истории нашего критического века
отвергают прогрессивнолинеарные интерпретации исторического процесса и
принимают или циклическую, творчески ритмическую, или эсхатологическую,
мессианскую форму. Помимо восстания против линеарных интерпретаций истории, эти
социальные философии демонстрируют множество других перемен в господствующих
теориях общества… Возникающие философии истории нашего критического века резко
разрывают с господствующими прогрессистскими, позитивистскими и эмпирицистскими
философиями умирающей сенситивной эры».{6} Философия истории А. Дж.
Тойнби является ярчайшей иллюстрацией сорокинских слов.
Когда Тойнби было тридцать три года, он набросал на
половинке листа концертной программы план своего будущего произведения. «Он
ясно сознавал, что его выполнение потребует, по меньшей мере, двух миллионов
слов – вдвое больше, чем понадобилось Эдуарду Гиббону для его большого, в
течение 20 лет написанного труда об упадке и гибели Римской империи».{7}
Идея о том, что можно найти множество параллелей между различными историческими
событиями и что существует «род человеческих обществ, называемых нами
“цивилизациями”»,{8} уже постепенно начинала складываться в его
сознании, когда он случайно натолкнулся на «Закат Европы» О. Шпенглера. В этой
книге, прочитанной Тойнби по‑немецки, еще до появления английского перевода, он
нашел подтверждение многим из своих собственных мыслей, существовавших в его
сознании лишь в виде намеков и смутных догадок. Однако шпенглеровская концепция
показалась Тойнби несовершенной в нескольких важных аспектах. Количество
исследуемых цивилизаций (восемь) было слишком мало, чтобы служить основанием
для верного обобщения. Весьма неудовлетворительно объяснялось, в чем причина
возникновения и гибели культур. Наконец, методу Шпенглера сильно вредили
некоторые априорные догмы, искажавшие его мысль и заставлявшие его временами
бесцеремонно пренебрегать историческими фактами. Требовался в большей степени
эмпирический подход, а также осознание того, что проблема, связанная с
объяснением происхождения и гибели цивилизаций, существует, и что решение
данной проблемы должно осуществляться в рамках верифицируемой гипотезы, которая
бы выдержала испытание фактами.
Тойнби постоянно характеризовал свой метод как по существу
«индуктивный». Безусловно, здесь сказывались многовековые традиции британского
эмпиризма. «История Англии» Д. Юма, «История упадка и разрушения Римской
империи» Э. Гиббона, «Золотая ветвь» Дж. Дж. Фрэзера – все эти многотомные,
изобилующие огромным фактическим материалом произведения являются
непосредственными предшественниками «Исследования истории». Основной целью
Тойнби было попытаться применить естественнонаучный подход к человеческим
отношениям и проверить, «насколько далеко это нас заведет». Осуществляя свою
программу, он настаивал на необходимости рассматривать в качестве основных
единиц исследования «общества в целом», а не «сколь угодно изолированные их части
наподобие национальных государств современного Запада»{9}. В отличие
от Шпенглера, Тойнби выделял в истории 21 представителя рода «цивилизаций»
(впоследствии он сократил их число до 13), не считая второстепенных, побочных и
недоразвитых. К ним он относил египетскую, андскую, древнекитайскую, минойскую,
шумерскую, майянскую, юкатанскую, мексиканскую, хеттскую, сирийскую,
вавилонскую, иранскую, арабскую, дальневосточную (основной ствол и ее
ответвление в Японии), индскую, индусскую, эллинскую, православно‑христианскую
(основной ствол и ответвление в России) и западную. Хотя и это число Тойнби
считал крайне малым для решения поставленной задачи – «объяснения и
формулировки законов». Тем не менее он приводил доводы в пользу того, что
очевидна весьма значительная степень подобия между достижениями исследуемых и
сравниваемых им обществ. В их истории ясно различимы определенные стадии,
следующие одной модели. Эта модель, по мнению Тойнби, выражена слишком явно,
чтобы ее можно было игнорировать, – стадия роста, надлома, окончательного
распада и смерти.
Одной из принципиальнейших установок Тойнби был
культурологический плюрализм, убеждение в многообразии форм социальной
организации человечества. Каждая из этих форм социальной организации имеет, по
его мысли, собственную систему ценностей, отличную от других. Об этом же
говорили Данилевский и Шпенглер, однако их биологизм в трактовке жизни обществ
в целом остался Тойнби чужд. Английский историк отвергал фатальную
предопределенность будущего, навязываемую всякому организму законом жизненного
цикла, хотя на страницах его произведений биологические аналогии встречаются не
раз.
Основные фазы исторического существования цивилизации Тойнби
описывает в терминах «философии жизни» Анри Бергсона: «возникновение» и «рост»
связаны с энергией «жизненного порыва» (elan vital), а «надлом» и «распад» – с
«истощением жизненных сил». Однако не все цивилизации проходят этот путь от
начала до конца – некоторые из них погибают, не успев расцвести
(«недоразвившиеся цивилизации»), другие останавливаются в развитии и застывают
(«задержанные цивилизации»).
После признания уникальности пути каждой цивилизации Тойнби
переходит к анализу собственно исторических факторов. Это прежде всего «закон
вызова‑и‑ответа». Человек достиг уровня цивилизации не благодаря высшему
биологическому дару или географическому окружению, но в результате «ответа» на
«вызов» в исторической ситуации особой сложности, которая побудила его
предпринять беспрецедентную до того попытку. Тойнби разделяет вызовы на две
группы – вызовы природной среды и вызовы человеческие. Группа, относящаяся к
природной среде, подразделяется на два разряда. К первому разряду принадлежат
стимулирующие воздействия природной среды, представляющие различные уровни
сложности («стимул суровых стран»), ко второму – стимулирующие воздействия
новой земли, независимо от свойственного местности характера («стимул новой
земли»). Вызовы человеческой среды Тойнби разделяет на географически внешние по
отношению к обществам, на которые воздействуют, и на географически с ними
совпадающие. Первая категория включает в себя воздействие обществ или
государств на своих соседей, когда обе стороны стартуют, первоначально занимая
разные области, вторая – воздействие одного социального «класса» на другой,
когда оба «класса» совместно занимают одну область (термин «класс» используется
здесь в самом широком смысле). При этом Тойнби проводит различие между внешним
импульсом, когда он принимает форму неожиданного удара, и сферой его действия в
форме постоянного давления. Тем самым в области вызовов человеческой среды
Тойнби выделяет три категории: «стимул внешних ударов», «стимул внешних
давлений» и «стимул внутренних ущемлений».
В случае, если «ответ» не найден, в социальном организме
возникают аномалии, которые, накапливаясь, приводят к «надлому», а затем и к
дальнейшему «распаду». Выработка адекватной реакции на изменение ситуации есть
социальная функция так называемого творческого меньшинства, которое выдвигает
новые идеи и самоотверженно проводит их в жизнь, увлекая за собой остальных.
«Все акты социального творчества являются созданием или индивидуальных творцов,
или, по большей мере, творческих меньшинств».{10}
Если в эпохи возникновения и расцвета цивилизации власть
сосредоточена в руках людей, обладающих дарованиями и заслугами (а тем самым и
моральным авторитетом) в обществе, то с течением времени происходит постепенное
ухудшение состава правящей элиты, по мере того как она превращается в замкнутую
самовоспроизводящуюся касту. Тогда на сцену истории выходит «правящее
меньшинство», опирающееся уже не на дарования, а на материальные инструменты
власти, и прежде всего на силу оружия. «Генезис, рост и поддержание каждой
цивилизации опирались на работу меньшинства из привилегированного меньшинства.
Кооперация масс дала возможность этой творческой работе принести плоды. Общая
религиозная вера была духовной связью, которая сделала возможным это
сотрудничество, несмотря на несправедливое неравенство разделения продукта
совместных усилий всех классов сообщества и несмотря на неверное использование
большой части прибавочного продукта для ведения войн и обеспечения роскоши для
привилегированного меньшинства, которое по большей части не давало обществу
взамен адекватного служения».{11} В этих условиях растет сознание
несправедливости социального строя и происходит «раскол в душе». Творческие
люди мысленно обращаются к «другой правде», механически исполняя повседневные
обязанности. С другой стороны, на противоположном полюсе скапливается
«внутренний пролетариат» – слой людей, ведущих паразитическое существование и
неспособных ни к труду, ни к защите отечества, но в любой момент готовых к
возмущению, коль скоро не будут удовлетворены их требования «хлеба и зрелищ».
На внешних границах цивилизации появляется «внешний пролетариат» – народы, не
успевшие еще сделать решающего скачка, отделяющего «примитивное общество» от
цивилизации. Строй, подточенный внутренними противоречиями, рушится под напором
варварской силы.
В пределах данной модели можно обнаружить определенные
периодические «ритмы». Когда общество находится на стадии роста, оно дает
эффективные и плодотворные ответы на брошенные ему вызовы. Когда же оно
находится на стадии упадка, то оказывается неспособным использовать возможности
и противостоять или даже преодолевать те трудности, с которыми сталкивается.
Однако ни рост, ни распад, по мнению Тойнби, не могут быть постоянными или же
непрерывными неизбежным образом. Например, в процессе распада за фазой разгрома
зачастую следует временное восстановление сил, за которым, в свою очередь,
следует новый, еще более сильный рецидив. В качестве примера Тойнби приводит
установление универсального государства в Риме при Августе. Этот период явился
временем восстановления сил эллинской цивилизации между предшествующим периодом
«смутного времени» с его восстаниями и междоусобными войнами и первыми стадиями
окончательного крушения Римской империи в III в. Тойнби утверждает, что ясно
различимые ритмы разрушения‑восстановления проявили себя в ходе распада многих
цивилизаций – китайской, шумерской, индусской. Одновременно мы сталкиваемся
здесь с явлением растущей стандартизации и утратой творческой способности – две
черты, особенно очевидные на примере упадка греко‑римского общества.
* * *
Критиками не раз отмечалось стремление Тойнби
интерпретировать историю других цивилизаций в понятиях, характерных для
эллинской культуры. Многие критиковали его за это, считая, что подобная
тенденция привела ученого к созданию искусственных схем, в которые он пытался
втиснуть все многообразие человеческой истории. Например, П. Сорокин писал по
поводу теории Тойнби и аналогичных ей: «Ни реальные культурные или социальные
системы, ни нации и страны как поля культурных систем не обладают простым и
единообразным жизненным циклом детства, зрелости, старости и смерти. Кривая
жизни особо больших культурных систем гораздо более сложна, разнообразна и
менее однородна, чем жизненный цикл организма. Кривая флуктуации с непериодическим,
постоянно меняющимся ритмом взлетов и падений, по сути, повторяющая вечные темы
с постоянными вариациями, по‑видимому, иллюстрирует течение жизни больших
культурных систем и суперсистем более корректно, чем кривая цикла организма.
Другими словами, Данилевский, Шпенглер и Тойнби видели только “три или четыре
ритмических удара” в процессе жизни цивилизаций: ритм детства–зрелости–старости
или весны– лета–осени–зимы. Между тем как в жизненном процессе культурных и
социальных систем сосуществует множество разнообразных ритмов: двухударных,
трехударных, четырехударных и еще более сложные ритмы, сначала одного вида,
затем – другого…».{12}
Поздние работы Тойнби показывают, что он был очень
чувствителен к критике подобного рода. Однако он утверждал, что для
предпринимаемого им исследования, по крайней мере, важно начать с некоего рода
модели. Его основные сомнения были по поводу того, идеально ли подходит
выбранная им модель для поставленной задачи и нельзя ли будущему ученому,
занимающемуся сравнительным исследованием цивилизаций, посоветовать лучшую,
чтобы он мог использовать для проведения своих исследований все многообразие
примеров, а не один какой‑то пример.
Защищая свою позицию, Тойнби зачастую нападал на тех, кого
называл «антиномическими историками», – сторонников догмата о том, что в
истории нельзя найти какого‑либо рода модель. Он полагал, что отрицать
существование моделей в истории – значит отрицать возможность ее написания,
поскольку модель предполагается всей системой концепций и категорий, которыми
историк должен пользоваться, если он хочет осмысленно говорить о прошлом.
Что же это за модели? В некоторых своих произведениях Тойнби
высказывает предположение, что необходимо выбрать между двумя, по сути,
противоположными точками зрения. Либо история как целое соответствует некоему
единому порядку и плану (или служит его проявлением), либо же она – «хаотичный,
беспорядочный, случайный поток», не поддающийся никакой разумной интерпретации.
В качестве примера первой точки зрения он приводит «индо‑эллинскую» концепцию
истории как «циклического движения, управляемого безличным законом»; в качестве
примера второй – «иудео‑зороастрийскую» концепцию истории как движения,
управляемого сверхъестественным интеллектом и волей. Попытка скомбинировать две
эти идеи, по‑видимому, лежит в основе собственной картины человеческого
прошлого, как она предстает в последних томах «Исследования истории». В них
явно высказывается утверждение о том, что возникновение и упадок цивилизаций
могут поддаваться телеологической интерпретации.
* * *
По мере написания «Исследования истории» Тойнби существенно
изменил свои взгляды. Если в первых томах он выступает как сторонник полной
самодостаточности и эквивалентности цивилизаций, то в последних томах он
существенно изменяет свою первоначальную точку зрения. Как отмечал английский
историк Кристофер Доусон относительно последних четырех томов «Исследования»,
«Тойнби вводит новый принцип, который указывает на фундаментальное изменение
его ранних взглядов и влечет за собой трансформацию его “Исследования истории”
от релятивистской феноменологии эквивалентных культур по образцу Шпенглера к
единой философии истории, сравнимой с той, которая была у философов‑идеалистов
XIX столетия. Это изменение… подразумевает отказ от первоначальной теории
Тойнби о философской эквивалентности цивилизаций и введение качественного
принципа, воплощенного в высших религиях, рассматриваемых в качестве
представителей высших видов общества, которые находятся в том же отношении к
цивилизациям, в каком последние – к примитивным обществам».{13},[1]
Стремясь ввести в свою концепцию элементы поступательного
развития, Тойнби усматривал прогресс человечества в духовном совершенствовании,
в религиозной эволюции от примитивных анимистических верований через
универсальные религии к единой синкретической религии будущего. С его точки
зрения, образование мировых религий – это высший продукт исторического
развития, воплощающий культурную преемственность и духовное единство вопреки
самодовлеющей замкнутости отдельных цивилизаций.
По мнению Тойнби, «стиль цивилизации – выражение ее религии…
Религия была источником жизненной силы, которая рождала цивилизации и
поддерживала их, – более чем три тысячи лет в случае фараоновского Египта, а в
Китае от подъема государства Шан до падения династии Цин в 1912 году».{14}
Две древнейшие цивилизации – египетская и шумерская – были основаны на
потенциально богатых землях долины Нила и Юго‑Восточного Ирака. Однако эти
земли надо было сделать продуктивными путем широкомасштабного дренажа и
ирригационных работ. Превращение сложной природной среды в благоприятную для
жизни должно было осуществляться организованными массами людей, работающих во
имя далеко идущих целей. Это предполагает появление руководства и
распространенного желания следовать указаниям лидеров. Социальная жизненная
энергия и гармония, сделавшие возможным подобное взаимодействие, должны были
исходить из религиозной веры, которая разделялась и лидерами, и ведомыми ими.
«Эта вера должна была быть духовной силой, сделавшей возможным совершение
основных общественных работ в сфере экономики, благодаря которым был получен
экономический прибавочный продукт».{15}
Под религией Тойнби понимал такое отношение к жизни, которое
создает возможность людям справиться с трудностями человеческого бытия, давая
духовно удовлетворительные ответы на фундаментальные вопросы о тайне Вселенной
и роли в ней человека и предлагая практические предписания относительно жизни
во Вселенной. «Каждый раз, когда народ теряет веру в свою религию, его
цивилизация подвергается местной социальной дезинтеграции и иностранной военной
атаке. Цивилизация, которая пала в результате утери веры, затем заменяется
новой цивилизацией, вдохновленной иной религией».{16} История
предоставляет нам множество примеров подобных замен: падение конфуцианской китайской
цивилизации после Опиумной войны и подъем новой китайской цивилизации, в
которой конфуцианство было заменено коммунизмом; падение фараоновской
египетской цивилизации и греко‑римской цивилизации и их замена новыми
цивилизациями, вдохновленными христианством и исламом; перерождение западно‑христианской
цивилизации в современную цивилизацию, основанную на постхристианской «религии
науки и прогресса». Примеры можно продолжать. Тойнби убежден в том, что успех
или неудача культуры глубоко связаны с религией народа. Судьба цивилизации
зависит от качества религии, на которой она базируется. Именно этим объясняется
современный кризис духа на Западе и все те глобальные проблемы, которые он за
собой повлек.
Когда западный человек благодаря систематическому применению
технологии получил владычество над природой, его вера в призвание
эксплуатировать природу «дала ему зеленый свет для насыщения своей жадности до
предела теперь широкой и постоянно возрастающей технологической способности.
Его жадность не нашла преграды в пантеистической вере, что нечеловеческая
природа священна и что она, подобно самому человеку, обладает достоинством,
которое надлежит уважать».{17}
Жители Запада, заменив в XVII столетии постхристианской
«верой в науку» религию своих предков – христианство, отбросили теизм,
сохранив, однако, унаследованную от монотеизма веру в свое право
эксплуатировать нечеловеческую природу. Если при прежней христианской установке
они верили в миссию работников Бога, получивших Божественную санкцию на
эксплуатацию природы при условии почитания Бога и признания Его. «прав
владельца», то в XVII столетии «англичане отрубили голову Богу, как и Карлу I:
они экспроприировали Вселенную и заявили себя более не работниками, а
свободными владельцами – абсолютными собственниками».{18} «Религия
науки», подобно национализму, распространилась с Запада по всему земному шару.
Несмотря на национальные и идеологические различия, большинство современных
людей являются ее адептами. Именно эти постхристианские религии западного мира
периода Нового времени привели человечество «к его настоящему несчастью».
Какой же выход видит Тойнби из сложившейся ситуации?
Необходимо, считает он, в срочном порядке восстановить стабильность в
отношениях между человеком и нечеловеческой природой, опрокинутые промышленной
революцией. В основе технологической и экономической революций на Западе лежала
революция религиозная, состоявшая, по сути, в замене пантеизма монотеизмом.
Теперь современный человек должен вновь обрести первоначальное уважение к
достоинству нечеловеческой природы. Этому может способствовать «правильная
религия». «Правильной» Тойнби называет ту религию, которая учит уважать
достоинство и святость всей природы, в отличие от «неправильной», которая
покровительствует человеческой алчности за счет нечеловеческой природы.
Решение глобальных проблем современного человечества Тойнби
видел в пантеизме, в частности, он находил свой идеал «правильной религии» в
такой разновидности пантеизма, как синтоизм. Однако синтоизм, как справедливо
отмечал собеседник Тойнби буддийский религиозный лидер ДайсакуИкеда, имеет два
лица: эксплицитно на поверхности присутствует тенденция к примирению с
природой, имплицитной же тенденцией является изоляция и исключительность.
Возможно, эти тенденции присущи и другим пантеистическим религиозным традициям.
Ища панацею от болезней современного человечества в Японии,
Тойнби парадоксальным образом оказывается близоруким по отношению к
христианству. Он видит в христианском монотеизме причину фатальных изменений,
приведших к современной «религии науки» и к насилию человека над природой.
Однако он приписывает христианству в целом те крайние выводы, которые были
сделаны его западной ветвью в результате отклонения от первоначального учения.
Христианству изначально был чужд как механический антропоцентризм, то есть
радикальное отчуждение человека от природы (которое на Западе привело к
потребительскому отношению к ней), так и предлагавшийся в XX в. в качестве
альтернативы космоцентризм, уравнивающий человека с любым явлением природного
космоса. В отношении природы для ортодоксального христианства характерны два
основных мотива. Во‑первых, природа воспринимается как дар Божий, что исключает
бездушное насилие над ней и хищническую эксплуатацию ее богатств. А во‑вторых,
присутствует сознание уничиженного состояния тварного мира после грехопадения,
что позволяет человеку бороться с мировым хаосом как с неистинным проявлением
природного бытия и стремиться к его преображению. Еще апостол Павел писал:
«Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим.
8, 19‑21). Таким образом, сотериологический аспект христианства и возможность
«срединного пути» полностью ускользают от внимания историка.
Вообще тема «Тойнби и христианство» требует дополнительного
освещения. На первый взгляд может показаться, что телеологическая интерпретация
истории в позднем творчестве Тойнби сближает его с христианской историософией.
Однако есть ряд существенных пунктов, в которых он расходится с христианским
пониманием истории.
Главная особенность христианства как исторической религии
заключается, по мнению Тойнби, в отношении к страданию. Центральный догмат
христианства – догмат о том, что Божественная милость и Божественное
сострадание подвигли Бога ради спасения Его созданий добровольно «лишиться»
Своей силы и подвергнуться тому же страданию, которое претерпевают Его
создания, – делает христианство исторической религией par excellence.
«Отличительный смысл, который христианство придало иудейскому пониманию природы
Бога и характеру Его отношения к людям, заключается в провозглашении, что Бог
есть любовь, а не только могущество, и что эта же Божественная любовь
проявляется в особой встрече человека с Богом в форме воплощения и распятия
(страстей) Христовых…».{19}
Но Боговоплощение служит для нас не только свидетельством
тому, что этот мир имеет внутреннюю и абсолютную ценность как арена страдания,
в котором Бог показал Свою любовь к Своим созданиям. Оно одновременно стало
событием, придавшим истории смысл, указавшим цель и направление.
Это полностью изменило наше понимание жизни, освободив от власти циклических
ритмов, осуществлявшихся во Вселенной, от ритмов, с которыми мы сталкиваемся в
нашей жизни.
Антропоцентрический взгляд на Вселенную, зародившийся в
эпоху Возрождения и все более набиравший силу по мере развития науки и техники
в Новое время, этой же самой наукой и был опровергнут. Современный человек,
подобно Паскалю, приходит в ужас от одной только мысли о бесконечных черных и
ледяных просторах Вселенной, открывающихся ему в телескоп и стирающих до
незначимой величины его жизнь. Однако «Боговоплощение освобождает нас от этих
чуждых и демонических сил, убеждая, что благодаря страданию и смерти Бога на
этой бесконечно малой песчинке (мироздания) вся физическая Вселенная
теоцентрична, ибо если Бог есть любовь, то человек может чувствовать себя
везде, где действует власть Бога, как у себя дома».{20}
Но, пожалуй, наиболее важным в христианстве является для
Тойнби тот факт, что страдания Христа придали смысл и человеческим страданиям,
примиряя нас с трагичностью нашей земной жизни, поскольку они «внушают нам, что
эта трагичность – не бессмысленное и бесцельное зло, как то утверждалось Буддой
и Эпикуром, и не неотвратимое наказание за глубоко укоренившийся грех, как то
объясняется нехристианскими школами иудейской теологии. Свет страстей Христовых
открыл нам, что страдание необходимо постольку, поскольку оно есть необходимое
средство спасения и созидания в условиях временной и краткой жизни на Земле.
Само по себе страдание ни зло, ни добро, ни бессмысленно, ни осмысленно. Оно
есть путь, ведущий к смерти, а его цель – дать человеку возможность участвовать
в работе Христовой, реализуя тем самым возможность стать сынами Божьими,
братьями во Христе».{21}
Критики нередко приписывали Тойнби полное принятие (особенно
в произведениях последних лет) христианской историософии, считая его чуть ли не
возродителем идей Августина Блаженного. Это заблуждение основывалось на частом
цитировании историком Священного Писания и постоянном обращении к событиям
библейской истории. Однако в концепции Тойнби есть ряд существенных расхождений
с христианской (и в частности с августиновской) историософией. Суть этих
расхождений была в свое время достаточно подробно изложена профессором Зингером
в его исследовании, посвященном выдающемуся британскому историку.{22}
Прежде всего, в своих поздних произведениях Тойнби, по сути,
отрицает уникальность христианства, хотя и признает его одной из высших
религий. Он настаивает на том, что поскольку христианство – одна из
высших религий, то ей есть чему поучиться у других религий, принадлежащих к той
же группе. Если некогда Тойнби считал, что христианство заключает в себе
уникальное откровение о единой, неразделенной истине, то со временем он начал
думать, что все исторические религии и философские системы – лишь частичные
откровения об истине, и что у буддизма, индуизма, ислама и иудаизма есть что
сказать христианству. Эта позиция очевидным образом противоречит как
библейскому откровению, так и его августиновской интерпретации.
В сущности, по мере написания «Исследования истории» Тойнби
постепенно менял свою позицию, и первые шесть томов гораздо выше оценивают
христианство, чем последние, которые написаны, скорее, с позиций буддизма и
индуизма. Во многих своих поздних работах он прямо склоняется к буддизму
махаянского толка.
Хотя Тойнби действительно часто ссылается на Ветхий и Новый
Заветы и оценивает их высоко, он далек от того, чтобы относиться к ним как к
богодухновенному и непогрешимому Слову Божьему. Священное Писание для него в
такой же степени откровение Бога, как «священные писания» других высших
религий. Тойнби не рассматривает Библию как единственное надежное откровение,
данное о Себе Богом человеку. Библия для него – лишь один из способов поиска
человеком Бога. Отсюда и часто встречающееся на страницах «Исследования
истории» отношение к Библии как к собранию «сирийских» мифов и фольклора наряду
со значительными и полезными историческими данными.
Неизбежным образом подобное отношение к христианству и
Священному Писанию в сильной степени повлияло на религиозную мысль Тойнби. По
сути, он отрицает библейское учение о всемогуществе Бога, креационизм и
ортодоксальный взгляд на первородный грех. На место этих основополагающих
ортодоксальных положений он ставит эволюционную концепцию реальности в целом и
человека в частности.
Таким образом, отрицая всеобщую греховность человечества,
Тойнби не удается понять библейское учение об искуплении. Христос для него –
лишь благородная личность, изрекающая возвышенные поучения. Идея же об
искуплении грехов человечества Крестной Смертью на Голгофе остается совершенно
непонятой. Весь смысл христианства в его сотериологических аспектах полностью
ускользнул от внимания историка. Тойнби проповедует обычное либеральное
восхищение Христом как Великим Учителем или одним из Великих Учителей, но
совершенно отрицает, что Он – Сын Божий, пошедший на Крест ради спасения людей.
Крест для Тойнби – величественный символ страданий Христа, а
Сам Христос становится примером «ухода‑и‑возврата» в его исторической схеме.
Однако здесь нет места идее телесного воскресения в библейском смысле слова, и
возвращение Христа из могилы предстает лишь как приход Его духа ученикам вместе
с передавшимся им воодушевлением, сделавшим их способными распространять учение
своего Учителя.
Подобным же образом Тойнби часто упоминает Церковь и
использует это слово в качестве одного из основных элементов своей исторической
схемы. Но опять‑таки его концепция Церкви весьма далека от библейского взгляда
на данный вопрос. Христианская Церковь для Тойнби – не созданный Богом,
освященный и непрерывный во времени организм, включающий в себя избранных всех
эпох, но, скорее, человеческий институт, возникший из лона эллинской
цивилизации и послуживший возникновению цивилизации западной. Очевидным
образом, тойнбианский взгляд на Церковь далек и от того, чему учил Августин
Блаженный в своей книге «О Граде Божием». Для Тойнби Церковь (или, как он чаще
пишет, церковь, со строчной буквы), скорее, институт, необходимый для
возникновения и сохранения цивилизаций, а не Царство Божие на земле в
библейском смысле.
Наконец, Тойнби не разделяет библейскую эсхатологию.
Цивилизации приходят и уходят, рождаются и умирают в соответствии с его теорией
«вызова‑и‑ответа», и поскольку падение цивилизации может привести (а возможно,
и приведет) к катастрофическим последствиям, то история не имеет цели. История
не имеет конечной цели, и, следовательно, исторический процесс не может
закончиться вторым пришествием Иисуса Христа в силе и славе.
Для Тойнби, как и для Гегеля, Маркса, Шпенглера и
сторонников концепции «истории как процесса» в целом, конечный смысл истории
может быть найден только в рамках самого исторического процесса. Хотя Тойнби
усиленно пытался избежать тех ловушек, которые встречались на пути Гегеля,
Маркса и Шпенглера, его попытки закончились в конечном итоге неудачей,
поскольку он отказывался видеть, что лишь один всемогущий Бог способен придать
смысл Своему созданию и всей истории, Творцом которой является. Всякая попытка найти
смысл в истории до того, как она завершилась, заканчивается неудачей.
* * *
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, каким
Тойнби видел будущее всего человечества. В своих поздних работах историк все
чаще обращался к современным социальным проблемам, пытаясь найти выход из
глубоких внутренних противоречий западной цивилизации и конфликта между Западом
и странами «третьего мира». По мысли Тойнби, необходимы духовное обновление,
отказ от абсолютизации материальных ценностей и меркантилистской философии,
возрождение гармонии между человеком и природой. На экономическом уровне
основным требованием должно быть равенство и ограничение человеческой алчности.
Ради сохранения человеческого достоинства Тойнби считает неизбежным принятие
социалистического способа управления экономическими делами человечества.
Однако, имея в виду опыт построения социализма в России, Китае и некоторых
других странах мира и те крайности, которые были связаны с подавлением духовной
свободы личности в этих странах, Тойнби говорит о том, что в будущем этого
необходимо во что бы то ни стало избегать. В его картине будущего содержится
ответ как сторонникам насильственного построения «земного рая», так и
современным глобалистам, пытающимся навязать всему миру единую систему ценностей.
«Моя надежда на двадцать первый век в том, что он увидит установление
глобального гуманистического общества, которое будет социалистическим на
экономическом уровне и свободомыслящим на духовном уровне. Экономическая
свобода для одного человека или общества часто влечет за собой порабощение для
других, но у духовной свободы нет таких отрицательных черт. Каждый может быть
духовно свободен, не покушаясь на свободу другого. Само собой, широко
распространившаяся духовная свобода означает взаимное обогащение, а не
обеднение».{23}
Будущее покажет, насколько справедливы прогнозы профессора
Тойнби.и насколько хорошим он был пророком. Нам же остается, руководствуясь
начертанной им лоцией, стараться вывести к берегу тонущий корабль современной
цивилизации, на котором, как на Ноевом ковчеге, и западная, и русская, и
исламская, и китайская цивилизации неразрывно связаны одной общей судьбой, и
всегда помнить о том, с какой легкостью все они могут пополнить ряды уже
навсегда бесследно исчезнувших цивилизаций Шумера, Египта, Вавилона и многих,
многих других.
Наконец, несколько слов о принципах издания. В основу
настоящего трехтомника положен перевод сокращенной версии фундаментального
труда А. Дж. Тойнби, выполненной Д. Ч. Сомервеллом. Все примечания, отмеченные
астериксом, принадлежат Тойнби и Сомервеллу и помещены внизу страницы. Все
примечания переводчика, отмеченные арабскими цифрами, помещены в конце каждой
части. Таблицы, иллюстрирующие концепцию Тойнби, находятся в конце II тома.
Кожурин
К. Я., кандидат философских наук
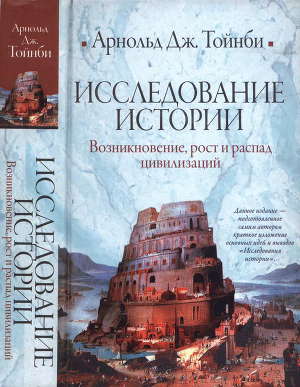
I.
Введение
I.
Единица исторического исследования
Историки, как правило, склонны иллюстрировать, а не
исправлять представления об обществах, внутри которых они живут и работают, и
развитие в последние несколько столетий (а в особенности в последних нескольких
поколениях) претендующего на самодостаточность национального государства
заставило историков выбирать именно нации в качестве обычных полей
исторического исследования. Но ни одна нация или же национальное государство
Европы не может продемонстрировать историю, которую можно было бы объяснить из
нее самой. Если бы какое‑либо государство и могло это сделать, то это была бы
Великобритания. В самом деле, если окажется, что Великобритания (или в более
ранние периоды – Англия) не составляет сама по себе умопостигаемого поля
исторического исследования, то мы можем с полной уверенностью сделать вывод,
что ни одно другое современное национальное государство Европы не пройдет
испытание.
Является ли английская история понятной, если рассматривать
ее саму по себе? Можем ли мы абстрагировать внутреннюю историю Англии от ее
внешних отношений? Если можем, то не обнаружим ли мы, что эти остаточные
внешние отношения имеют второстепенное значение? И анализируя их, в свою
очередь, не обнаружим ли мы, что иностранные влияния на Англию незначительны по
сравнению с английскими влияниями на другие части света? Если на все эти
вопросы будут получены утвердительные ответы, то у нас могут быть все основания
сделать вывод, что хотя и невозможно понять другие истории независимо от
Англии, но возможно в большей или меньшей степени понять английскую историю
независимо от других частей света. Лучший способ приблизиться к решению данных
вопросов – это обратить нашу мысль назад по ходу английской истории и вспомнить
основные ее главы. Перечислив их в обратном порядке, мы можем получить следующие:
а) утверждение индустриальной системы экономики (с последней
четверти XVIII столетия)[2];
б) установление ответственного парламентского правления (с
последней четверти XVII столетия)[3];
в) заокеанская экспансия (начавшаяся в третьей четверти XVI
столетия с пиратства и постепенного развития внешней торговли по всему миру,
приобретения тропических колоний и основания новых англоязычных обществ в
заморских странах с умеренным климатом)[4];
г) Реформация (со второй четверти XVI столетия)[5];
д) Ренессанс, включая политические и экономические аспекты
этого движения наравне с художественными и интеллектуальными (с последней
четверти XV столетия)[6];
е) установление феодальной системы (с XI столетия)[7];
ж) обращение англичан из так называемой религии героического
века в западное христианство (с последних лет VI в.)[8].
Этот беглый взгляд в прошлое из сегодняшнего дня по ходу
английской истории показывает, что чем глубже мы смотрим назад, тем менее
очевидна самодостаточность или изоляция. Принятие христианства, ставшее в
действительности началом всех событий английской истории, – прямой антитезис
этого утверждения; оно явилось актом, который соединил полдюжины обособленных
варварских общин во имя общего блага нарождающегося западного общества. Что
касается феодальной системы, то Виноградов[9] блестяще доказал, что семена ее пустили ростки
на английской почве еще до нормандского завоевания. Однако даже если это и так,
данный рост был стимулирован внешним фактором – датскими вторжениями; эти
вторжения были частью скандинавского Völkerwanderung[10],[11] , одновременно стимулировавшего подобный
рост и во Франции; нормандское же завоевание, несомненно, довело урожай до
быстрого созревания. Что касается Ренессанса, то считается общепринятым, что
как в культурном, так и в политическом аспекте он получил жизненное дыхание из
Северной Италии. Если бы в Северной Италии гуманизм, абсолютизм и политическое
равновесие не культивировались в миниатюре, подобно рассаде в защищенном
парнике, в течение двух столетий, выпавших приблизительно на период между 1275
и 1475 гг., то их никогда нельзя было бы высадить севернее Альп и после 1475 г.
Реформация тоже не была специфически английским феноменом[12]. Она
представляет собой общее для Севера Западной Европы движение за освобождение от
влияния Юга, где Западное Средиземноморье сосредоточило взгляд на умерших и
ушедших мирах[13]. Англия не
брала на себя инициативу ни в деле Реформации, ни в соревновании европейских
наций атлантического побережья за обладание новыми заморскими странами.
Сравнительно поздно приняв участие в соревновании, она завоевала свой приз в
ряде битв с теми силами, которые пришли на поле до нее.
Остается рассмотреть две последние главы: возникновение
системы парламентской и системы индустриальной – институтов, обычно
рассматриваемых в качестве развившихся исключительно на английской почве и
впоследствии распространившихся из Англии на другие части света. Но среди
авторитетных лиц не существует всецелой поддержки этой точки зрения. Касательно
парламентской системы лорд Актон[14] говорит: «Всеобщая история естественным
образом зависит от действия тех сил, которые не являются национальными, но
происходят от более общих причин. Возвышение в новое время королевской власти
во Франции является частью подобного же движения в Англии. Бурбоны и Стюарты[15] подчинялись одному и тому же закону, хотя и с
разными результатами». Другими словами, парламентская система, территориально появившаяся
в Англии, была порождением силы, характерной не только там, а действовавшей
одновременно и в Англии, и во Франции.
По поводу же происхождения и промышленной революции в Англии
нельзя процитировать мнения более авторитетного, чем мнение мистера и миссис
Хаммонд. В предисловии к своей книге «Происхождение современной промышленности»
они высказывают точку зрения, согласно которой фактором, лучше всего
объясняющим возникновение промышленной революции именно в Англии, а не в какой‑либо
другой стране, является общее положение Англии в XVIII столетии. Это и ее
географическое положение относительно Атлантического океана, и положение
относительно политического равновесия сил в Европе. Тем самым оказывается, что
британская национальная история никогда не была и, почти с уверенностью можно
сказать, никогда уже не будет изолированным «умопостигаемым полем исторического
исследования». Если это справедливо относительно Великобритании, то,
несомненно, a fortiori[16] это должно быть справедливо относительно
любого другого национального государства.
Наш краткий обзор английской истории, хотя его результаты и
были отрицательными, дал нам ключ к разгадке. Те главы, что уловил наш взгляд
при беглом осмотре английской истории, были реальными главами в том или ином
повествовании. Однако данное повествование оказалось историей некоего общества,
в котором Великобритания была лишь частью, а данный опыт – опытом, в котором,
кроме Великобритании, приняли участие и другие нации. В действительности
«умопостигаемым полем исследования» оказывается общество, состоящее из
множества таких общностей, как Великобритания, – не только самой
Великобритании, но также и Франции, Испании, Нидерландов, Скандинавских стран и
так далее. Процитированный отрывок из Актона как раз и показывает отношение
между этими частями и тем целым.
Действующие силы не являются по своему происхождению
национальными, но происходят из более общих причин, влияющих на каждую из
частей, и их частичное влияние останется непонятным до тех пор, пока всесторонний
взгляд не рассмотрит их влияние на общество в целом. На различные части одна и
та же общая причина воздействует по‑разному, поскольку каждая из них по‑разному
противодействует и содействует тем силам, которые приводит в движение эта же
самая причина. Мы можем сказать, что общество в процессе своей жизни
сталкивается с непрерывным рядом проблем, которые каждому его члену приходится
решать наилучшим образом. Любая из этих проблем представляет собой вызов –
суровое испытание, и, проходя через ряд подобных суровых испытаний, члены
общества постепенно дифференцируются. Невозможно полностью оценить значение
поведения любого отдельного члена в частном испытании, не принимая в расчет
сходное или несходное поведение его товарищей и не рассматривая последующих
испытаний в качестве серии событий в жизни всего общества.
Этот метод интерпретации исторических фактов, может быть,
станет яснее на конкретном примере, который можно заимствовать из истории
городов‑государств Древней Греции четырех столетий, пришедшихся на 725‑325 гг.
до н. э.
Вскоре после начала данного периода общество, членами
которого были все эти многочисленные государства, столкнулось с проблемой
нехватки средств существования для населения – средств, которых эллинским
народам того времени, по‑видимому, почти полностью хватало благодаря
выращиванию на своих землях различной сельскохозяйственной продукции,
предназначенной для внутреннего потребления. Когда наступил кризис, различные
государства справлялись с ним по‑разному.
Некоторые, подобно Коринфу и Халкиде, избавлялись от лишнего
населения, захватывая и колонизируя пригодные для сельского хозяйства земли за
морем – в Сицилии, Южной Италии, Фракии и других местах[17]. Греческие
колонии, основанные таким образом, просто расширяли географическую сферу
эллинского общества, не меняя его характера. С другой стороны, некоторые
государства нашли решения, повлекшие за собой изменение их образа жизни.
Например, Спарта удовлетворяла земельный голод своих
граждан, нападая на своих ближайших греческих соседей и завоевывая их.
Результатом явилось то, что Спарта приобретала дополнительные земли лишь ценой
упорных и частых войн с соседними народами своего же «калибра». Чтобы
соответствовать этому положению, спартанские государственные деятели вынуждены
были военизировать спартанскую жизнь снизу доверху, что они и сделали благодаря
укреплению и приспособлению некоторых примитивных социальных институтов, общих
для множества греческих общин, в тот момент, когда эти институты – как в
Спарте, так и в других местах – были близки к исчезновению.
Афины отреагировали на проблему перенаселения иным образом.
Они приспособили свою сельскохозяйственную продукцию для экспорта, начали также
производить изделия на экспорт и затем развивать свои политические институты
таким образом, чтобы предоставить законную долю политической власти новым
классам, вызванным к жизни этими экономическими новшествами. Другими словами,
афинские государственные деятели предотвратили социальную революцию, постепенно
помогая революции экономической и политической; и открыв это решение общей
проблемы, затронувшей и их, они случайно обнаружили новый путь к успеху для
всего эллинского общества. Это и имел в виду Перикл[18], когда во
время финансовых неудач своего города заявил, что Афины были «школой Эллады».
Под этим углом зрения, приняв за поле исследования не Афины
или Спарту, Коринф или Халкиду, но эллинское общество в целом, мы сумеем понять
как значение истории отдельных общин в период с 725 по 325 г. до н. э., так и
значение перехода от данного периода к следующему за ним. На поставленные
вопросы не может быть найдено ясного ответа до тех пор, пока мы будем искать
умопостигаемое поле исследования в халкидской, коринфской, спартанской или
афинской историях, рассматривая их сами по себе. С этой точки зрения возможно
лишь сделать наблюдение, что халкидская и коринфская истории были в некотором
смысле обычными, в то время как спартанская и афинская отклонились от нормы в
различных направлениях. Раньше невозможно было объяснить, каким образом это
отклонение произошло, и историки сводили все объяснения к тому, что спартанцы и
афиняне отделились от других греков якобы благодаря тому, что обладали особыми
врожденными качествами уже на заре эллинской истории. Подобное объяснение
развития Спарты и Афин было равносильно тому утверждению, что у них вообще не
было никакого развития и что два этих греческих народа были столь же
своеобразны в начале своей истории, как и в ее конце. Однако эта гипотеза
противоречит установленным фактам. Например, в отношении Спарты раскопки,
проведенные Британской археологической школой в Афинах, предоставили
поразительные доказательства того, что вплоть до середины VI в. до н. э.
спартанская жизнь не сильно отличалась от жизни других греческих обществ.
Характерные особенности Афин, переданные ими всему эллинскому миру в так
называемый эллинистический период[19], – в
противоположность Спарте, чей особый путь оказался тупиковым, – также были
особенностями благоприобретенными, происхождение которых можно понять лишь с
точки зрения общего. Подобным же образом обстоят дела и с процессом
дифференциации между Венецией, Миланом, Генуей и другими городами Северной
Италии в так называемые средние века и с процессом дифференциации между
Францией, Испанией, Нидерландами, Великобританией и другими национальными
государствами Запада в более близкое нам время. Чтобы понять части, мы должны
сначала сосредоточить наше внимание на целом, поскольку это целое есть поле
исследования, умопостигаемое само по себе. Но что представляет собой это
«целое», образующее умопостигаемое поле исследования, и как мы определим его
пространственные и временные границы? Давайте снова обратимся к нашему краткому
изложению основных глав английской истории и посмотрим, какое более обширное
целое составляет то умопостигаемое поле, частью которого является английская
история.
Если мы начнем с последней нашей главы – утверждения
индустриальной системы, то обнаружим, что географическая протяженность
умопостигаемого поля исследования, в которое она входит, – весь мир. Чтобы
объяснить промышленную революцию в Англии, мы должны принять в расчет
экономические условия не только в Западной Европе, но и в тропической Африке,
Америке, России, Индии и на Дальнем Востоке. Однако, когда мы обратимся к
парламентской системе и перейдем, так сказать, из экономического плана в
политический, наш горизонт сузится. «Закон», которому (по выражению лорда
Актона) «подчинялись Бурбоны и Стюарты» во Франции и в Англии, не действовал по
отношению к Романовым в России, Османам в Турции, Тимуридам в Индостане,
маньчжурской династии в Китае или династии Токугава в Японии[20]. Политическую
историю всех этих стран нельзя объяснить в подобных терминах. Здесь мы подходим
к границе. Действие «закона», которому «подчинялись Бурбоны и Стюарты»,
простиралось на другие страны Западной Европы и на новые общности, основанные
за морем западноевропейскими колонистами, но не далее западных границ России и
Турции. Страны восточнее этих границ подчинялись в то время иным политическим
законам, имевшим иные последствия.
Если мы обратимся к более ранним в нашем списке главам
английской истории, то обнаружим, что заокеанская экспансия ограничивалась не
просто Западной Европой, но почти всецело теми странами, побережья которых
омывались Атлантическим океаном. При изучении истории Реформации и Ренессанса
мы можем, ничего не теряя, игнорировать религиозное и культурное развитие
России и Турции. Феодальная система Западной Европы не была связана причинной
зависимостью с теми феодальными феноменами, которые можно найти в современных
ей византийской и исламской общинах.
Наконец, обращение в западное христианство сделало англичан
членами одного общества, которое исключало возможность быть членом других.
Вплоть до собора в Уитби в 664 г. англичане могли обратиться в «дальнезападное
христианство» «кельтской окраины». Если бы миссия Августина в конечном итоге
закончилась неудачей, то англичане могли бы присоединиться к валлийцам и
ирландцам, основав новую христианскую церковь вне общности с Римом[21]– такой же
настоящий alter orbis[22],
как и несторианский мир на восточной окраине христианского мира. Позднее, когда
арабские мусульмане появились на Атлантическом побережье[23], эти
дальнезападные христиане Британских островов вообще могли утратить всякое
общение со своими единоверцами на Европейском континенте, как это произошло с
христианами Абиссинии или Центральной Азии. Предположительно, они могли бы
обратиться и в ислам, как сделали многие монофизиты и несториане[24], когда Средний
Восток оказался под властью арабов. Эти предполагаемые альтернативы можно
отклонить как фантастические, но подобные предположения служат нам напоминанием
о том, что принятие христианства в 597 г. соединило нас с западно‑христианским
миром, однако не со всем человечеством, одновременно проведя жесткую
разделительную линию между нами как западными христианами и сторонниками других
религиозных общин.
Этот повторный обзор глав английской истории дал нам
возможность определить в различные периоды пространственные границы того
общества, которое включает в себя Великобританию и является относительно нее
«умопостигаемым полем исторического исследования». Эти границы мы должны будем
различать в отдельных планах социальной жизни – экономическом, политическом и
культурном, поскольку уже сейчас очевидно, что пределы распространения этого
общества будут заметно отличаться в зависимости от того плана, на котором мы
сосредоточим свое внимание. В настоящее время в экономическом плане общество,
которое включает в себя Великобританию, несомненно, пространственно совпадает
со всей обитаемой и доступной для людей поверхностью Земли. В политическом
плане всемирный характер этого общества в настоящее время почти столь же
очевиден. Однако, когда мы перейдем к плану культурному, нынешнее
географическое распространение общества, к которому принадлежит Великобритания,
покажется гораздо более узким. По существу, оно ограничено странами Западной
Европы, Америки и южных морей, населенными католическими и протестантскими
народами. Несмотря на некоторые экзотические влияния, оказанные на данное
общество такими элементами культуры, как русская литература, китайская живопись
и индийская религия, и на гораздо более мощное культурное влияние, оказанное
нашим собственным обществом на другие – такие, как общества православных и
восточных христиан, мусульман, индусов и народов Дальнего Востока, в силе
остается то, что все они находятся за пределами того культурного мира, к
которому принадлежим мы, [представители западного мира].
Если мы сделаем дальнейшие исторические срезы в периоды
более ранние, то обнаружим, что во всех трех планах географические границы
общества, исследуемого нами, постепенно сужаются. В срезе, сделанном около 1675
г., это сужение хотя, возможно, является и не слишком существенным в плане
экономическом (по крайней мере, если мы рассмотрим лишь распространение
торговли и игнорируем ее объем и содержание), границы политического плана
сужаются до того, что почти совпадают с сегодняшними культурными границами. В
срезе, сделанном около 1475 г., заокеанские части области распространения
исчезнут одновременно во всех трех планах и даже экономические границы
сократятся до того, что почти совпадут с культурными, включающими в себя теперь
лишь Западную и Центральную Европу, за исключением быстро распространяющейся
цепи поселений на восточном побережье Средиземного моря. В первоначальном
срезе, сделанном около 775 г., границы сузятся еще больше во всех трех планах.
В это время область распространения нашего общества сокращается почти до того,
что являлось тогда владениями Карла Великого вместе с английскими
«государствами‑наследниками» Римской империи в Британии. Вне этих пределов
почти весь Иберийский полуостров принадлежал в это время к владениям арабо‑мусульманского
Халифата, Северная и Северо‑Восточная Европа находилась в руках некрещеных
варваров, северо‑западные окраины Британских островов удерживали дальнезападные
христиане, а в Южной Италии господствовали византийцы.
Давайте назовем это общество, пространственные границы
которого мы исследовали, западно‑христианским миром. Как только мы
сосредоточимся на мысленном образе этого общества, подыскивая для него имя,
рядом с ним возникнут образы и имена его двойников в современном мире, особенно
если мы сосредоточим наше внимание на культурном плане, в котором в сегодняшнем
мире можем безошибочно различить по крайней мере четыре других живых общества
того же вида, что и наше:
I. Православно‑христианское общество Юго‑Восточной Европы и
России.
II. Исламское общество с центром в аридной зоне[25], которая
протянулась через Северную Африку и Средний Восток от Атлантики до внешней
стороны Великой Китайской стены.
III. Индусское общество в тропической субконтинентальной
Индии.
IV. Дальневосточное общество в субтропическом и умеренном
регионах между аридной зоной и Тихим океаном.
При более близком наблюдении мы сможем также разглядеть две
группы, производящие впечатление окаменевших остатков подобных, но уже угасших
обществ, а именно:
I. Монофизитские христиане Армении, Месопотамии, Египта и
Абиссинии, несторианские христиане Курдистана и бывшие несториане Малабара
вместе с евреями и парсами[26].
II. Ламаистские буддисты махаяны Тибета и Монголии и
буддисты хинаяны Цейлона, Бирмы, Сиама и Камбоджи[27] вместе с индийскими джайнами[28].
Интересно отметить: когда мы обратимся к срезу 775 г., то
обнаружим приблизительно столько же и те же общества на карте мира, что и в
настоящее время. По существу, общества данного вида остались на карте мира
величиной постоянной, начиная с первого появления западного общества. В борьбе
за существование Запад поставил своих современников в безвыходное положение,
поймав в сети экономической и политической власти, но он пока еще не
«разоружил» их, лишив присущих им культур. Как бы жестоко не были подавлены,
они еще могут считать свои души своими собственными.
Вывод, который мы можем сделать из этого аргумента в данный
момент, состоит в том, что нам следует проводить резкое различие между
отношениями двух видов: отношениями общин внутри одного общества и различных
обществ друг с другом.
А теперь, выяснив протяженность западного общества в
пространстве, мы должны рассмотреть его протяженность во времени. Здесь мы
сразу же оказываемся перед фактом, что никоим образом не можем знать его
будущее – ограничение, значительно уменьшающее количество света, которое
исследование этого отдельного или любого из сохранившихся в настоящее время
обществ может пролить на природу типа, к которому эти общества принадлежат. Мы
должны удовлетвориться лишь выяснением начал западного общества.
Когда владения Карла Великого были поделены между тремя его
внуками по Верденскому договору 843 г.[29], Лотарь как
старший выдвинул свои претензии на обладание двумя столицами своего деда –
Ахеном и Римом. Чтобы обе столицы были связаны между собой непрерывной полосой
земли, Лотарь приписал к своим владениям ту часть, что разбросана по Западной
Европе от устьев Тибра и По до устья Рейна. Удел Лотаря обычно рассматривают
как один из курьезов исторической географии. Тем не менее, трое братьев
Каролингов были правы, полагая, что этот удел является зоной особой важности в
западном мире. Какими бы ни были очертания этой зоны, за ней стояло великое
прошлое.
И Лотарь, и его дед правили от Ахена до Рима под титулом
римских императоров, и линия, протянувшаяся от Рима через Альпы до Ахена (и
далее от Ахена через Ламанш до Римского вала[30]), была некогда
одним из основных оборонительных валов тогда уже угасшей Римской империи.
Проведя линию коммуникаций северо‑западнее Рима через Альпы, установив военную
границу на левом берегу Рейна и обезопасив левый фланг этой границы
присоединением Южной Британии, римляне отсекли западную оконечность
континентальной Трансальпийской Европы и присоединили ее к империи, которая, за
исключением данной стороны света, по существу, ограничивалась бассейном Средиземного
моря. Таким образом, линия, проведенная в Лотарингии, входила в географическую
структуру Римской империи до времени Лотаря точно так же, как она вошла в
структуру западного общества после него, однако функции этой линии для Римской
империи и сменившего ее западного общества были неодинаковыми. В Римской
империи она служила границей. В западном обществе она была исходной линией
дальнейшего распространения по обе ее стороны во всех направлениях. Во время
глубокого сна, имевшего место между падением Римской империи и постепенным
появлением западного общества из хаоса (приблизительно 375‑675 гг.[31]), из бока
старого общества было взято ребро и положено в основу позвоночника нового
создания того же самого вида.
Теперь становится ясным, что, прослеживая жизнь западного
общества в обратном направлении после 775 г., мы начинаем замечать, что оно
предстает перед нами в границах чего‑то отличного от самого себя, – в границах
Римской империи и того общества, к которому эта империя принадлежала. Можно
также показать, что любой из элементов западной истории, восходящий к истории
этого более раннего общества, может иметь в двух различных сообществах
совершенно разные функции.
Удел Лотаря стал отправной точкой западного общества
благодаря тому, что церковь, продвигаясь по направлению к римской границе,
столкнулась здесь с варварами, оказывавшими давление на границу со стороны
«ничейных земель», и в конце концов дала рождение новому обществу.
Следовательно, историк западного общества, прослеживая его корни в прошлом с
этой точки зрения, должен будет сосредоточить свое внимание на истории церкви и
истории варваров и, возможно, обнаружит, что обе эти истории восходят к
экономической, социальной и политической революциям последних двух веков до н.
э., когда греко‑римское общество было потрясено войной с Ганнибалом[32]. Почему Рим
протянул свою длинную руку на северо‑запад и приобрел для своей империи
западный угол Трансальпийской Европы? Потому что его влекла в этом направлении
борьба не на жизнь, а на смерть с Карфагеном. Почему, однажды перейдя через
Альпы, римляне остановились на Рейне? Потому что в век Августа их жизненная
энергия иссякла после двух столетий изнуряющих войн и революций. Почему варвары
в конце концов прорвались? Потому что, когда граница между высокоцивилизованным
и менее цивилизованным обществами перестает продвигаться вперед, весы не
останавливаются на неподвижной точке равновесия, но склоняются по прошествии
времени в пользу более отсталого общества. Почему, когда варвары прорвались
через границу, они столкнулись на той стороне с церковью? С материальной точки
зрения, потому что экономическая и социальная революции, последовавшие вслед за
войной с Ганнибалом, доставили огромное множество рабов из восточного мира для
работы на опустошенных землях Запада, и за этой принудительной миграцией
восточного труда последовало мирное проникновение восточных религий в греко‑римское
общество. С духовной точки зрения, причина заключается в том, что эти религии с
их обещанием личного спасения на «том свете» нашли благодатную почву в душах
«правящего меньшинства», которому не удалось спасти судьбу греко‑римского
общества на этом.
С другой стороны, для исследователя греко‑римской истории
как христиане, так и варвары могут показаться созданиями чуждого мира, как он
может назвать их – внутренним и внешним пролетариатом[33],[34]греко‑римского
(или, если употребить более удачный термин, эллинского) общества в его
последней фазе. Он обратит внимание на то, что великие деятели эллинской
культуры до Марка Аврелия включительно почти ничего не знали об их
существовании. Он поставит диагноз, что как христианская церковь, так и
варварские вооруженные отряды – болезненные образования, только что возникшие
на теле эллинского общества, физическое здоровье которого было подорвано войной
с Ганнибалом.
Это исследование предоставило нам возможность сделать
позитивный вывод, рассматривая в обратном порядке протяженность западного
общества во времени. Жизнь этого общества, хотя отчасти и была продолжительнее
жизни любой отдельной нации, к нему принадлежащей, однако не была столь же
долгой, сколь период существования рода человеческого, представителем которого
это общество являлось. Прослеживая происхождение его истории до самых истоков,
мы достигаем последней фазы другого общества, происхождение которого, очевидно,
уходит в гораздо более глубокое прошлое. Непрерывность истории, пользуясь
общепринятым выражением, не есть та непрерывность, которая представлена в жизни
отдельного индивида. Это скорее непрерывность, составленная из жизней следующих
друг за другом поколений, – западное общество имеет такое же отношение к
обществу эллинскому, какое имеет (если прибегнуть к удобному, хотя и
несовершенному сравнению) ребенок к своему родителю.
Если принять аргументацию этой главы, то мы согласимся с
тем, что умопостигаемой единицей исторического исследования является не
национальное государство и, с другой стороны, не человечество в целом, а некая
группа людей, которую мы назвали обществом. Мы открыли пять таких обществ,
существующих и сегодня, а также различные окаменевшие свидетельства обществ уже
умерших и ушедших. Исследуя обстоятельства рождения одного из таких живых
обществ, а именно нашего собственного, мы столкнулись с предсмертными минутами
другого весьма значительного общества, своего рода отпрыском которого является
наше, – проще говоря, по отношению к которому наше собственное общество
является «аффилированным»[35]. В следующей
главе мы попытаемся составить полный список обществ подобного рода, когда‑либо
известных на нашей планете, и показать отношения, в которых они состояли друг с
другом.
II.
Сравнительное исследование цивилизаций
Мы уже обнаружили, что западное общество (или цивилизация)
является аффилированным по отношению к предшествующему. Вполне закономерным для
дальнейшего хода нашего исследования обществ данного вида будет привести другие
существующие примеры – православно‑христианское, исламское, индусское и
дальневосточное общества, и посмотреть, не сможем ли мы найти и для них
«родителей». Но перед тем как приступить к этому поиску, следует выяснить: что
же мы ищем? Другими словами, каковы те признаки отцовско‑сыновних отношений,
которые мы могли бы принять в качестве веских оснований? Какие признаки
подобного родства нашли мы фактически в случае усыновления нашего собственного
общества эллинским?
Первым из этих феноменов было универсальное государство[36] (Римская империя), объединившее все эллинское
общество в единую политическую общину в последний период эллинской истории.
Этот феномен замечателен тем, что находится в прямой противоположности к
многочисленным локальным государствам, на которые было разделено эллинское
общество до появления Римской империи, равно как и в прямой противоположности к
многочисленным локальным государствам, до сих пор разделяющим западное
общество. Далее мы обнаружили, что Римской империи непосредственно
предшествовало «смутное время», восходящее, по крайней мере, к войне с
Ганнибалом, время, когда эллинское общество перестало быть творческим и
действительно находилось в явном упадке, на некоторое время задержанном
возникновением Римской империи, но в конечном счете оказавшимся симптомом
неизлечимой болезни, разрушившей эллинское общество, а вместе с ним и Римскую
империю. С другой стороны, за падением Римской империи последовало своего рода междуцарствие
от исчезновения эллинского и до появления западного общества.
Это междуцарствие заполнено деятельностью двух институтов:
христианской церкви, возникшей внутри Римской империи и пережившей ее, и
множества недолговечных государств‑наследников, появившихся на бывшей
территории империи в результате так называемого Völkerwanderung
[переселения] варварских народов из «ничейных земель», находившихся по ту
сторону имперских границ. Мы уже охарактеризовали две эти силы как внутренний
пролетариат и внешний пролетариат эллинского общества. Отличаясь во
всем остальном, они сходились в своей чуждости по отношению к правящему
меньшинству эллинского общества, правящим классам старого общества,
утратившим свой путь и прекратившим управлять. Фактически империя пала, а
церковь выжила как раз благодаря тому, что давала руководство и заручалась
преданностью, тогда как империи долго недоставало ни того, ни другого. Таким
образом, церковь – пережиток общества умершего – стала тем лоном, из которого
своевременно было рождено новое.
Какую роль сыграла в аффилиации нашего общества другая
характерная особенность междуцарствия – Völkerwanderung [переселение народов],
во время которого внешний пролетариат обрушился потоком из‑за границ старого
общества: германцы и славяне из лесов Северной Европы, сарматы и гунны из
Евразийской степи, сарацины с Аравийского полуострова, берберы из Атласа и
Сахары – [народы], чьи недолговечные государства‑наследники разделили вместе с
церковью исторический период междуцарствия, или героического века? В
сравнении с церковью их вклад был негативным и незначительным. Почти все они
погибли насильственным образом еще до того, как междуцарствие подошло к концу.
Вандалы[37] и остготы[38] потерпели поражение в результате
контрнаступлений со стороны самой Римской империи. Последней конвульсивной
вспышки римского пламени хватило для того, чтобы сжечь этих бедных мотыльков
дотла. Другие погибли в братоубийственной войне: вестготы, например, получили
первый удар со стороны франков, a coup de grace[39] – со стороны арабов[40]. Немногие
оставшиеся в живых в этой борьбе за существование с исмаилитами[41] неудержимо вырождались и прозябали в безделье
до тех пор, пока не были уничтожены новыми политическими силами, обладавшими
необходимыми зачатками творческой мощи. Так, меровингская и ломбардская
династии были сметены создателями империи Карла Великого[42]. Есть лишь два
варварских «государства‑наследника» Римской империи, о которых можно сказать,
что они имели каких‑то прямых потомков среди национальных государств
современной Европы – это франкская Австразия[43] Карла Великого и Уэссекс короля Альфреда[44].
Таким образом, Völkerwanderung и его недолговечные плоды
являются признаками (наравне с церковью и империей) аффилиации западного
общества эллинским. Однако подобно империи (но не церкви) они являются лишь
признаками, и не более того. Переходя от исследования симптомов к исследованию
причин, мы обнаруживаем, что если церковь принадлежала и прошлому, и будущему,
то варварские государства‑наследники, как и империя, принадлежали всецело
прошлому. Их подъем был обратной стороной падения империи, которое неумолимо
предвещало и падение этих государств.
Эта низкая оценка вклада варваров в западное общество может
шокировать западных историков последнего поколения (таких как Фримен[45]),
рассматривающих институт ответственного парламентского правления как развитие
определенных институтов самоуправления, которые тевтонские племена, предположительно,
принесли с собой из «ничейных земель». Но эти примитивные тевтонские институты
(если они вообще существовали) были зачаточными институтами, характерными для
первобытного человека почти повсюду, и, так сказать, не пережили бы
Völkerwanderung. Вожди варварских отрядов были воинственными авантюристами, а
государственным устройством государств‑наследников, как и самой Римской империи
в это время, была деспотия, ограниченная революцией. Последняя из этих
варварских деспотий была уничтожена за много веков до реального начала нового
роста, постепенно породившего то, что мы называем парламентскими институтами.
Широко распространенная завышенная оценка варварского вклада
в жизнь западного общества отчасти, возможно, восходит к тому ложному
убеждению, что социальный прогресс следует объяснять наличием определенных
врожденных качеств расы. Ложная аналогия, заимствованная из области явлений,
разъясненных естественной наукой, привела западных историков последнего
поколения к тому, что они стали изображать расы как химические «элементы», а
смешанные браки между ними – как химические «реакции», освобождающие
подавленные энергии и порождающие волнение и изменение там, где прежде царили
неподвижность и застой. Историки заблуждались, полагая, что «вливание свежей
крови», как они метафорически описывали расовое воздействие варварского
вторжения, могло объяснить все те последующие проявления жизни и роста, которые
составляют историю западного общества. Внушалось, что эти варвары были «чистой
расой» завоевателей, чья кровь до сих пор еще дает силы и облагораживает тела
их предполагаемых потомков.
В действительности варвары не были создателями нашего
духовного бытия. Их приход стал ощутимым, поскольку эллинское общество
находилось при смерти, но они не могли даже претендовать на то, что нанесли
смертельный удар. К тому времени, когда варвары появились на сцене, эллинское
общество уже умирало от ран, нанесенных им самому себе несколькими веками ранее
в течение «смутного времени». Варвары были просто стервятниками, питающимися
падалью, или же червями, кишащими на трупе. Их героический век – эпилог
эллинской истории, но не пролог нашей.
Итак, три фактора отмечают переход от старого общества к
новому: универсальное государство как финальная стадия старого общества;
церковь, развивавшаяся в старом и, в свою очередь, в новом обществе; наконец,
хаотическое вторжение варварского героического века. Из этих факторов второй
является наиболее, а третий – наименее значительным.
Прежде чем продолжить наш поиск других родственных обществ,
мы можем отметить еще один симптом «отцовско‑сыновних» отношений между
эллинским и западным обществами, а именно перемещение колыбели, или
первоначальной родины, нового общества с первоначальной родины своего
предшественника. На уже рассмотренных примерах мы обнаружили, что граница
старого общества стала центром нового, и мы должны быть готовы к подобным
перемещениям и в других случаях.
Православно‑христианское общество. Исследование
истоков этого общества не добавит новых видов к нашему списку, поскольку наряду
с западным обществом оно, несомненно, является ребенком‑близнецом общества
эллинского, только переместившимся не на северо‑запад, а на северо‑восток. С
колыбелью, или первоначальной родиной, в византийской Анатолии[46], за многие
столетия сильно ужатой враждебной экспансией исламского общества, оно в конце
концов добилось широкого распространения в северном и восточном направлениях
через Россию и Сибирь, охватывая с флангов исламский мир и вторгаясь на Дальний
Восток. Дифференциацию западного и православного христианства на два отдельных
общества можно проследить в расколе общей для них куколки – вселенской церкви –
на два тела: римско‑католическую церковь и церковь православную[47]. Чтобы
состоялся раскол, понадобилось более трех столетий, начиная с иконоборческой
ереси VIII столетия[48] и вплоть до окончательного разрыва по
теологическим вопросам в 1054 г. Между тем, церкви стремительно
дифференцировавшихся обществ принимали и резко противоположный друг другу
политический характер. Католическая церковь на Западе была централизована под
независимой властью средневекового папства, тогда как православная церковь
стала послушным ведомством Византийского государства.
Иранское и арабское общества. Сирийское общество.
Следующим живым обществом, которое мы должны исследовать, будет ислам. Когда мы
пристально рассмотрим истоки исламского общества, то различим там универсальное
государство, вселенскую церковь и Völkerwanderung, которые не идентичны с теми,
что стояли у общих истоков западного и православного христианства, но,
несомненно, аналогичны им. Исламское универсальное государство – Багдадский
халифат Аббасидов[49].[50] Вселенской церковью, конечно же, был сам
ислам. Völkerwanderung [переселение народов], которое опустошило владения
Халифата на его закате, исходило от тюркских и монгольских кочевников
Евразийской степи, берберских кочевников Северной Африки и арабских кочевников
Аравийского полуострова. Междуцарствие, занимаемое этим Völkerwanderung,
охватывает примерно три столетия между 975 и 1275 гг.[51], и последнюю
дату можно принять за начало исламского общества, каким мы находим его сегодня.
Пока все ясно, но дальнейшее исследование вызовет у нас
сложности. Первая состоит в том, что предшественник исламского общества (еще не
установленный) оказывается родителем не одного ответвления, но двух, имея в
этом сходство с родительскими достижениями эллинского общества. Поведение пар
близнецов было, однако, поразительно непохожим – тогда как западное и
православное общества продолжали более тысячелетия существовать бок о бок, одно
из ответвлений родительского общества, которое мы пытаемся идентифицировать,
поглотило и включило в свой состав другое. Мы назовем два этих общества
иранским и арабским.
Дифференциация среди ответвлений неустановленного общества
не была, как в случае раскола между ветвями эллинского общества, делом религии.
Несмотря на то что ислам разделился на две секты – суннитов и шиитов[52], как
христианская церковь разделилась на католическую и православную, этот
религиозный раскол в исламе никогда, ни на одной стадии не совпадал с делением
на ирано‑исламское и арабо‑исламское общества, хотя со временем этот раскол и
разрушил ирано‑исламское общество, когда шиитская секта стала господствующей в
Персии в первой четверти XVI столетия христианской эры. Шиизм, таким образом,
утвердился в самом центре главной оси ирано‑исламского общества (которая
проходит с востока на запад от Афганистана до Анатолии), оставляя суннизм
господствовать по другую ее сторону в двух концах иранского мира, а также в
арабских странах к югу и западу.
Сравнивая пару исламских обществ с парой христианских, мы
видим, что исламское общество, возникшее в зоне, которую мы можем назвать персо‑турецкой,
или иранской, имеет определенное сходство с западным обществом, тогда как
другое общество, возникшее в зоне, которую мы можем назвать арабской, имеет
определенное сходство с православным христианством. Например, призрак
Багдадского халифата, вызванный мамлюками в Каире в XIII в. христианской эры[53], напоминает
нам призрак Римской империи, вызванный Львом Сириянином в Константинополе в
VIII в.[54] Политическое здание, возведенное мамлюками,
подобно возведенному Львом, было относительно скромным, эффективным и прочным в
противоположность империи Тимура[55] в соседней иранской зоне – обширному,
неуловимому, эфемерному призраку, возникавшему и исчезавшему подобно империи
Карла Великого на Западе. Кроме того, классическим языком, служившим
проводником культуры в арабской зоне, был арабский, являвшийся языком культуры
в Багдадском халифате Аббасидов. В иранской зоне новая культура нашла для себя
нового проводника в персидском – языке, который культивировался благодаря
прививке к арабскому, как латынь культивировалась благодаря прививке к
греческому. Наконец, завоевание и поглощение исламского общества арабской зоны
исламским обществом иранской зоны, произошедшее в XVI столетии, имело параллель
в агрессии западного общества против православного христианства во время
крестовых походов[56]. Когда эта
агрессия достигла своей кульминации в 1204 г. в обращении Четвертого крестового
похода против Константинополя, на момент показалось, будто православное
христианство навсегда завоевано и поглощено своим сестринским обществом, –
судьба, которая постигла арабское общество приблизительно тремя веками позднее,
когда власть мамлюков была низвергнута и Каирский халифат Аббасидов был
уничтожен оттоманским падишахом Селимом I в 1517 г.[57]
Теперь мы должны обсудить следующий вопрос: что являлось тем
неустановленным обществом, последнюю стадию которого отмечает Багдадский
халифат Аббасидов, стадию, аналогичную той, что в эллинском обществе отмечена
[появлением] Римской империи? Проследив историю происхождения халифата
Аббасидов, найдем ли мы явления, аналогичные «смутному времени», обнаруженному
нами на предпоследней стадии эллинского общества?
Ответ отрицательный. За Багдадским халифатом Аббасидов мы
обнаружим Дамасский халифат Омейядов[58], а за ним –
тысячелетие эллинского вторжения, начиная со стремительного похода Александра
Македонского во второй половине IV в. до н. э., с последующим установлением
греческой монархии Селевкидов[59] в Сирии, походами Помпея и римским
завоеванием, и заканчивая восточным реваншем завоевателей раннего ислама в VII
в. после Христа. По‑видимому, в ритме истории завоевания первобытных арабов‑мусульман,
приведшие к катаклизму, антистрофически[60] соответствуют столь же губительным завоеваниям
Александра. Подобно последним, они изменили лицо мира за полудюжину лет, но
вместо того, чтобы изменить его до неузнаваемости, more Macedonico[61] , они изменили его в обратную сторону – до
вполне узнаваемого подобия того, чем оно было раньше. Как македонское завоевание,
разрушив империю Ахеменидов[62] (то есть Персидскую империю Кира и его
наследников), подготовило почву для семян эллинизма, так арабское завоевание
открыло дорогу Омейядам, а после них – Аббасидам для восстановления универсального
государства, эквивалентного Ахеменидской империи. Если мы наложим карту одной
из этих империй на другую, то поразимся точности, с которой соответствуют друг
другу контуры. Мы обнаружим, что соответствие не просто географическое, но
распространяется на методы управления и даже на внутренние явления социальной и
духовной жизни. Мы можем выразить историческую функцию халифата Аббасидов,
описав его в качестве реинтеграции и возобновления империи Ахеменидов –
реинтеграции той политической структуры, которая была разрушена воздействием
внешней силы, и возобновления той фазы социальной жизни, которая была прервана
вражеским вторжением. Халифат Аббасидов следует рассматривать как возобновление
универсального государства, которое было последней фазой в жизни нашего пока
еще не установленного общества, поиск которого, таким образом, отодвигается
назад еще на тысячелетие.
Теперь мы должны внимательно рассмотреть непосредственных
предшественников империи Ахеменидов, разыскивая явление, которое нам не удалось
найти среди предшественников халифата Аббасидов: а именно «смутное время»,
имеющее сходство с тем временем, которое в эллинской истории непосредственно
предшествовало установлению Римской империи.
Общее сходство между генезисом империи Ахеменидов и генезисом
Римской империи несомненно. Основное отличие в деталях состоит в том, что
эллинское универсальное государство выросло из того же самого государства,
которое было главной разрушительной силой в предшествующее «смутное время»,
тогда как в генезисе империи Ахеменидов последовательно разрушительную и
созидательную роль Рима играли различные государства. Разрушительную роль
сыграла Ассирия. Но как раз тогда, когда Ассирия уже почти завершила свое дело,
основав универсальное государство в обществе, бином которого являлась, она
обратила разрушение на саму себя вследствие избытка собственного милитаризма.
Как раз перед грандиозным финалом протагонист был драматически сражен (610 г.
до н. э.), и его роль неожиданно взял на себя актер, который до сих пор играл вторые
роли. Ахемениды пожали плоды, посеянные ассирийцами, однако эта замена одного
исполнителя другим не изменила характера сюжета.
Определив, таким образом, «смутное время», мы можем теперь
наконец‑то идентифицировать то общество, какое искали.
Мы увидим, что оно не было идентично тому, к которому
принадлежали ассирийцы. Ассирийцы, подобно македонянам на последней стадии их
долгой и запутанной истории, играли роль незваных гостей, которые пришли и
ушли. В нашем неустановленном обществе, когда оно было объединено с империей
Ахеменидов, мы можем проследить процесс мирного вытеснения культурных
элементов, навязанных Ассирией, в постепенной замене аккадского языка и
клинописи арамейским языком и алфавитным письмом[63].
Сами ассирийцы в последний период своей истории использовали
арамейский алфавит для письма на пергаменте в качестве дополнения к своей
традиционной клинописи, которую они оттискивали на глине или вырезали на камне.
Если они пользовались арамейским алфавитом, то, возможно, допускали для себя и
использование арамейского языка. Во всяком случае, после гибели Ассирийского
государства и недолговечной Нововавилонской империи (то есть империи
Навуходоносора[64]),
последовавшей за ним, арамейский алфавит и язык развивались непрерывно, пока в
последнее столетие до нашей эры аккадский язык и клинопись не угасли на всем
пространстве своей месопотамской родины.
Соответствующее изменение можно проследить и в истории
иранского языка, который неожиданно появился из мрака неизвестности в качестве
языка «мидян и персов» – господствующих народов Ахеменидской империи.
Столкнувшись с проблемой ведения записей на языке (иранском или
древнеперсидском), не развившем своей собственной письменности, персы
приспособили клинопись для вырезания на камне и арамейский алфавит для записей
на пергаменте, но лишь арамейский алфавит выжил в качестве проводника
персидского языка.
Фактически два элемента культуры – один сирийский, а другой
иранский – утверждались одновременно и как раз тогда, когда вошли друг с другом
в тесное общение. С самого конца «смутного времени», предшествовавшего
установлению Ахеменидской державы, когда завоеванные арамеи начали пленять
своих ассирийских завоевателей, этот процесс был непрерывным. Если мы хотим
разглядеть его на более ранней стадии, то можем взглянуть в зеркало религии и
почувствовать, как это же «смутное время» пробудило одинаковое вдохновение у
иранского пророка Заратуштры[65] и у современных ему пророков Израиля и Иудеи[66]. В целом,
скорее, арамейский, или сирийский, а не иранский элемент можно рассматривать в
качестве наиболее влиятельного. Если же мы оглянемся назад, по ту сторону
«смутного времени», иранский элемент постепенно исчезнет, и мы мельком увидим в
Сирии общество в эпоху царя Соломона и его современника царя Хирама, когда как
раз открываются Атлантический и Индийский океаны и уже был изобретен алфавит[67]. Здесь мы,
наконец, установили то общество, по отношению к которому являются
аффилированными исламские общества‑близнецы (впоследствии объединенные в одно).
Мы назовем его сирийским обществом.
В свете этой идентификации давайте снова посмотрим на ислам
– вселенскую церковь, через которую наше сирийское общество стало в конце
концов отеческим по отношению к иранскому и арабскому обществам. Мы можем
теперь проследить интересное различие между развитием ислама и христианства. Мы
уже заметили, что источник творческой силы в христианстве был не эллинского, но
чуждого ему происхождения (фактически, как мы теперь можем его
идентифицировать, сирийского). В противоположность этому можно заметить, что
творческий источник ислама был не чуждым, но родным сирийскому обществу. Его
основатель Мухаммед черпал свое вдохновение первоначально из иудаизма, чисто
сирийской религии, а затем из несторианства – формы христианства, где сирийский
элемент добился своего превосходства над эллинским. Конечно же, такой великий
институт, как вселенская церковь, никогда не является «чистопородным» по
отношению к одному какому‑то обществу. В христианстве мы осознаем наличие
эллинских элементов, заимствованных из эллинских мистерий и эллинской
философии. Подобным же образом, но в гораздо более слабой степени, мы можем
обнаружить эллинские влияния и в исламе. В общих чертах, христианство является
вселенской церковью, возникшей из источника, чуждого тому обществу, в котором она
играла свою роль, тогда как ислам возник из туземного источника.
В заключение мы можем соразмерить соответствующие степени
смещения первоначальной родины аффилированных иранского и арабского обществ от
родины отеческого сирийского общества. Основная линия ирано‑исламского общества
– от Анатолии до Индии – показывает значительное смещение. С другой стороны,
родина арабо‑исламского общества в Сирии и Египте покрывает все пространство
сирийского общества, а смещение относительно небольшое.
Индское общество[68].
Следующим живым обществом, которое мы должны рассмотреть, будет индусское, и
здесь мы опять различаем у его истоков наши стандартные приметы существования
более древнего общества по ту сторону горизонта. Универсальным государством в
данном случае является империя Гуптов (около 375‑475 гг. н. э.)[69]. Вселенская
церковь – индуизм, который достиг превосходства в Индии в эпоху Гуптов,
вытеснив и заняв место буддизма после того, как последний господствовал в
течение приблизительно семи веков на субконтиненте, явившемся общей колыбелью
обеих религий. Völkerwanderung [переселение народов], опустошившее империю
Гуптов на ее закате, исходило от гуннов Евразийской степи[70], атаковавших в
это время и Римскую империю. Междуцарствие, занятое их деятельностью и жизнью
государств‑наследников империи Гуптов, приходится приблизительно на промежуток
между 475 и 775 гг. После этого стало выясняться, что индусское общество все
еще живо. Шанкара[71], отец
индусской философии, жил приблизительно в 800 г.
Когда мы продвинемся дальше в нашем поиске более древнего
общества, являющегося отеческим индусскому, то обнаружим в меньшем масштабе то
же самое явление, которое осложнило наш поиск сирийского общества, а именно
эллинское вторжение. В Индии это эллинское вторжение началось не ранее похода
Александра, который, насколько это касается индийской культуры, не имел далеко
идущих последствий. Настоящее эллинское вторжение в Индию начинается с
нашествия Деметрия[72], греческого
царя Бактрии, около 183‑182 гг. дон. э. и оканчивается уничтожением последнего
из частично эллинизированных самозванцев в 390 г. н. э., который можно принять
за приблизительную дату основания империи Гуптов. Следуя установкам, которые
навели нас на след сирийского общества, мы должны отыскать в Индии, как
отыскали в Юго‑Западной Азии, доэллинское универсальное государство, в качестве
постэллинского продолжения которого может рассматриваться империя Гуптов. Мы
находим это универсальное государство в империи Маурьев, основанной
Чандрагуптой в 323 г. до н. э., прославившейся в царствование императора Ашоки
в следующем столетии и уничтоженной узурпатором Пушьямитрой в 185 г. до н. э.[73] До этой империи мы находим «смутное время»,
наполненное разрушительными войнами между местными государствами и охватывающее
время жизни Сиддхартхи Гаутамы Будды[74]. Жизнь Гаутамы
и его отношение к жизни являются лучшим свидетельством того, что общество,
членом которого он был, находилось в его время не в лучшем состоянии. Это
свидетельство подтверждается жизнью и мировоззрением его современника Махавиры[75], основателя
джайнизма, и жизнями других представителей того же поколения в Индии,
отвернувшихся от этого мира и стремившихся через аскетизм обрести путь к миру
иному. В отдаленнейших истоках, уходящих за начало «смутного времени», мы можем
различить время роста, оставившее свою запись в Ведах[76]. Таким
образом, мы идентифицировали общество, отеческое индусскому. Давайте назовем
его индским. Родина индского общества располагалась в долинах Инда и Верхнего
Ганга, откуда оно распространилось на весь субконтинент. Следовательно,
географическое положение индского общества, в сущности, идентично
географическому положению его наследника [общества индусского].
Древнекитайское общество. Остается исследовать
происхождение единственного оставшегося живого общества, родина которого –
Дальний Восток. Универсальным государством здесь является империя, основанная в
221 г. до н. э. следовавшими одна за другой династиями Цинь и Хань[77]. Вселенской
церковью является махаяна – разновидность буддизма, которая заняла
господствующее положение в Ханьской империи и тем самым стала куколкой
нынешнего дальневосточного общества. Völkerwanderung после падения
универсального государства исходило от кочевников Евразийской степи,
завоевавших территорию Ханьской империи около 300 г., хотя само это государство
уступило дорогу междуцарствию фактически более чем за сто лет до того. Когда мы
обращаемся к прошлому империи Хань, то обнаруживаем четко отмеченное «смутное
время», известное в китайской истории как Чжаньго – «период борющихся царств»[78] – и занимающее два с половиной столетия,
последовавшие после смерти Конфуция[79] в 479 г. до н. э. Две черты этой эпохи –
губительное управление государством и интеллектуальная энергия, направленная на
философию практической жизни, – вызывают в памяти период эллинской истории
между временем Зенона[80], основателя
стоицизма, и битвой при Акции[81], завершившей
эллинское «смутное время». Кроме того, и в одном, и в другом случае последние
столетия «смутного времени» явились кульминацией беспорядка, начавшегося
несколько раньше. Пламя милитаризма, вспыхнувшее в постконфуцианскую эпоху,
было зажжено еще до того, как Конфуций начал присматриваться к человеческим
делам. Земная мудрость этого философа и отстраненный квиетизм его современника
Лаоцзы[82]– свидетельство
осознания обоими того факта, что в истории их общества век роста уже позади.
Какое имя дадим мы тому обществу, на прошлое которого Конфуций смотрит с
почтительностью, тогда как Лаоцзы оборачивается к нему спиной, подобно
христианину, покидающему град погибели? Для удобства мы можем назвать это
общество древнекитайским.
Махаяна – церковь, через которую это древнекитайское
общество стало отеческим по отношению к сегодняшнему дальневосточному обществу,
– похожа на христианскую церковь и отличается от ислама и индуизма тем, что
источник ее жизненности не был родным тому обществу, в котором она играла роль,
но имел иное происхождение. Махаяна, по‑видимому, родилась на индийских
территориях, подвластных греческим царям Бактрии и их полуэллинским наследникам
– кушанам[83], и,
несомненно, корни ее уходят в кушанские провинции в бассейне Тарима, где кушаны
стали наследниками династии Младшая Хань еще до того, как эти провинции были
отвоеваны и вновь присоединены династией Старшая Хань. Через эту дверь махаяна
вошла в древнекитайский мир и впоследствии была приспособлена китайским
[внутренним] пролетариатом к своим нуждам[84].
Родиной древнекитайского общества был бассейн Хуанхэ, откуда
оно распространилось до бассейна Янцзы. Бассейны обеих рек входили в область
первоначальной родины дальневосточного общества, распространившегося на юго‑запад
вдоль китайского побережья, а также на северо‑восток – в Корею и Японию.
«Реликты» (см. стр. 46). Информация, полученная
благодаря исследованию аффилиаций живых обществ, даст нам возможность
рассортировать «реликты» и отнести их к угасшим обществам, к которым они
первоначально принадлежали. Евреи и парсы являются реликтами сирийского
общества, так сказать, до эллинского вторжения в сирийский мир. Монофизиты и
христиане‑несториане – остатки реакции сирийского общества на эллинское
вторжение, последовательные взаимоисключающие протесты против эллинизации того,
что было по своему происхождению сирийской религией. Джайны Индии и
хинаянистские буддисты Цейлона, Бирмы, Сиама и Камбоджи – реликты индского
общества периода империи Маурьев до эллинского вторжения в индийский мир.
Махаянистские буддисты‑ламаисты Тибета и Монголии соответствуют несторианам.
Они представляют собой неудавшуюся реакцию на метаморфоз махаянистского
буддизма из его первоначальной индийской формы в позднюю разновидность,
смешанную с эллинским и сирийским влияниями, в которой она в конце концов была
усвоена древнекитайским обществом.
Ни один из этих реликтов не дает нам ключа для дальнейшего
дополнения нашего списка обществ, но наши запасы еще не исчерпаны. Мы можем
продвинуться дальше в прошлое и отыскать «родителей» тех обществ, которые были
уже идентифицированы нами в качестве родителей ныне живущих видов.
Минойское общество. На фоне эллинского общества
довольно ясно выделяются определенные признаки существования общества более
древнего. Универсальным государством является морская империя, удерживавшая под
своей властью Эгейское море с базы на Крите, оставившая в греческой традиции
название талассократии (морской державы) Миноса[85], а в самых
верхних пластах земной поверхности – следы дворцов, раскопанных недавно в
Кноссе и Фесте. Völkerwanderung, последовавшее за этим универсальным
государством, можно увидеть в древнейших памятниках греческой литературы –
«Илиаде» и «Одиссее», хотя и в форме, сильно измененной алхимией традиционной
поэзии. Мы можем также увидеть его мельком (и это, без сомнения, гораздо ближе
к историческим фактам) в относящихся к тому времени официальных документах
XVIII, XIX и XX династий в Египте. Данное Völkerwanderung, по‑видимому,
началось с внезапного вторжения варваров – ахейцев и им подобных – с
европейского побережья Эгейского моря, привыкших к морю и победивших критскую
талассократию в ее же собственной стихии. Археологическое свидетельство их
деятельности – разрушение критских дворцов в конце периода, который археологи
называют позднеминойским II.[86] Движение достигло кульминации в своего рода
людской лавине эгейских народов (победителей, равно как и побежденных),
обрушившихся на империю Хатти (хеттов)[87] в Анатолии и атаковавших, хотя и не сумевших
уничтожить, Новое царство[88] в Египте. Ученые датируют гибель Кносса примерно
1400 г. до н. э., а египетские документы дают нам возможность поместить
«людскую лавину» между 1230 и 1190 гг. до н. э. Таким образом, мы можем принять
1425‑1125 гг. до н. э. за период, на который приходится междуцарствие[89].
Когда мы попытаемся проследить историю этого древнего
общества, то испытаем затруднения из‑за нашей неспособности прочесть критское
письмо, хотя археологические данные наводят на мысль, что материальная
цивилизация, развивавшаяся на Крите, внезапно распространилась через Эгейское
море в Арголиду в XVII в. до н. э. и из этой точки постепенно разнеслась в
другие части континентальной Греции на протяжении следующих двух столетий.
Существуют также доказательства существования критской цивилизации вплоть до
времен неолита. Мы можем назвать это общество минойским.
Но есть ли у нас основания трактовать минойское и эллинское
общества в качестве родственных друг другу точно так же, как эллинское и
западное или другие сыновне‑отеческие общества, идентифицированные нами? В этих
последних случаях социальной связью между двумя обществами служила вселенская
церковь, созданная внутренним пролетариатом старого общества и впоследствии
послужившая куколкой, внутри которой новое общество обретало форму. Но в
главном выражении пан‑эллинизма, а именно в олимпийском пантеоне, нет ничего
минойского. Этот пантеон принял свою классическую форму в гомеровском эпосе, и
здесь мы видим, что боги были созданы по образу варваров, которые обрушились на
минойский мир во время уничтожившего его Völkerwanderung. Зевс – ахейский
военачальник, правящий на Олимпе как узурпатор, занявший место своего
предшественника Кроноса с помощью силы и разделивший добычу‑вселенную, отдав
воду и землю своим братьям Посейдону и Аиду и сохранив за собой небо. Это до
конца ахейский и постминойский пантеон. Мы не можем даже увидеть отражения
минойской религии в свергнутых божествах, ибо Кронос и Титаны принадлежат к
тому же миропорядку, что и Зевс с его военной дружиной. Мы должны вспомнить о религии,
от которой отказалось большинство тевтонских варваров еще до того, как началось
их вторжение в Римскую империю. О религии, сохраненной и усовершенствованной их
родственниками в Скандинавии, чтобы, в свою очередь, быть отвергнутой и ими в
ходе собственного Völkerwanderung (набегов «норманнов») пять или шесть столетий
спустя. Если нечто вроде универсальной церкви и существовало в минойском
обществе в то время, когда варварская лавина обрушилась на него, то оно
настолько же должно было бы отличаться от культа богов‑олимпийцев, насколько
христианство отличалось от культа Одина и Тора.
Существовало ли нечто подобное? По мнению величайшего
авторитета в этом вопросе, есть смутные указания на то, что существовало:
«В той мере, в какой было возможно прочесть свидетельства о
древнем критском культе, мы можем различить в нем не только преобладающую
духовную сущность, но и нечто такое, что роднит его последователей с верой,
распространявшейся в течение последних двух тысячелетий среди приверженцев
таких восточных религий, как иранская, христианская и исламская. Он
предполагает [существование] догматического духа верующего, весьма далекого от
эллинской точки зрения… Сравнивая его в самых общих чертах с религией древних
греков, можно сказать, что по сути он более духовен. С другой стороны, в нем
больше личного отношения. На “кольце Нестора”[90], где символы
воскресения представлены в виде куколки и бабочки над головой богини, она
[богиня] явно обладает властью давать жизнь после смерти верующим в нее. Она
весьма близка к своим почитателям… Она защищала своих детей даже после смерти…
В греческой религии были свои мистерии, но греческие боги обоих полов (более
или менее наравне) ни в коем случае не находились в столь же тесных личных
отношениях, как указывают свидетельства минойского культа. Их разобщение,
отмеченное семейными и клановыми междоусобицами, столь же бросается в глаза,
как и множественность их форм и атрибутов. В противоположность этому, в
минойском мире та, что, судя по всему, является верховной богиней, постоянно
появляется вновь… Общий вывод заключается в том, что перед нами в значительной
степени монотеистический культ, в котором женская форма божества занимает
высшее положение»{24}.
Существуют также некоторые данные об этом предмете в
эллинской традиции. Греки сохранили легенду о «Зевсе» на Крите, который в
действительности не может быть тем же божеством, что и Зевс Олимпа. Этот
критский Зевс – не предводитель вооруженного отряда, выходящий на сцену вполне
зрелым и в полном вооружении, чтобы завоевать царство силой. Он появляется как
новорожденный младенец. Возможно, он идентичен с тем ребенком, который в
минойском искусстве в качестве предмета поклонения представлен Божественной
Матерью. Но он не только рождается – он умирает! Не были ли его рождение и
смерть воспроизведены в рождении и смерти Диониса[91], фракийского
божества, с которым стали идентифицировать бога Элевсинских мистерий?[92] Не были ли мистерии в классической Греции,
подобно колдовству в современной Европе, пережитком религии исчезнувшего
общества?
Если бы христианский мир стал жертвой викингов, подпав под
их господство и потерпев неудачу в обращении их в свою веру, мы могли бы
вообразить мессу, служившуюся тайно на протяжении веков в подполье нового
общества, где преобладающей религией являлся бы культ асов[93]. Мы могли бы
вообразить, как это новое общество, достигнув своей зрелости, потерпело бы
неудачу, ища удовлетворения в религии скандинавских варваров, и занималось
поиском пищи духовной на почве, оставленной новым обществом «под пар». В
условиях подобного духовного голода пережиток прежнего общества, вместо того
чтобы быть уничтоженным, как западное общество уничтожало колдовство, когда оно
привлекло внимание церкви, мог бы быть открыт заново, как спрятанное сокровище,
и некоторые религиозные гении могли бы удовлетворить потребности своей эпохи
при помощи экзотической комбинации существовавшего подспудно христианского
обряда и новейших варварских оргий, унаследованных от финнов или венгров.
По этой аналогии мы можем реконструировать подлинную
религиозную историю эллинского мира: возрождение древних традиционных
Элевсинских мистерий и введение орфизма[94] – согласно Нильсону, «спекулятивной религии,
созданной религиозным гением», – на основе синкретического соединения оргий
фракийских дионисии и минойских мистерий рождения и смерти критского Зевса.
Несомненно, и Элевсинские мистерии, и орфическая церковь обеспечили эллинскому
обществу классического периода духовную пищу, в которой оно нуждалось, но не
могло найти в культе олимпийцев, тот дух отрешенности, какой бы мы ожидали
обнаружить в «смутное время» и признали характерной чертой вселенских церквей,
созданных внутренним пролетариатом на своем закате.
На основе этих аналогий не настолько уж фантастично заметить
в мистериях и орфизме призрак минойской вселенской церкви. Однако даже если бы
это размышление и оказалось истинным (что будет поставлено под сомнение в
последнем отрывке из данной книги, рассматривающем происхождение орфизма), оно
едва ли дало бы нам право рассматривать эллинское общество в качестве
действительно аффилированного своим предшественником. Ибо для чего бы
потребовалось воскрешать эту церковь, если она не была уничтожена? И кто бы мог
ее разрушить, кроме тех варваров, которые опустошили минойский мир? Принимая
пантеон этих кровожадных ахейцев, «губителей градов», в качестве своего
собственного, эллинское общество провозглашало их своими приемными родителями.
Оно не могло признать свое сыновство по отношению к минойскому обществу, не
приняв на себя ахейской вины в убийстве и не обнародовав своего собственного
отцеубийства.
Если теперь мы обратимся к истокам сирийского общества, то
обнаружим то же, что видели у истоков эллинского, – универсальное государство и
Völkerwanderung, причем те же самые, что появляются в последних главах
минойской истории. Заключительной конвульсией постминойского Völkerwanderung
явилась людская лавина вырванных с корнями скитальцев, ищущих новый дом и
беспорядочно гонимых напором последней волны варваров с севера, так называемых
дорийцев[95]. Отраженные
египтянами, некоторые из этих беженцев осели на северо‑восточном побережье
Египетской империи и известны нам по рассказам Ветхого Завета как филистимляне.
Здесь фил истимлянские беженцы из минойского мира столкнулись с еврейскими
кочевниками, перемещавшимися от египетской зависимости в «ничейные земли»
Аравии. Далее на север горная цепь Ливана положила предел одновременному
проникновению арамейских кочевников и предоставила убежище финикийцам
побережья, которые сумели выжить от столкновения с филистимлянами. Как только
конвульсия утихла, из этих элементов возникло новое общество – сирийское.
Настолько же, насколько сирийское общество было родственным
любому более древнему представителю данного вида, оно было родственно и
обществу минойскому, и это в такой же точно степени, в какой эллинское общество
было родственным минойскому, – не больше и не меньше. Одним наследством,
полученным сирийским обществом от минойского, мог быть алфавит, другим – вкус к
дальним морским плаваниям.
На первый взгляд было бы неожиданным, если бы сирийское
общество произошло от минойского. Следовало бы скорее ожидать, что
универсальным государством, стоявшим у истоков сирийского общества, являлось
«Новое царство» Египта и что монотеизм иудеев был воскрешением монотеизма
Эхнатона[96]. Однако данные
говорят против этого. Нет никаких свидетельств, подтверждающих родство
сирийского общества с обществами, соответственно представленными империей Хатти
(хеттов) в Анатолии и шумерской династией Ура[97] и ее наследницей аморитской династией Вавилона[98], обществами,
за исследование которых мы примемся теперь.
Шумерское общество. Когда мы обращаемся к истокам
индского общества, первое, что нас поражает, это религия Вед, которая, подобно
культу олимпийцев, демонстрирует доказательства своего возникновения среди
варваров в ходе Völkerwanderung и не несет никаких отличительных черт религии,
созданной в «смутное время» внутренним пролетариатом общества на его закате.
В этом случае варварами были арии[99], появившиеся в
Северо‑Западной Индии на заре индской истории, точно так же, как на заре
эллинской истории в Эгее появились ахейцы. По аналогии с тем отношением, в
котором, как мы обнаружили, состояло эллинское общество к минойскому, нам
следовало бы ожидать открытия у истоков индского общества некоего
универсального государства с «ничейной землей» за пределами своих границ, на
которой жили предки ариев в качестве внешнего пролетариата вплоть до того, как
надлом универсального государства позволил им войти внутрь. Можно ли
идентифицировать это универсальное государство и определить местонахождение
этой «ничейной земли»? Возможно, мы получим ответы на эти вопросы, ответив
сначала на два других: каким образом арии открыли путь в Индию и не достигли ли
они, выйдя из одного центра, разных целей?
Арии говорили на индоевропейском языке, а историческое
распространение этой языковой группы – одной группы в Европе, а другой в Индии
и Иране – показывает, что арии должны были прийти в Индию из Евразийской степи
путями, по которым шли многие последующие народы вплоть до тюркских захватчиков
– Махмуда Газневи[100] в XI в. и Бабура[101], основателя
империи Великих Моголов, в XVI в. н. э. Теперь, изучив рассеяние тюрков, мы
обнаружим, что некоторые из них пошли на юго‑восток в Индию, а другие – на юго‑запад
в Анатолию и Сирию. Например, современными Махмуду Газневи были вторжения
тюрков‑сельджуков, вызвавшие крестоносную контратаку западного общества.
Древнеегипетские письменные источники свидетельствуют, что в период между 2000‑1500
гг. до н. э. арии, явившись из той части Евразийской степи, откуда три
тысячелетия спустя пришли тюрки, предвосхитили последующее расселение тюрков. В
то время как одни, насколько нам известно из индийских источников, проникли в
Индию, другие опустошали Иран, Ирак, Сирию и, наконец, Египет, где утвердили в
XVII в. до н. э. владычество варварских военачальников, известных в египетской
истории как гиксосы[102].
Что послужило причиной Völkerwanderung ариев? Мы можем
ответить на этот вопрос, в свою очередь, спросив: а что послужило причиной
Völkerwanderung тюрков? Ответ на этот последний вопрос дают исторические
письменные свидетельства: причиной явился надлом халифата Аббасидов, а тюрки
рассеялись в обоих направлениях по той причине, что умирающее тело Аббасидской
империи стало добычей и на своей родине, и в удаленных зависимых землях в
долине Инда. Дает ли нам это объяснение ключ к разгадке соответствующего
рассеяния ариев? Да, ибо когда мы посмотрим на политическую карту Юго‑Западной
Азии около 2000‑1900 гг. до н. э., то обнаружим, что ее занимает универсальное
государство, которое, подобно Багдадскому халифату, управлялось из столицы в
Ираке и территория которого расширялась из этого центра в тех же направлениях.
Этим универсальным государством была империя Шумера и
Аккада, основанная примерно в 2298 г. до н. э. шумерским царем Ура Ур‑Енгуром[103] и восстановленная около 1947 г. до н. э.
аморитом Хаммурапи[104]. Распад
империи после смерти Хаммурапи возвестил о наступлении периода арийского
Völkerwanderung. Нет прямых свидетельств того, что империя Шумера и Аккада
простиралась до Индии, но возможность этого подтверждается недавними раскопками
в долине Инда культуры (датируемой по двум местам, исследованным первыми,
приблизительно 3250‑2750 гг. до н. э.[105]), которая
была весьма близко связана с культурой шумеров Ирака.
Можем ли мы идентифицировать общество, в истории которого
империя Шумера и Аккада была универсальным государством? Исследуя прошлое этой
империи, мы обнаруживаем свидетельства о «смутном времени», видной фигурой
которого являлся аккадский милитарист – Саргон из Аккаде. Уходя далее вглубь,
мы обнаружим период роста и творчества, на который проливают свет недавние
раскопки в Уре. Насколько далеко за границы 4‑го тысячелетия простирался этот
период, мы не знаем. Общество, которое мы сейчас идентифицировали, можно
назвать шумерским.
Хеттское и вавилонское общества. Идентифицировав
шумерское общество, мы можем продолжить идентификацию двух других, двигаясь во
времени не от более поздних к более ранним, а наоборот.
Шумерская цивилизация распространялась на восточную часть
Анатолийского полуострова, позднее названную Каппадокией. Глиняные таблички с
клинописными деловыми документами, найденные археологами в Каппадокии,
подтверждают этот факт. Когда после смерти Хаммурапи шумерское универсальное
государство распалось, его каппадокийские провинции были заняты варварами с
северо‑запада, а около 1750 г. до н. э. правитель главного государства‑наследника
в этой части света царь Хатти Мурсилис I[106] напал на сам Вавилон и разграбил его.
Захватчики забрали свою добычу, а другие варвары – касситы из Ирана[107] – установили власть в Ираке, существовавшую на
протяжении шести столетий. Империя Хатти стала ядром хеттского общества,
фрагментарные знания о котором в основном получены нами из египетских
документов. С Египтом хетты находились в состоянии постоянной войны после того,
как Тутмос III (1480‑1450 гг. до н. э.) распространил египетское владычество на
Сирию[108]. О гибели
Хеттской империи от того же самого Völkerwanderung, которое погубило и Критскую
империю, уже упоминалось. Хетты, по‑видимому, заимствовали шумерскую систему
гаданий, но у них была своя собственная религия, а также пиктографическое
письмо, которым делали записи, по крайней мере, на пяти различных хеттских
языках.
Другое общество, также родственное шумерскому,
обнаруживается, согласно египетским документам XV в. до н. э., на родине
шумерского общества: Вавилония, где владычество касситов продержалось до XII в.
до н. э., Ассирия и Элам. Институты этого новейшего общества на шумерской почве
во многих отношениях настолько похожи на институты предшествующего шумерского
общества, что возникает сомнение, следует ли его рассматривать в качестве
отдельного общества или – в качестве эпилога шумерского. Тем не менее мы
оправдаем его за недостаточностью улик и назовем вавилонским обществом. В своей
последней фазе, в VII в. до н. э., это общество переживало мучительную
столетнюю воину[109], проходившую
в самом его сердце, между Вавилонией и военными силами ассирийцев. Вавилонское
общество пережило гибель Ассирии на семьдесят лет и в конце концов было
поглощено универсальным государством Ахеменидской империи Кира. Эти семьдесят
лет включали в себя правление Навуходоносора и «вавилонский плен» иудеев,
которым Кир казался посланным небом избавителем[110].
Египетское общество. Это весьма значительное общество
возникло в нижней долине Нила в 4‑м тысячелетии до н. э., а угасло в V в.
христианской эры, просуществовав от начала до конца, по крайней мере, втрое
дольше, чем существует западное общество[111]. Это общество
не имело ни «родителей», ни потомства. Ни одно из ныне живущих обществ не может
считать его своим предком. Тем больше торжество его бессмертия, достигнутого и
запечатленного в камне. Возможно, пирамиды, которые уже около пяти тысячелетий
являются немыми свидетелями существования своих создателей, в будущем переживут
еще сотни тысячелетий. Вполне вероятно, что они могут пережить самого человека
и что в мире, где более не будет человеческих умов, способных прочесть их
послание, они продолжат свидетельствовать: «Было еще до Авраама».
Эти огромные пирамидальные гробницы, тем не менее, являются
олицетворением истории египетского общества не только в указанном отношении. Мы
говорили, что это общество существовало около четырех тысячелетий, однако
половину этого периода египетское общество было не столько организмом живым,
сколько организмом умершим, но не погребенным. Более половины египетской
истории представляет собою гигантский эпилог.
Если мы проследим за этой историей, то обнаружим, что менее
четверти ее было периодом роста. Импульс, проявившийся сначала в господстве над
особенно грозным природным окружением – в расчистке, осушении и возделывании
болотистых джунглей, которые первоначально покрывали нижнюю долину и дельту
Нила, не оставляя места для человека, – и впоследствии продемонстрировавший
свою возрастающую силу в рано развившейся политической унификации египетского
мира в конце так называемого додинастического периода[112], достиг своей
вершины в изумительных материальных свершениях четвертой династии[113]. Эта династия
достигает своего зенита в характерных достижениях египетского общества – в
координации человеческого труда в великих инженерных предприятиях,
простирающихся от мелиорации болот до строительства пирамид. Это также зенит и
в политическом управлении, и в искусстве. Даже в сфере религии, где мудрость,
как общеизвестно, рождается страданием, так называемые «Тексты пирамид»
свидетельствуют о том, что эта эпоха видела также формирование, столкновение и
первую стадию взаимодействия двух религиозных движений – культа Солнца и культа
Осириса[114], достигших
своей зрелости уже после того, как египетское общество пришло в упадок.
При переходе от пятой династии к шестой, приблизительно в
2424 г. до н. э., зенит прошел, и наступил закат. В этот момент мы начинаем
узнавать знакомые симптомы упадка в том порядке, в каком они являются нам в
истории других обществ. Распад Египетского соединенного царства на множество
мелких государств, находящихся в постоянной войне друг с другом, несет
безошибочную печать «смутного времени». За египетским «смутным временем»
последовало около 2070 г. до н. э. универсальное государство, основанное
местной династией Фив и объединенное двенадцатой династией около 2000‑1788 гг.
до н. э.[115] После двенадцатой династии универсальное
государство распалось, и последующее междуцарствие повлекло за собой
Völkerwanderung в виде вторжения гиксосов.
Здесь может показаться, что наступил конец этого общества.
Если бы мы последовали нашей обычной методике исследования и действовали в
обратном направлении, начиная с V в. христианской эры, то, возможно,
остановились бы на этом месте и сказали: «Сейчас мы проследили ход египетской
истории на протяжении двадцати одного столетия, начиная с ее последних
исчезающих следов в V в. после Христа, и натолкнулись на Völkerwanderung,
последовавшее за универсальным государством. Мы проследили прошлое египетского
общества до его истоков и различили за ними конец более древнего общества,
которое мы назовем “нильским”».
Однако мы отвергнем такой ход мыслей, поскольку, продолжив
наше исследование, обнаружим не новое общество, а нечто совершенно отличное от
него. Варварское «государство‑наследник» низвергнуто, гиксосы изгнаны, а
универсальное государство со столицей в Фивах восстановлено – сознательно и
обдуманно[116].
Это восстановление было, с нашей нынешней точки зрения,
единственным значительным событием в египетской истории (за исключением
неудавшейся революции Эхнатона), произошедшим между XVI в. до н. э. и V в. н.
э. Жизнью этого универсального государства, постоянно уничтожаемого и
восстанавливаемого, наполнены все эти два тысячелетия. Нового общества здесь
нет. Если мы исследуем религиозную историю египетского общества, то обнаружим,
что и здесь после междуцарствия преобладала религия, заимствованная у правящего
меньшинства предшествующего века упадка. Однако она восторжествовала не без
борьбы, и на первых порах сохраняла свои позиции, войдя в отношения со
вселенской церковью, созданной в предшествующий век упадка египетским
внутренним пролетариатом из религии Осириса.
Религия Осириса пришла из Дельты, а не из Верхнего Египта,
где политическая история египетского общества завершилась. Основной нитью
египетской религиозной истории является соперничество между этим богом земного
и подземного миров – духом произрастания, попеременно появляющимся из земли и
исчезающим в ней, – и солнечным богом Неба, и этот богословский конфликт тесно
связан с политическим и социальным конфликтом между двумя частями общества, в
которых возникли два этих культа, и, в действительности, является его
теологическим выражением. Культ солнечного бога Ра контролировался жречеством
Гелиополя, а Ра представляли в образе фараона, тогда как культ Осириса был
народной религией. Это был конфликт между государственной церковью и народной
религией, обращенной к отдельному верующему.[117]
Решительное различие между двумя религиями в их исходных
формах было различием в той перспективе, которую они обещали своим приверженцам
после смерти. Осирис управлял массами мертвых в подземном мире теней. Ра – за
вознаграждение – избавлял своих приверженцев от смерти и возносил их живыми на
небо. Но этот апофеоз предназначался для тех, кто мог заплатить цену, которая
постоянно росла, пока солнечное бессмертие не стало фактически монополией
фараона и тех его придворных, на материальное увековечение которых он решал
жертвовать. Великие пирамиды – памятники этому стремлению сохранить личное
бессмертие при помощи архитектурных крайностей.
Между тем, религия Осириса делала успехи. Бессмертие,
которое она обещала, может быть, выглядело беднее по сравнению с пребыванием в
небесном мире Ра, но оно было единственным утешением, на которое могли
надеяться массы, жестоко угнетенные в этой жизни, обеспечивая вечное блаженство
своим господам. Египетское общество раскололось на правящее меньшинство и
внутренний пролетариат. Столкнувшись с этой опасностью, жречество Гелиополя
попыталось обезвредить Осириса, приняв его в партнеры, но от этой сделки Осирис
получил гораздо больше, чем дал. Войдя в фараоновский солнечный культ, он
завоевал солнечный ритуал апофеоза для народных масс. Памятником этого
религиозного синкретизма является так называемая «Книга мертвых» –
«путеводитель к бессмертию для каждого», которая бытовала в религиозной жизни
египетского общества на протяжении двух тысячелетий его «эпилога». Возобладала
идея о том, что Ра, скорее, требует праведности, нежели пирамид, и в подземном
мире в качестве судьи появляется Осирис, раздавая мертвым те уделы, которые они
заслужили в своей земной жизни.
Здесь в эпоху египетского универсального государства мы
различаем очертания вселенской церкви, созданной внутренним пролетариатом.
Каково же было бы будущее это Осирисовой церкви, если бы египетское
универсальное государство не было восстановлено? Не стала ли бы она куколкой
нового общества? Прежде всего, нам следовало бы ожидать, что она пленит
гиксосов, как христианская церковь пленила варваров. Но этого не произошло.
Ненависть к гиксосам привела ее к тому, что она вступила в противоестественный
союз с мертвой религией правящего меньшинства, и в этом процессе религия
Осириса извратилась и деградировала. Бессмертие еще раз стало предметом купли‑продажи,
хотя ценой теперь была уже не пирамида, а лишь небольшой текст на папирусном
свитке[118]. Мы можем
предположить, что в этом бизнесе, как и в других, массовое производство дешевых
изделий с небольшой разницей между себестоимостью и продажной ценой приносило
изготовителю неплохой доход. Таким образом, «реставрация» в XVI в. до н. э.
представляла собой нечто большее, чем восстановление универсального
государства. Она явилась слиянием живых тканей Осирисовой церкви с мертвыми
тканями умирающего египетского общества в единую массу – род социального
бетона, который выдержал два тысячелетия.
Лучшим доказательством того, что восстановленное египетское
общество было лишено жизни, стала полная неудача, которой закончилась
единственная попытка поднять общество из мертвых. На этот раз один человек,
фараон Эхнатон, мановением руки пытался повторить акт религиозного творения,
тщетно совершенный Осирисовой церковью внутреннего пролетариата в давно прошедшие
века «смутного времени». Одним своим гением Эхнатон создал новую концепцию Бога
и человека, жизни и природы и выразил ее в новом искусстве и поэзии. Но мертвые
общества нельзя вернуть к жизни таким способом. Его неудача – доказательство
того, что у нас есть все основания считать социальные явления египетской
истории, начиная с XVI в. до н. э., скорее эпилогом, чем историей нового
общества от колыбели до могилы.
Андское, юкатанское, мексиканское и майянское общества.
Америка до прихода испанских конкистадоров породила четыре упомянутых выше
общества. Андское общество в Перу уже достигло состояния универсального
государства – империи инков[119], когда было
уничтожено Писарро в 1530 г.[120] Мексиканское общество приближалось к подобному
же состоянию, а государством, которому предопределено было стать универсальным,
являлась империя ацтеков[121]. Ко времени
экспедиции Кортеса[122] город‑государство Тласкала[123] был единственной оставшейся независимой
державой, имевшей какое‑то значение, а тласкальцы впоследствии поддерживали
Кортеса. Юкатанское общество на полуострове Юкатан было поглощено мексиканским
обществом примерно четырьмя столетиями ранее[124]. И
мексиканское, и юкатанское общества были аффилированными по отношению к более
древнему обществу – майянскому, которое, по‑видимому, достигло более высокой и
более гуманной цивилизации, чем его наследники[125]. Оно пришло к
быстрому и таинственному концу в VII в. после Христа, оставив в качестве
свидетельства своего существования руины великих городов в насквозь промокших
от дождя лесах Юкатана. Это общество преуспело в астрономии, которую
использовало в системе хронологии, удивительно точной в своих вычислениях.
Ужасающие религиозные обряды, открытые Кортесом в Мексике, по‑видимому,
являлись грубо варваризованной версией древней религии майя.
Наши поиски, таким образом, принесли нам девятнадцать
обществ, большинство из которых связано сыновне‑отеческими связями с одним или
несколькими другими обществами, а именно: западное, православное, иранское,
арабское(два последних ныне объединены в одном исламском), индусское,
дальневосточное, эллинское, сирийское, индское, древнекитайское, минойское,
шумерское, хеттское, вавилонское, египетское, андское, мексиканское, юкатанское
и майянское. Мы выразили сомнение в том, следует ли отделять существование
вавилонского общества от шумерского, а некоторые другие пары, по‑видимому,
могут рассматриваться как единое общество с «эпилогом», по египетской аналогии.
Но мы будем уважать их индивидуальность до тех пор, пока не найдем причину
поступать иначе. В действительности, было бы желательно разделить православно‑христианское
общество на православно‑византийское и православно‑русское, а дальневосточное –
на китайское и корейско‑японское. Это увеличило бы количество наших обществ до
двадцати одного. Дальнейшее объяснение и защиту наших трудов следует отложить
до следующей главы.
III. Сравнимость
обществ
1. Цивилизации и примитивные общества
Прежде чем продолжить систематическое сравнение наших
двадцати одного общества, что является целью данной книги, мы должны ответить
на некоторые возможные возражения а limine[126].
Первый и простейший аргумент против предложенной нами методики можно
сформулировать следующим образом: «Эти общества не имеют между собой никаких
общих черт, за исключением того факта, что все они являются “умопостигаемыми
полями исследования”, а эта черта настолько неопределенна и обща, что нельзя
придавать ей значения».
Ответ заключается в том, что общества, являющиеся
«умопостигаемыми полями исследования», представляют собой род, внутри которого
наши двадцать один представитель составляют один особый вид. Общества данного
вида обычно называют цивилизациями, чтобы отделить их от примитивных обществ,
которые также являются «умопостигаемыми полями исследования» и образуют другой,
а фактически – второй [из двух] вид внутри рода. Следовательно, все наши
двадцать одно общество должны обладать одной специфической чертой, которая
состоит в том, что только эти общества находятся в процессе цивилизации.
Сразу же приходит на ум и другое отличие между двумя видами.
Количество известных цивилизаций невелико. Количество известных примитивных
обществ гораздо больше. В 1915 г. западные антропологи, намереваясь провести
сравнительное исследование примитивных обществ и ограничившись лишь теми, о
которых имелось достаточно информации, зарегистрировали их около 650, по
большей части живых и на сегодняшний день. Нельзя создать какую‑либо концепцию
многочисленных примитивных обществ, которые должны родиться и которые уже
умерли с того времени, как человек стал человеком, возможно, триста тысяч лет
назад, но очевидно, что численное превосходство примитивных обществ над
цивилизациями поразительно.
Почти одинаково поразительным является превосходство
цивилизаций над примитивными обществами по отдельным параметрам. Примитивные
общества – их же легион – относительно недолговечны, ограничены относительно
узким географическим пространством и охватывают относительно небольшое число
людей. Возможно, что если бы мы могли провести перепись членов пяти доныне
живых цивилизаций на протяжении тех немногих веков, когда они существовали, мы
обнаружили бы, что каждый из наших левиафанов[127] поодиночке охватывает больше человеческих
существ, чем могли бы собрать все примитивные общества вместе взятые со времени
появления рода человеческого. Однако мы изучаем не индивидов, а общества, и
немаловажным фактом для поставленной нами цели является то, что количество
известных цивилизованных обществ было сравнительно небольшим.
2. Ложная концепция «единства цивилизации»
Второй аргумент против сравнимости наших двадцати одной
цивилизации является полной противоположностью первому. Он заключается в том,
что не существует двадцати одного отдельного представителя подобного вида
обществ, но есть только одна цивилизация – наша собственная.
Этот тезис о единстве цивилизации является ложной
концепцией, к которой современных западных историков привело влияние их
социального окружения. Особенность, вводящая в заблуждение, состоит в том, что
в современности собственная наша западная цивилизация набросила сеть своей
экономической системы на весь мир, а за этой экономической унификацией на
западной основе последовала унификация политическая на той же самой основе,
продвинувшаяся почти столь же далеко. И хотя завоевания западных армий и
правительств не были ни столь обширными, ни столь основательными, как
завоевания западных промышленников и специалистов, тем не менее, остается
фактом, что все государства современного мира образуют часть одной политической
системы западного происхождения.
Эти факты поражают, но рассматривать их в качестве
доказательства единства цивилизации можно лишь с поверхностной точки зрения.
Хотя экономическая и политическая карты мира на сегодняшний момент
вестернизированы, культурная карта остается, по существу, такой же, какой была
до того, как западное общество начало свои экономические и политические
завоевания. В культурном плане для тех, у кого есть глаза, очертания четырех
живых незападных цивилизаций видятся достаточно четкими. Но многие этого не
видят, и мировоззрение этих людей можно пояснить, используя английское слово
«natives» (туземцы) и подобные же слова из других европейских языков.
Когда мы, жители Запада, называем какой‑либо народ
«туземцами», то подразумеваем культурный колорит, выходящий за пределы нашего
понимания их. Мы смотрим на них как на кишащих вокруг диких животных, на
которых случайно натолкнулись, как на часть местной флоры и фауны, а не как на
людей с такими же страстями, как у нас. До тех пор, пока мы думаем о них как о
«туземцах», мы истребляем их или (что более приемлемо на сегодняшний день)
приручаем и искренне (возможно, и не всецело ошибочно) верим, что улучшаем
породу, но от этого не начинаем их понимать.
Но кроме иллюзий, вызванных всемирным успехом западной
цивилизации в материальной сфере, ложная концепция «единства истории»
(включающая допущение, что есть лишь единственная река цивилизации – нашей
собственной, а все другие являются или ее притоками, или же затеряны в песках
пустынь) может происходить из трех корней: иллюзии эгоцентризма, иллюзии
«неизменного Востока» и иллюзии прогресса как прямолинейного движения.
Что касается иллюзии эгоцентризма, то она вполне
естественна, и все, что здесь нужно сказать, это то, что мы, жители Запада,
являемся далеко не единственными ее жертвами. Евреи пребывали в иллюзии, что
они не один из «избранных народов», но единственный «избранный
народ». Тех, кого мы называем «туземцами», они называли «гоями», а греки –
«варварами». Но наиярчайшим цветком эгоцентричности, возможно, является
официальное послание, врученное в 1793 г. китайским императором‑философом Цзянь‑луном
британскому посланнику для передачи его господину, королю Георгу III:
«Ты, о король, живешь за границами многих морей, однако,
принужденный своим смиренным желанием способствовать благу нашей цивилизации,
ты отправил посольство, почтительно преподнесшее твое прошение… Я внимательно
рассмотрел твое прошение. Скромные выражения, в которых оно изложено, показывают
почтительное смирение с твоей стороны, которое достойно высокой похвалы…
Что касается твоей просьбы отправить одного из твоих
соотечественников для аккредитации при моем Небесном Дворе и для контроля за
торговлей твоей страны с Китаем, то просьба эта противоречит всем обычаям моей
Династии и не может быть удовлетворена… Если ты утверждаешь, что твое почтение
к нашей Небесной Династии исполняет тебя желанием ознакомиться с нашей
цивилизацией, то наши церемонии и кодекс законов настолько сильно отличаются от
твоих, что даже если бы твой посланник и был способен усвоить зачатки нашей
цивилизации, ты бы не смог перенести наши нравы и обычаи на свою, чужую для нас
почву. Следовательно, каким бы сведущим ни стал твой посланник, от этого не
было бы никакой пользы.
Управляя всем миром, я стремлюсь только к одной цели, а
именно: поддерживать совершенное правление и выполнять государственные
обязанности. Неизвестные и дорогостоящие предметы не интересуют меня. Если я
приказал, чтобы верноподданнические подношения, присланные тобой, о король,
были приняты, то сделал это единственно по причине уважения к тому духу,
который побудил тебя отправить их издалека. Царственная добродетель нашей
Династии пронизывает собою все страны Поднебесной, и цари всех народов
присылали свои дорогие дары по суше и по морю. Как мог твой посол видеть своими
глазами, у нас есть все. Я не ценю вещи непривычные или оригинальные и не
нуждаюсь в изделиях твоей страны»{25}.
В ходе столетия, последовавшего за сочинением этого
официального послания, гордыня соотечественников Цзянь‑луна не довела их до
добра. Такова, как известно, судьба гордыни.
Иллюзия «неизменного Востока» является настолько
общераспространенной и не основанной ни на каком серьезном исследовании
иллюзией, что поиск ее причин не представляет собой большого значения или
интереса. Возможно, она вызвана тем фактом, что «Восток», который в данном
контексте означает все страны от Египта до Китая, некогда шел далеко впереди
Запада, а теперь оказался далеко позади. Ergo[128],
в то время как мы движемся, он все еще стоит. В особенности мы не должны
забывать, что для среднего европейца единственной знакомой главой древней
истории «Востока» была раньше та, что содержится в повествованиях Ветхого
Завета. Когда современные западные путешественники замечали со смешанным
чувством изумления и восхищения, что жизнь людей на трансиорданской границе
Аравийской пустыни точь‑в‑точь соответствует описанию жизни патриархов в Книге
Бытия, неизменный характер Востока, казалось бы, находил подтверждение. Но то,
с чем сталкивались путешественники, было не «неизменным Востоком», но
неизменной Арабской степью. В степи природное окружение является столь
безжалостным надсмотрщиком над человеческими жизнями, что их способность к
приспособлению ограничена весьма узкими рамками. Во все века степь
обусловливала для всякого человеческого существа, которое имело смелость быть
ее обитателем, жесткий и однообразный образ жизни. В качестве доказательства
«неизменности Востока» такой аргумент легкомыслен. Например, в западном мире
существуют недоступные для нашествия современных туристов Альпийские долины,
обитатели которых живут так же, как жили во дни Авраамовы их предшественники. С
одинаковым успехом можно было бы вывести из этого доказательство «неизменности
Запада».
Иллюзия прогресса как прямолинейного развития является
примером той тенденции к нарочитому упрощению, которую проявляет во всех сферах
своей деятельности человеческий ум. В своих «периодизациях» наши историки
размещают периоды непрерывной цепью в единой последовательности, подобно
сегментам бамбука от сочленения к сочленению или же подобно частям оригинальной
раздвижной рукояти, на конце которой нынешние трубочисты проталкивают свои
щетки в дымоход. На этом приспособлении, которое наши историки получили в
наследство, первоначально было только два соединения: «древнее» и «новое»,
примерно, хотя и не точно, соответствовавшие Ветхому и Новому Заветам и
двойственному отсчету дат в обоих направлениях до Рождества Христова и после.
Эта дихотомия исторического времени является реликтом мировоззрения внутреннего
пролетариата эллинского общества, выражавшего свое чувство отчуждения от
эллинского правящего меньшинства через абсолютное противопоставление старого
эллинского воздаяния и воздаяния христианской церкви и, таким образом,
поддавшегося иллюзии (гораздо более извинительной для них с их ограниченными
знаниями, чем для нас) трактовать переход от одного из наших двадцати одного
общества к другому как поворотный пункт всей человеческой истории[129].
А так как время шло, наши историки нашли удобным удлинить
свою «телескопическую щетку», добавив третье звено, которое они назвали
«средневековым», поскольку поместили его между двумя другими. Но тогда как
разделение между «древним» и «новым» символизировало разрыв между эллинской и
западной историей, разделение между «средневековым» и «новым» символизирует
лишь переход от одной главы западной истории к другой. Формула «древнее +
средневековое + новое» является ложной. Ее следует поправить на «эллинское + западное
(средневековое + новое)». Однако даже если этого и не делать, то, удостаивая
один раздел главы западной истории названия отдельного «периода», должны ли мы
отказать в этой чести другим? Нет никакого основания подчеркивать разделение
приблизительно около 1475 г. в большей степени, чем около 1075‑го, и нет
достаточной причины утверждать, что мы недавно перешли в новую главу, начало
которой можно поместить примерно в 1875 г. Так мы имеем:
Западная история 1 («темные века»), 675‑1075 гг.
Западная история II («средние века»), 1075‑1475 гг.
Западная история III («новое время»), 1475‑1875 гг.
Западная история IV («постмодерн»?), 1875–?
Но мы отклонились от сути, которая состоит в том, что
постановка знака равенства между эллинской и западной историей и Историей самой
по себе, – если хотите, «древней и новой» – является просто узостью и
дерзостью. Это как если бы географ написал книгу под названием «Всемирная
география», которая бы оказалась лишь исследованием всего, что касается
бассейна Средиземного моря и Европы.
Существует другая, весьма отличная от этой, концепция
единства истории, совпадающая с теми популярными традиционными иллюзиями,
которые обсуждались до сих пор, в том, что расходится с [основным] тезисом
данной книги. Здесь мы сталкиваемся не с «идолом рынка»[130], но с плодом
современного антропологического теоретизирования: мы имеем в виду
диффузионистскую теорию, как она изложена в книгах Г. Эллиот‑Смита «Древние египтяне
и происхождение цивилизации»[131] и У. Дж. Перри «Дети солнца: исследование
древней истории цивилизации»[132]. Эти авторы
верят в «единство цивилизации» в особом смысле: не как в факт вчерашнего или
завтрашнего дня, уже совершившийся благодаря всемирной диффузии одной‑единственной
западной цивилизации, но как в факт, совершавшийся тысячелетия назад благодаря
диффузии египетской цивилизации – как оказалось, одной из немногих мертвых
цивилизаций, для которой мы не смогли установить хоть какого‑нибудь «потомства».
Они полагают, что египетское общество представляет собой единственный случай,
где такое явление, как цивилизация, было создано независимо, без помощи извне.
Все другие проявления цивилизации происходят из Египта, включая американскую
цивилизацию, куда египетское влияние, должно быть, проникло через Гавайи и
остров Пасхи.
Теперь, конечно же, очевидно, что диффузия является
способом, которым многие технические приемы, склонности, институты и идеи – от
алфавита до швейных машинок Зингера – передавались от одного общества другому.
Диффузией объясняется нынешнее повсеместное распространение дальневосточного
чая, арабского кофе, центральноамериканского какао, амазонского каучука,
центральноамериканской практики курения табака, шумерской практики двенадцатеричного
счета, примером которой служит наш шиллинг[133], так
называемых арабских цифр, которые первоначально, возможно, пришли с полуострова
Индостан, и так далее. Но тот факт, что винтовка получила повсеместное
распространение благодаря диффузии из одного центра, где она была однажды и
единожды изобретена, не является доказательством того, что лук и стрелы
распространились точно так же. И отсюда также не следует, что если механический
ткацкий станок распространился по всему миру из Манчестера, то подобным же
образом можно проследить распространение техники металлургии из одной точки. В
данном случае мы имеем дело с очевидностью совсем иного рода.
Но в любом случае, цивилизации, вопреки извращенным понятиям
современного материализма, не строятся из подобных кирпичей. Они не строятся из
швейных машинок, табака и винтовок, ни даже из алфавитов и цифр. Легкоторговцу
экспортировать новую западную технику. Бесконечно тяжелее западному поэту или
святому воспламенить незападную душу духовным пламенем, который горит в его
собственной. Отдавая должное диффузии, необходимо подчеркнуть и ту роль,
которую играло в человеческой истории оригинальное творчество. Мы можем
вспомнить, что искра или росток оригинального творчества может вспыхнуть
пламенем или расцвести цветком в любом проявлении жизни благодаря принципу
единообразия природы. По крайней мере, мы можем зайти настолько далеко, что
даже взвалим onus probandi[134] на плечи диффузионистов в тех случаях, когда
остается открытым вопрос, называть или не называть диффузией требование доверия
к любому отдельному человеческому достижению.
«Не может быть ни малейшего сомнения, – писал Фримен в 1873
г., – что многие из наиболее существенных открытий цивилизованной жизни
совершались вновь и вновь, в отдаленные друг от друга эпохи и в отдаленных друг
от друга странах, как только различные народы достигали в своем общественном
развитии определенных моментов, когда в этих изобретениях нуждались в первую
очередь. Так, книгопечатание было независимо изобретено в Китае и средневековой
Европе. Хорошо известно, что, в сущности, тот же процесс использовался в
различных целях и в Древнем Риме, хотя никто не сделал великого шага, применив
процесс, обычно использовавшийся для целей более посредственных, к изданию
книг. То, что произошло с книгопечатанием, можно полагать, произошло также и с
письменностью, и мы можем привести еще один пример искусства совсем иного рода.
После сравнения остатков древних зданий в Египте, Греции, Италии, на Британских
островах и в разрушенных городах Центральной Америки, не может быть сомнений,
что великие изобретения арки и купола делались не раз в истории человеческого
искусства… Нет нужды сомневаться и в том, что многие простейшие и наиболее
необходимые в цивилизованной жизни искусства – использование мельницы, лука,
приручение лошади, выдалбливание каноэ – открывались неоднократно в отдаленные
друг от друга эпохи и в отдаленных друг от друга местах… То же самое касается и
политических институтов. Одни и те же институты часто кажутся весьма далекими
друг от друга просто из‑за того, что вызвавшие их к жизни обстоятельства возникли
в эпохи и в местах, весьма друг от друга удаленных»{26}.
Современный антрополог высказывает ту же самую идею:
«Сходство в человеческих идеях и практиках главным образом происходит из
одинаковой структуры человеческого мозга во всем мире и, как следствие, из
одинаковой природы его сознания. Поскольку этот телесный орган на всех
известных стадиях человеческой истории по своей конституции и нервным процессам
в основном был одним и тем же, постольку и сознание обладало определенными
универсальными характеристиками, возможностями и способами действия… Эта
схожесть в работе мозга видна в XIX столетии на примере интеллектов Дарвина и
Рассела Уоллеса[135], которые,
работая над одними и теми же данными, одновременно пришли к теории эволюции.
Эта же схожесть объясняет многочисленные претензии на первенство в отношении
одного и того же изобретения или открытия. Схожими процессами в общественном
сознании расы – более фрагментарном в своих сведениях, более рудиментарном по
своим возможностям и более неопределенном по своим результатам – объясняется
возникновение таких верований и институтов, как тотемизм, экзогамия и многие
очистительные ритуалы у самых изолированных народов в самых изолированных
частях света»{27}.
3. Доказательства в пользу сравнимости
цивилизаций
Сейчас мы рассмотрели два противоположных возражения на наш
план сравнительного исследования. Одно из них состоит в том, что наши двадцать
одно общество якобы не имеют общих черт, за исключением того, что они являются
«умопостигаемыми полями исторического исследования», а другое – в том, что
«единство цивилизации» якобы сводит кажущееся множество цивилизаций к одной.
Однако наши критики, даже если и примут наши ответы на их возражения в одном
пункте, могут возразить в другом и отрицать, что наши цивилизации сравнимы на
том основании, что они не одновременны. Семь из них еще живы, четырнадцать
угасли, и по меньшей мере три из них – египетская, шумерская и минойская –
существовали на «заре истории». Эти три [цивилизации], а возможно, и другие
хронологически отделены от живых всем пространством «исторического времени».
Возражение состоит в том, что время относительно, и промежуток
менее чем в шесть тысячелетий от возникновения древнейшей из известных
цивилизаций до сегодняшнего дня следует измерять в целях нашего исследования по
соответствующей временной шкале, то есть в сроках жизни самих же цивилизаций.
Изучив отношения между цивилизациями во времени, мы обнаружим, что наибольшее
число сменяющих друг друга «поколений», которое нам встретилось, три, и в
каждом случае эти три [«поколения»] охватывают пространство большее, чем наши
шесть тысяч лет, поскольку последним элементом в каждом ряду является одна из
ныне живущих цивилизаций.
Тот факт, что в нашем обзоре цивилизаций мы не нашли более
трех сменяющих друг друга «поколений», означает, что этот вид очень молод в
сроках своей собственной временной шкалы. Кроме того, его абсолютный возраст на
сегодня очень мал по сравнению с абсолютным возрастом примитивных обществ
сестринского вида, которые являются ровесниками самого человека и,
следовательно, существуют, по средней оценке, 300 тысяч лет. Обойдемся без
упоминания о том, что некоторые цивилизации существовали на «заре истории»,
поскольку то, что мы называем историей, есть история человека в
«цивилизованном» обществе. Однако если бы под историей мы понимали весь период
жизни человека на планете Земля, мы бы обнаружили, что период возникновения
цивилизаций, весьма далекий от того, чтобы быть ровесником человеческой
истории, занимает лишь два процента ее, одну пятидесятую часть жизни
человечества. В таком случае для наших целей можно допустить, что эти
цивилизации сравнительно одновременны друг другу.
Наши критики, предположительно, исчерпав свою аргументацию
относительно временной протяженности, снова могут отрицать сравнимость
цивилизаций на основании их различной ценности. Не является ли большинство
обществ, претендующих называться цивилизациями, до такой степени
незначительными, до такой степени фактически «нецивилизованными», что
установление параллелей между их опытом и опытом «настоящих» цивилизаций
(таких, конечно же, как наша собственная) – просто излишняя трата интеллектуальной
энергии? В этом месте можно попросить читателя отложить приговор до тех пор,
пока он не увидит, что выйдет из таких интеллектуальных усилий, какие мы
предлагаем его вниманию. Между тем пусть он вспомнит, что ценность, как и
время, понятие относительное; что все наши двадцать одно общество, как
окажется, достигли очень многого по сравнению с обществами примитивными; а если
измерять их каким‑либо идеальным мерилом, то обнаружится, что все они пали до
такой степени низко, что ни одно из них не в состоянии «бросить камень первым»[136].
Фактически мы утверждаем, что наши двадцать одно общество
гипотетически следует рассматривать в качестве одновременных и эквивалентных, с
философской точки зрения.
И, наконец, даже если мы предположим, что критики до сих пор
с нами соглашались, то они могут выбрать установку, согласно которой история
цивилизаций – не что иное, как вереница исторических фактов, каждый
исторический факт по сути своей уникален, а история не повторяется.
Возражение состоит в том, что хотя всякий факт, подобно
всякому человеку, уникален и, следовательно, в некоторых отношениях несравним,
в других отношениях он может быть членом своего класса и, следовательно,
сравниваться с другими членами данного класса – постольку, поскольку подпадает
под классификацию. Два живых тела – животное и растительное – совершенно
непохожи, однако это не делает недействительными такие науки, как психология,
биология, ботаника, зоология и этнология. Сознания людей отличны друг от друга
даже еще более неуловимым образом, однако мы признаем право психологии на
существование и влияние, как бы сильно не расходились мы во мнениях
относительно ценности ее новейших достижений. Таким же образом мы признаем
сравнительное исследование примитивных обществ под названием антропологии. То,
чем мы предполагаем заняться, есть попытка сделать с «цивилизованными» видами
обществ нечто вроде того, что антропология делает с видами примитивными.
Но наша позиция будет прояснена в последней части этой
главы.
4. История, наука и вымысел
Существует три различных метода рассмотрения и представления
предметов нашей мысли, в том числе и явлений человеческой жизни. Первый –
установление и регистрация «фактов»; второй – выведение посредством сравнительного
исследования установленных фактов общих «законов»; третий – художественное
воссоздание фактов в форме «вымысла». Обычно предполагается, что установление и
регистрация фактов являются методом истории, а явления из области этого метода
– общественные явления цивилизаций; что выведение и формулировка общих законов
являются методом науки, что в исследовании человеческой жизни наукой в качестве
науки выступает антропология, а явления из области этого научного метода –
общественные явления примитивных обществ; и, наконец, что вымысел – это метод
драмы и романа, а явления из этой области – личные отношения между
человеческими существами. Все это, в сущности, можно найти в работах
Аристотеля.
Однако распределение этих трех методов между тремя областями
исследования обосновано в меньшей степени, чем можно было бы предположить.
Например, история не занимается регистрацией всех фактов человеческой жизни.
Она оставляет в стороне факты общественной жизни примитивных обществ, на
основании которых антропология выводит свои «законы», и передает факты
биографии, касающиеся индивидуальных жизней, хотя почти всякое индивидуальное
существование, представляющее достаточный интерес и значение для того, чтобы
быть зарегистрированным, проходило не в примитивных обществах, а в том или ином
из цивилизованных обществ, которые обычно рассматривались как область истории.
Таким образом, история занимается лишь некоторыми, а не всеми фактами
человеческой жизни. С другой стороны, помимо регистрации фактов, история
прибегает также к помощи вымысла и пользуется законами.
История, подобно драме и роману, выросла из мифологии,
примитивной формы представления и выражения, где, так же как и в сказках,
которые слушают дети, или во снах, которые снятся искушенным взрослым, граница
между фактом и вымыслом остается открытой. Например, говорили, что «Илиада» для
всякого, кто начнет читать ее как историю, окажется полной выдумкой, но равным
образом и для всякого, кто начнет читать ее как вымысел, она окажется полна
истории. Все истории похожи на «Илиаду» в том отношении, что не могут полностью
освободиться от элемента вымысла. Простой отбор, упорядочение и показ фактов –
метод, относящийся к сфере вымысла, и совершенно право общераспространенное
мнение, настаивающее на том, что не может быть «великим» историк, не являющийся
великим художником, и что Гиббон и Маколей[137] – более великие историки, чем «драйездасты»[138] (имя, вымышленное сэром Вальтером Скоттом,
который сам в отдельных своих романах был большим историком, чем в любой из
своих «историй»), избегавшие фактических неточностей своих более вдохновенных
собратьев. В любом случае вряд ли возможно написать две связные строчки
исторического повествования, не прибегая к таким вымышленным персонификациям,
как «Англия», «Франция», «консервативная партия», «Церковь», «пресса» или
«общественное мнение». Фукидид[139] драматизировал «исторических» персонажей,
вкладывая «вымышленные» речи и диалоги в их уста, но его oratio recta[140],
хотя и более живая, на самом деле не менее вымышлена, чем тяжеловесная oratio
obliqua[141],
в которой современники показывают свои сложные фотографии общественному мнению.
С другой стороны, история наняла на службу некоторое
количество вспомогательных наук, которые формулируют общие законы не
относительно примитивных обществ, но относительно цивилизаций, – то есть
экономику, политологию и социологию.
Хотя в этом и нет необходимости для нашей аргументации, мы
можем показать, что точно так же, как история не свободна от использования
методов науки и художественного творчества, так и наука с художественным
творчеством никоим образом не ограничиваются тем, что считается их собственными
методами. Все науки проходят через стадию, на которой выяснение и регистрация
фактов являются единственным доступным для них родом деятельности, и
антропология едва выходит из этой фазы. Наконец, драма и роман не представляют
собой вымысел, полный вымысел и ничего, кроме вымысла, касательно личных
отношений. Если бы это было так, то их плод, вместо заслуженной похвалы
Аристотеля за то, что он «истиннее и философичнее истории»[142], состоял бы
из бессмысленных и невыносимых фантазий. Когда мы называем литературное
произведение плодом художественного вымысла, то имеем в виду лишь то, что
нельзя ни героев отождествлять с любым человеком, жившим во плоти, ни
вымышленные эпизоды – с любыми частными событиями, действительно имевшими
место. Фактически, мы имеем в виду, что вымышленным является передний личный план
произведения. Если мы и не упоминаем о том, что задним планом являются
подлинные факты общественной жизни, то попросту потому, что это кажется
настолько самоочевидным, что не требует доказательств. Действительно, мы
осознаем, что высочайшей похвалой, которую мы только можем воздать хорошему
произведению художественного творчества, будут слова «жизненно правдивый» и что
«автор показывает глубокое понимание человеческой природы». Чтобы быть точнее,
скажем: если роман имеет дело с вымышленной семьей йоркширских шерстяных
фабрикантов, то мы можем похвалить автора, сказав, что он, несомненно, знает
фабричные города своего Уэст Райдинга во всех отношениях.
Тем не менее аристотелевское различение между методами
истории, науки и художественного творчества, в общем, остается ценным, и,
возможно, мы поймем почему, если рассмотрим эти методы вновь. Мы обнаружим, что
они отличаются друг от друга пригодностью для распределения «данных» различной
величины. Выяснение и регистрация отдельных фактов – это все, что возможно в
той сфере исследования, где данных оказалось мало. Выведение и формулировка
законов одинаково возможны и необходимы там, где данные слишком многочисленны
для того, чтобы свести их в таблицы, и не слишком многочисленны, чтобы их
обозреть. Форма художественного творчества и выражения, называемая вымыслом,
является единственным методом, который может употребляться или который стоит
употреблять там, где данные неисчислимы. Здесь, в трех этих методах, мы
сталкиваемся с существенной разницей в количестве. Методы отличаются по своей
пригодности в трактовке различного количества данных. Можем ли мы разглядеть
соответствующую разницу в количестве данных, действительно представленных в
трех соответствующих сферах нашего исследования?
Начиная с исследования личных отношений, являющихся сферой
художественного вымысла, мы можем сразу же увидеть, что есть немного индивидов,
чьи личные отношения представляют такой интерес и такое значение, что их можно
было бы взять в качестве подходящего предмета для той регистрации отдельных
личных фактов, которую мы называем биографией. За редкими исключениями, те, кто
изучает человеческую жизнь, сталкиваются в сфере личных отношений с
бесчисленными примерами повсеместно знакомых опытов. Сама идея исчерпывающей
записи этих отношений – абсурдна. Всякая формулировка их «законов» была бы
невыносимо пошлой или невыносимо грубой. В подобных обстоятельствах данные не
могут быть существенным образом выражены, кроме как в некоего рода нотации,
которая дает интуицию бесконечного в конечных формах. Такой нотацией является
художественный вымысел.
Обнаружив, наконец, в количественных выражениях частичное
объяснение того факта, что в исследовании личных отношений использование метода
художественного вымысла обычно, давайте посмотрим, не сможем ли мы найти
подобные же объяснения для обычного использования законополагающего метода в
исследовании примитивных обществ и метода фактографического в исследовании
цивилизаций.
Первое, что можно заметить, это то, что две другие сферы
исследования касаются человеческих отношений, но не отношений хорошо знакомого,
личного свойства, входящих в непосредственный опыт каждого мужчины, женщины и
ребенка. Общественные отношения человеческих существ простираются далеко за
пределы самого дальнего возможного диапазона личных контактов, и эти безличные
контакты поддерживаются благодаря социальным механизмам, называемым
институтами. Без институтов общества не могли бы существовать. Действительно,
общества сами являются институтами, просто институтами высочайшего рода. Исследование
обществ и исследование институциональных отношений – одно и то же.
Мы можем сразу же увидеть, что количество данных, с которыми
сталкиваются исследователи институциональных отношений между народами, гораздо
меньше, чем количество данных, с которыми сталкиваются исследователи личных
отношений. Далее мы можем увидеть, что количество зафиксированных
институциональных отношений, относящихся к исследованию примитивных обществ,
будет гораздо большим, чем количество отношений, относящихся к исследованию обществ
«цивилизованных». Так, количество известных примитивных обществ достигает
примерно шестисот пятидесяти, в то время как наш обзор обществ, находящихся в
процессе цивилизации, дал нам возможность идентифицировать самое большее
двадцать одно. Теперь шестисот пятидесяти примеров (количества, лишающего
необходимости заниматься вымыслом) будет вполне достаточно, чтобы дать
исследователю возможность начать формулировку законов. С другой стороны, у тех,
кто изучает явление, примеров которого известна лишь дюжина или две, отбивается
всякая охота делать что‑либо, кроме как сводить факты в таблицу. Это, как мы
видели, та стадия, на которой «история» оставалась так долго.
На первый взгляд может показаться парадоксальным
утверждение, что количество данных, которые исследователь цивилизации имеет в
своем распоряжении, до неудобства мало, в то время как наши современные
историки жалуются, что завалены массой своих материалов. Но в силе остается то,
что фактов высшего порядка, «умопостигаемых полей исследования», сравнимых
единиц истории до неудобства мало для того, чтобы применять научные методы
выведения и формулировки законов. Тем не менее на собственный страх и риск мы
собираемся отважиться на подобную попытку, и результаты этого будут отражены в
оставшейся части данной книги.
II.
Возникновение
цивилизаций
IV.
Проблема и неверные пути ее решения
1. Формулировка проблемы
Как только мы подходим к проблеме, почему и как возникли
цивилизованные общества, то осознаем, что наш список из двадцати одного
общества данного вида распадается в связи с этим на две группы. Пятнадцать из
наших обществ являются аффилированными по отношению к предшественникам того же
вида. Из них несколько состоят в столь тесных сыновне‑отеческих отношениях, что
можно сомневаться в их отдельном бытии, в то время как те несколько, что
находятся с противоположной стороны шкалы, связаны [со своими отеческими
обществами] настолько свободно, что метафора, предполагаемая понятием
аффилиации, как может показаться, уведет нас слишком далеко. Но не будем об
этом говорить. Эти пятнадцать в большей или меньшей степени аффилированных
обществ составляют группу, отличную от тех шести, которые, как мы можем видеть,
возникли прямо из примитивной жизни. Возникновению именно этих шести мы и
уделим сейчас свое внимание. Это египетское, шумерское, минойское,
древнекитайское, майянское и андское общества.
В чем существенное различие между примитивными и высшими
обществами? Оно состоит не в наличии или отсутствии институтов, ведь институты
– это проводники безличных отношений между индивидами, существующие во всех
обществах, ибо даже самые небольшие общества построены на основании более
широком, чем узкий круг непосредственных личных связей индивидов. Институты
являются атрибутом рода «обществ» в целом и, следовательно, свойством, общим
для обоих его видов. В примитивных обществах есть свои институты: религия
годового земледельческого цикла; тотемизм и экзогамия; табу, инициации и
возрастные группы; разделение полов в определенные периоды жизни на отдельные
общины – некоторые из этих институтов, несомненно, так же тщательно разработаны
и, возможно, утонченны, как и институты, характерные для цивилизаций.
[С другой стороны], цивилизации отличаются от примитивных
обществ не по наличию разделения труда, ибо мы можем видеть, по крайней мере,
зачатки разделения труда и в жизни примитивных обществ. Короли, волшебники,
кузнецы и менестрели – все являются «специалистами», хотя тот факт, что Гефест,
легендарный эллинский кузнец, был хром, а Гомер, легендарный эллинский поэт,
слеп, наводит на мысль, что в примитивных обществах специализация – явление
ненормальное и, вероятно, ограниченное теми, у кого недостает возможности быть
«разносторонними людьми», или «на все руки мастерами».
Существенным различием между цивилизациями и примитивными
обществами, как мы их знаем (весьма значительное, как окажется, предостережение),
является направление, заданное мимесисом, или подражанием. Мимесис –
характерная черта всякой социальной жизни. Его действие можно наблюдать и в
примитивных обществах, и в цивилизациях, в каждом человеческом действии –
начиная с подражания стилю кинозвезд их более скромными сестрами. Однако в двух
видах обществ мимесис действует в различных направлениях. В примитивных
обществах, как мы их знаем, мимесис направлен на старшее поколение и на умерших
предков, которые стоят – невидимо, но не бесчувственно – за спинами живых
старейшин, усиливая их престиж. В обществе, где мимесис обращен назад, на
прошлое, правит обычай, и это общество остается статичным. С другой стороны, в
обществах, находящихся в процессе цивилизации, мимесис направлен на творческие
личности, которые господствуют над последователями, поскольку являются
первооткрывателями. В подобных обществах «кристалл обычая», как назвал его
Уолтер Беджгот[143] в своей книге «Физика и политика», разбит и
общество приходит в динамическое движение в сторону изменения и роста.
Но если мы спросим себя, является ли это различие между
примитивными и высшими обществами постоянным и фундаментальным, то должны будем
ответить отрицательно. Если нам известны примитивные общества лишь в статичном
состоянии, то это только потому, что мы знаем их из непосредственного
наблюдения на последних фазах их истории. Однако если непосредственного
наблюдения нам недостает, то ход наших рассуждений подсказывает, что должны
быть и более ранние фазы в истории примитивных обществ, на которых они
развиваются динамичнее, чем развивалось любое известное «цивилизованное»
общество. Мы сказали, что примитивные общества так же стары, как род
человеческий, но правильнее было бы сказать, что они еще древнее. Некоего рода
социальную и институциональную жизнь можно обнаружить и среди высших
млекопитающих, отличных от человека, и ясно, что человек никогда не стал бы
человеком вне социальной среды. Эта мутация дочеловека в человека,
совершавшаяся при обстоятельствах, о которых нам ничего не сообщают письменные
источники, под эгидой примитивных обществ, была более глубоким изменением,
более великим шагом в развитии, чем любой прогресс, которого достиг человек под
эгидой цивилизации.
Примитивные общества, как мы их знаем из непосредственного
наблюдения, можно уподобить людям, лежащим в состоянии спячки на горном уступе
между верхним и нижним обрывами. Цивилизации можно уподобить попутчикам этих
спящих, которые уже поднялись и начали карабкаться по скале вверх. Самих же
себя мы можем сравнить с наблюдателями, поле зрения которых ограничено уступом
и нижними склонами верхнего обрыва и которые вышли на сцену в тот момент, когда
различные члены группы оказались в своих соответствующих позициях и состояниях.
На первый взгляд, мы можем склониться к проведению абсолютного различия между
двумя группами, приветствуя альпинистов как атлетов и отмахиваясь от лежащих
фигур как от паралитиков. Однако по размышлении мы обнаружим, что более
благоразумным будет воздержаться от решения.
В конце концов, лежащие фигуры не могут быть паралитиками на
самом деле, поскольку они не могли родиться на уступе и никакая человеческая
сила, кроме их собственной, не могла поднять их на это место остановки над
нижним обрывом. С другой стороны, их попутчики, которые карабкаются вверх, в
данный момент только что оставили тот же самый уступ и начали карабкаться на
верхний обрыв. А поскольку следующий обрыв находится вне поля зрения, мы не
знаем, насколько высоким или насколько крутым может оказаться следующий склон.
Мы лишь знаем, что невозможно остановиться и отдохнуть до того, как будет
достигнут следующий выступ, где бы он ни находился. Таким образом, даже если бы
мы и смогли оценить силу, мастерство и мужество каждого альпиниста, то не
смогли бы составить себе мнение, имеет ли кто‑либо из них перспективу достичь
верхнего уступа, являющегося целью их нынешних попыток. Однако мы можем быть
уверены, что некоторые из них уже никогда не достигнут его. И мы можем
наблюдать, что на каждого напряженно карабкающегося теперь вверх приходится
вдвое большее число упавших назад, на уступ, побежденными (наши угасшие
цивилизации).
Нам не удалось обнаружить непосредственный объект нашего
исследования – постоянный и фундаментальный момент различия между примитивными
и цивилизованными обществами, но случайно мы пролили некоторый свет на конечную
цель нашего нынешнего исследования: природу возникновения цивилизаций. Начав с
мутации примитивных обществ в цивилизации, мы обнаружили, что она состоит в
переходе от статического состояния к динамической деятельности. Мы обнаружим,
что эта же формула остается в силе и относительно появления цивилизаций через
отделение внутреннего пролетариата от правящего меньшинства предшествующих
цивилизаций, утративших свою творческую силу. Подобное правящее меньшинство
статично по определению, ибо сказать, что творческое меньшинство растущей
цивилизации выродилось или атрофировалось в правящее меньшинство цивилизации
распадающейся, означает сказать, что общество, о котором идет речь, из
состояния динамической активности впало в состояние статики. По отношению к
этому статическому состоянию отделение пролетариата является динамической
реакцией. В свете этого мы можем увидеть, что в процессе отделения пролетариата
от правящего меньшинства новая цивилизация рождается через переход общества от
статического состояния к динамической активности точно так же, как и в мутации,
которая порождает цивилизацию из примитивного общества. Возникновение всех
цивилизаций – как родственного, так и не родственного класса – можно описать
словами генерала Смэтса[144]:
«Человечество снова встает на ноги».
Этот чередующийся ритм статики и динамики, движения, покоя и
движения рассматривался многими наблюдателями в различные эпохи как нечто
существенное для самой природы Вселенной. С присущей им богатой образностью мудрецы
древнекитайского общества описали эти чередования в понятиях Инь и Ян[145] – статического Инь и динамического Ян. Ядро
древнекитайского характера, символизируемого Инь, по‑видимому, представляет
собой темные, свернутые спиралью облака, которые затмевают Солнце, тогда как
ядро характера, символизируемого Ян, по‑видимому, представляет собой
безоблачный солнечный диск, испускающий лучи. В китайской формуле Инь всегда
упоминается первым, и в пределах нашего поля зрения мы можем видеть, что наше
племя, достигнув «уступа» примитивной человеческой природы 300 тыс. лет назад, пролежало
там, прежде чем войти в состояние Ян‑активности цивилизации, 98 процентов этого
периода. Теперь мы должны найти какой бы то ни было позитивный фактор, который
своим импульсом привел человеческую жизнь в движение. И сначала исследуем два
пути, которые приведут нас в тупик.
2. Раса
Кажется очевидным, что позитивный фактор, который в течение
последних 6000 лет вывел часть человечества из Инь‑состояния примитивных
обществ «на уступе» в Ян‑состояние цивилизаций «на отвесной скале», следует
искать или в некотором особом качестве человеческих существ, совершивших
переход, или в некоторой особенности окружающей среды, в которой произошел
данный переход, или же во взаимодействии двух этих [факторов]. Сначала мы
предположим, что первый или второй из этих факторов, взятый сам по себе, даст
нам то, что мы ищем. Можем ли мы приписать возникновение цивилизаций
достоинствам какой‑либо отдельной расы или рас?
Раса – это понятие, используемое для обозначения некоторого
отличительного, передаваемого по наследству качества отдельных групп
человеческих существ. Предполагаемые атрибуты расы, которые нас здесь
интересуют, – это отличительные психические или духовные качества,
предположительно являющиеся врожденными в определенных обществах. Однако
психология (и в частности – социальная психология) – наука, пребывающая еще во
младенчестве, и все нынешние дискуссии о расе, в которых раса выдвигается в
качестве фактора, породившего цивилизацию, зависят от допущения, что существует
взаимосвязь между ценными психическими качествами и определенным образом
проявленными физическими характеристиками.
Физической характеристикой, чаще всего подчеркиваемой
западными сторонниками расовых теорий, является цвет кожи. Конечно же, вполне
возможно, что духовное и умственное превосходство как‑то связано и,
следовательно, положительным образом соотносится с относительным отсутствием
пигментации кожи, хотя с биологической точки зрения кажется невероятным. Тем не
менее, наиболее популярной из расовых теорий цивилизаций является та, что
водружает на пьедестал ксантохроидную, глаукопическую, долихокефальную
разновидность homo leucodermaticus[146],
называемую некоторыми «нордическим человеком», а Ницше – «белокурой бестией».
Несмотря на сомнительность рекомендаций этого идола тевтонского рынка, данная
теория заслуживает особого внимания.
Нордический человек впервые был поставлен на пьедестал
французским аристократом графом де Гобино[147] в начале XIX столетия, и это обоготворение
«белокурой бестии» было эпизодом в спорах, вызванных Французской революцией.
Когда французских дворян лишали поместий, изгоняли и гильотинировали, педанты
от революционной партии, всегда не довольные, пока им не удавалось выразить
современные им события в «классической» манере, заявили, что галлы после
четырнадцати веков зависимости ныне изгоняют своих франкских завоевателей во
внешнюю тьму по ту сторону Рейна, откуда они пришли во время Völkerwanderung [переселения
народов], и забирают обратно во владение галльскую землю, которая, несмотря на
длительную варварскую узурпацию, никогда не переставала быть их собственной.
На эту нелепость Гобино отвечал еще более впечатляющей
собственной нелепостью. «Я принимаю вашу идентификацию, – отвечал он. – Давайте
условимся, что простой французский народ происходит от галлов, а аристократия –
от франков, что обе расы имеют чистую кровь и что существует определенная и
постоянная взаимосвязь между их физическими и психическими характеристиками. Вы
в самом деле воображаете, что галлы поддерживают цивилизацию, а франки –
варварство? Откуда же пришла та цивилизация, которой достигли галлы? Из Рима. А
что сделало Рим великим? Да, конечно же, первобытное вливание нордической крови,
которая течет в моих франкских венах. Первые римляне – так же, как и первые
греки, гомеровские ахейцы, – были светловолосыми завоевателями, спустившимися с
бодрящего севера и установившими свое владычество над более слабыми местными
жителями расслабленного Средиземноморья. Однако в конце концов их кровь была
разбавлена, и раса ослабла. Их власть кончилась, и слава закатилась. Пришло
время для другого спасательного отряда светловолосых завоевателей спуститься с
севера и заставить пульс цивилизации снова забиться, и среди них были франки».
Такова забавная оценка Гобино ряда тех фактов, которые мы
уже трактовали в совершенно иной манере в наших беглых очерках происхождения
сначала эллинской, а затем западной цивилизации. Его политическая jeu
d'esprit[148] приобрела правдоподобие благодаря современному
открытию, которым Гобино поспешил воспользоваться. Было обнаружено, что почти
все живые языки Европы, равно как греческий и латынь, и все живые языки Персии
и Северной Индии, равно как классический иранский и санскрит, относятся друг к
другу как члены одной обширной языковой семьи. Был сделан правильный вывод о
том, что должен был существовать первоначальный, первобытный «арийский», или
«индоевропейский», язык, от которого ведут свое происхождение все известные
члены этой семьи. Был сделан ложный вывод о том, что народы, среди которых были
распространены эти родственные языки, состоят друг с другом в физическом
родстве в той же степени, что и языки, и происходят от первобытной «арийской»,
или «индоевропейской», расы, распространившейся в результате завоеваний на
восток и запад, север и юг со своей первоначальной родины, расы, которая
породила религиозный гений Заратуштры и Будды, художественный гений Греции,
политический гений Рима и – подходящая кульминация! – наши собственные
благородные персоны. Да, эта раса была ответственна практически за все
достижения человеческой цивилизации!
Зайца, которого поднял живой француз, погнали неповоротливые
немецкие филологи, исправившие слово «индоевропейский» на «индогерманскии» и
расположившие первоначальную родину этой воображаемой расы во владениях
прусского короля. Незадолго до вспышки войны 1914‑1918 гг. Хьюстон Стюарт
Чемберлен[149], англичанин,
влюбленный в Германию, написал книгу под названием «Основы девятнадцатого
века», в которой к списку индогерманцев прибавил Данте и Иисуса Христа.
Американцы также использовали «нордического человека» по‑своему.
Встревоженные несметной иммиграцией южных европейцев в четверть столетия,
предшествовавшую 1914 г., такие писатели, как Мэдисон Грант и Лотроп Стоддард[150] требовали ограничения иммиграции как
единственного способа сохранить не американские социальные нормы, но чистоту
американской ветви нордической расы.
Доктрина «британских израильтян» – теория того же рода,
использующая иную терминологию и подпирающая мнимую историю оригинальной
теологией.
Любопытно заметить, что если пропагандисты расизма из нашей
цивилизации настаивают на светлой коже как на признаке духовного превосходства,
возвышая европейцев над другими расами, а представителей нордической расы – над
другими европейцами, то японцы пользуются иным физическим критерием. Случилось
так, что тела японцев удивительно безволосы, а их соседями на северном острове
оказались представители примитивной общины совершенно иного физического типа,
не столь далекого от среднего европейца, которых называют «волосатыми айнами»[151]. Отсюда
вполне естественно, что у японцев отсутствие волос ассоциируется с духовным
превосходством, и хотя их претензия, может быть, столь же безосновательна, как
и наши доводы в пользу превосходства светлой кожи, однако на поверхностный
взгляд оно кажется более правдоподобным, поскольку чем менее человек волосат,
тем, несомненно, дальше он удален от своего родственника – обезьяны.
Этнологи, классифицируя белых людей в соответствии с их
физическими типами, длинной или круглой головой, светлой или смуглой кожей и со
всем прочим, выделили три главные белые «расы», которые называют нордической,
альпийской и средиземноморской. Для того чтобы оценить эти расы, подсчитаем то
количество цивилизаций, в которые каждая из них внесла свой позитивный вклад.
Нордическая раса внесла вклад в четыре, может быть, в пять цивилизаций:
индскую, эллинскую, западную, русскую православно‑христианскую и, возможно, в
хеттскую. Альпийская раса – в семь, а возможно, и в девять: шумерскую,
хеттскую, эллинскую, западную, русскую боковую ветвь и в основной ствол
православно‑христианской, иранскую и, может быть, в египетскую и минойскую.
Средиземноморская раса внесла вклад в десять: египетскую, шумерскую, минойскую,
сирийскую, эллинскую, западную, в основной ствол православно‑христианской,
иранскую, арабскую и вавилонскую. Из других частей рода человеческого
коричневая раса (имеются в виду дравидские народы Индии и малайцы Индонезии)
внесла вклад в две цивилизации: индскую и индусскую. Желтая раса внесла вклад в
три: древнекитайскую и в обе дальневосточные, а именно, в основной ствол в
Китае и в японскую боковую ветвь. Красная раса Америки, конечно же,
единственная, внесла вклад в четыре американские цивилизации. Одни черные расы
не внесли позитивного вклада в какую‑либо цивилизацию – пока еще. Белые расы
удерживают первенство, но следует помнить, что есть множество белых народов,
которые так же, как и черные, не внесли никакого вклада ни в одну из
цивилизаций. Если из данной классификации и выясняется что‑либо позитивное, так
это то, что половина наших цивилизаций основана на вкладе более чем одной расы.
Западная и эллинская цивилизации имеют по три вкладчика каждая, и если желтую,
коричневую и красную расы разложить на «субрасы», подобно нордической,
альпийской и средиземноморской ветвям белой расы, то, вероятно, мы сможем
представить множество вкладчиков во все наши цивилизации. Какой ценностью могут
обладать подобные подразделения и представляют ли они во все времена
обособленные в историческом и социальном отношении народы – другое дело. В
целом предмет чрезвычайно темен.
Но сказанного достаточно, чтобы объяснить, почему мы
отклоняем данную теорию, согласно которой высшая раса явилась причиной и
виновницей перехода от Инь к Ян, от статики к динамике во всех частях света
приблизительно на протяжении последних 6000 лет.
3. Окружающая среда
Современные западные умы склонны подчеркивать (и даже
чрезмерно) значение расового фактора в истории вследствие мировой экспансии
западного общества на протяжении последних четырех веков. Эта экспансия
установила связь (и часто связь далеко не дружественную) между народами Запада
и народами, отличавшимися от них не только в культурном, но и в физическом
отношении. Идея же о высших и низших биологических типах явилась как раз тем
результатом, который следовало ожидать от подобных связей, особенно в XIX
столетии, когда западные умы стали биологически сознательными благодаря
произведениям Чарльза Дарвина и других естествоиспытателей.
Древние греки также расширяли мир вокруг себя путем торговли
и колонизации, однако их мир был гораздо меньше. Он вмещал в себя огромное
множество культур, но не физических типов. По своему образу жизни египтянин и
скиф были весьма далеки друг от друга и от наблюдавшего за ними грека
(например, Геродота), однако физически они не отличались от него так
разительно, как негр из Западной Африки или краснокожий из Америки отличались
от европейца. Отсюда было вполне естественно, что греки для объяснения тех
культурных различий, которые они наблюдали вокруг себя, должны были найти некий
фактор, отличный от биологического наследования физических характеристик, то
есть от расы. Они нашли объяснение в различиях географической среды, почвы и
климата[152].
Существует трактат, озаглавленный «О воздухах, водах и
местностях», датируемый V в. до н. э. и сохранившийся среди собрания
произведений гиппократовской школы медицины, который иллюстрирует греческие
воззрения на этот предмет. Здесь мы, например, читаем, что «есть некоторые
натуры, похожие на места гористые, лесистые и водянистые, а другие – на места
голые и безводные; некоторые носят натуру лугов и озер, а некоторые подходят к
природе равнины и мест обнаженных и сухих… Те, которые населяют страну горную,
неровную, высокую и снабженную водой, где времена года весьма различаются и
формы людей, естественно, становятся большими от природы, бывают рождены как
для труда, так и для храбрости… Те же, которые населяют долины, обильные травою
и удушливые, и которые обвеваются более ветрами теплыми, чем холодными, и
употребляют теплые воды, эти не могут быть, конечно, высокими и пропорционально
сложенными; они от природы протягиваются в ширину, отличаются телом мясистым и
черными волосами, цветом более черным, чем белым, и менее слизисты, чем желчны.
Но храбрость и выносливость в трудах не одинаково даны их душе от природы; это
довершает вмешательство закона… Те, которые населяют страну высокую, ровную,
обвеваемую ветрами и обильную водами, те отличаются огромным внешним видом
тела, похожи между собою, с духом немужественным и кротким… [Итак, вот
важнейшие причины природных изменений, а кроме них, также сама страна, в
которой кто‑либо воспитывается, и воды], ибо ты найдешь, что большей частью
формы людей и нравы отражают природу страны»[153].
Но любимой эллинской иллюстрацией «теории среды» служил
контраст между воздействием жизни в нижней долине Нила на телосложение,
характер и институты египтян и воздействием жизни в Евразийской степи на телосложение,
характер и институты скифов.
Как расовая теория, так и теория среды стараются объяснить
наблюдающееся разнообразие в психическом (интеллектуальном и духовном)
поведении и действиях различных групп человечества, полагая, что это
психическое разнообразие тесно и постоянно связано (отношением действия к
причине) с некими элементами наблюдающегося разнообразия из не психической
сферы природы. Расовая теория причину различия находит в разнообразии
физических данных людей, теория среды – в разных климатических и географических
условиях, в которых живут различные общества. Суть обеих теорий – в связи между
двумя наборами переменных: в одном случае – между характером и телосложением, в
другом – между характером и окружающей средой, и эта связь должна оказаться
прочной и постоянной, чтобы теории, основанные на ней, могли считаться
доказанными. Мы уже видели, что расовая теория при подобном испытании потерпела
неудачу. Теперь мы увидим, что теории среды, хотя и менее нелепой, придется не
лучше. Мы должны проверить эллинскую теорию на двух примерах – Евразийской
степи и долине Нила. Нам надо найти две области на поверхности Земли, в
географическом и климатическом отношении подобные двум этим регионам. Если все
они смогут продемонстрировать, что их население похоже по своему характеру и
институтам в одном случае на скифов, а в другом – на египтян, то теория среды
будет доказана. Если нет, то она будет опровергнута.
Давайте рассмотрим сначала Евразийскую степь, эту огромную
зону, лишь юго‑западный угол которой был известен грекам. Мы можем сопоставить
с ней Афразийскую степь, простирающуюся от Аравии через всю Северную Африку.
Соответствует ли этому подобию между Евразийской и Афразийской степями какое‑либо
подобие между человеческими обществами, возникшими в двух этих зонах? Ответ
утвердительный. Обе зоны породили кочевнический тип общества, кочевой образ
жизни, демонстрирующий как раз те самые черты сходства и различия – например, в
одомашненных животных, – которые мы ожидали бы найти ввиду сходства и различия
между двумя зонами. Но при дальнейшей проверке это соответствие прекращается,
поскольку мы обнаруживаем, что другие части света, где существуют условия для
возникновения кочевнического общества – североамериканские прерии,
венесуэльские льяносы, аргентинская пампа и австралийские пастбища, – не
породили собственных кочевнических обществ. Их потенциальные возможности не
подвергаются сомнению, ибо они были осуществлены благодаря предприимчивости
западного общества в Новое время. Прокладывавшие пути западные скотоводы –
североамериканские ковбои, южноамериканские гаучо и австралийские пастухи,
завоевавшие и удерживавшие эти незанятые области на протяжении нескольких
поколений, опережая появление плуга и фабрики, завладели воображением
человечества так же победоносно, как скифы, татары и арабы. Потенциальные
возможности американских и австралийских степей стали бы действительно мощными,
если бы первопроходцы общества, не имевшего кочевнических традиций и жившего
сельским хозяйством и промышленностью со времени своего возникновения, хотя бы
на одно поколение смогли превратиться в кочевников. Замечательнее всего, что
народы, которых здесь встретили первые западные исследователи, их окружение
никогда не побуждало к кочевому образу жизни. Они не нашли лучшего применения
этим райским садам кочевников, как использовать их под охотничьи угодья.
Если мы подвергнем эту теорию дальнейшей проверке,
исследовав зоны, сходные с долиной Нила, наш опыт окажется аналогичным.
Нижняя долина Нила является, так сказать, «курьезом» в пейзаже
Афразийской степи. В Египте такой же сухой климат, как и в окружающей его
огромной зоне, но у него есть исключительно ценное качество – неисчерпаемые
запасы воды и ила, обеспечиваемые великой рекой, берущей начало далеко за
пределами степи в зоне, обильной дождями. Творцы египетской цивилизации
использовали это преимущество для создания общества, резко контрастирующего с
кочевым образом жизни по обе стороны от него. Но является ли в таком случае
особое окружение, сложившееся в Египте благодаря Нилу, позитивным фактором,
которому египетская цивилизация обязана своим происхождением? Для
доказательства этого тезиса мы должны продемонстрировать, что во всякой другой
отдельно взятой зоне, где существует окружающая среда нильского типа,
независимо возникнет подобная же цивилизация.
Данная теория выдерживает испытание в соседней зоне, где
требуемые условия выполняются, а именно в нижней долине Евфрата и Тигра. Здесь
мы находим и аналогичные природные условия, и аналогичное общество – шумерское.
Но теория терпит неудачу в гораздо менее протяженной, но более схожей долине
Иордана, где никогда не было цивилизации[154]. Возможно, она
не выдерживает испытания и в долине Инда – в том случае, если мы правы,
высказывая догадку, что индская культура была занесена туда в готовом виде
шумерскими колонистами. Нижнюю долину Ганга можно исключить из проверки как
чрезмерно влажную и тропическую, а нижние долины Янцзы и Миссисипи – как
чрезмерно влажные и умеренные. Однако даже самый придирчивый критик не может
отрицать, что условия, которые предлагает окружающая среда в Египте и
Месопотамии, предлагают и долины рек Рио‑Гранде и Колорадо в Соединенных
Штатах. Под руками современного европейского поселенца, снабженного средствами,
которые он принес с собой с той стороны Атлантики, эти американские реки
совершили чудеса, какие Нил и Евфрат совершали благодаря египетским и шумерским
инженерам. Но этому волшебству Колорадо и Рио‑Гранде никогда не научили народ,
несведущий в том, чему уже давно научились в других частях земного шара.
Этих примеров будет достаточно, чтобы показать, что фактор
окружающей среды не может быть позитивным, являющимся причиной существования
«речных» цивилизаций. Мы убедимся в этом выводе, если взглянем на несколько
иное окружение, породившее цивилизации в той, а не в другой зоне.
Андская цивилизация возникла на высоком плоскогорье, и ее
достижения резко контрастировали с той первобытной дикостью, что скрывалась
ниже в амазонских лесах. Не явилось ли, в таком случае, плоскогорье причиной
того, что андское общество обогнало своих первобытных соседей? Прежде чем
согласиться с этой идеей, мы должны взглянуть на ту же самую экваториальную
широту в Африке, где Восточно‑Африканские горы возвышаются над лесами бассейна
реки Конго. Мы обнаружим, что для создания «цивилизованного» общества
плоскогорье в Африке было продуктивно не в большей степени, чем тропические
леса великой речной долины.
Подобным же образом мы замечаем, что минойская цивилизация
возникла среди группы островов, расположенных во внутреннем море с
благословенным средиземноморским климатом, но схожее окружение не вызвало
возникновения другой цивилизации архипелагового типа вокруг Японского моря.
Япония никогда не давала рождение самостоятельной цивилизации, но была занята
боковой ветвью континентальной цивилизации, возникшей во внутренних районах
Китая.
Древнекитайскую цивилизацию порой представляют порождением
Хуанхэ, поскольку ей случилось возникнуть в долине Хуанхэ, но долина Дуная,
имеющая во многом сходный характер по климату и почве, равнинам и горам,
подобной цивилизации не породила.
Цивилизация майя возникла в зоне тропических ливней, среди
тропической растительности Гватемалы и Британского Гондураса, но подобная
цивилизация никогда не возникала из первобытной дикости в похожих условиях на
Амазонке и Конго. Правда, бассейны двух этих рек располагаются на экваторе,
тогда как родина майя на пятнадцать градусов севернее. Если мы проследуем вдоль
пятнадцатого градуса широты на другую сторону света, то натолкнемся на
потрясающие руины Ангкор‑Вата[155] в зоне тропических ливней и растительности
Камбоджи. Разве не сравнимы они с разрушенными маиянскими городами Копаном и
Ишкуном? Но археологические данные показывают, что цивилизация, представленная
Ангкор‑Ватом, была не туземной камбоджийской, но ответвлением индусской
цивилизации, возникшей в Индии.
Мы могли бы заниматься этим предметом и далее, но
сказанного, по‑моему, достаточно, чтобы убедить читателя в том, что ни раса, ни
окружающая среда, взятые сами по себе, не могут быть тем позитивным фактором,
который на протяжении последних 6000 лет вытолкнул человечество из состояния
статичного спокойствия на уровень примитивного общества и помог отправиться на
опасные поиски цивилизации. В любом случае, ни раса, ни окружающая среда, как
они рассматривались до сих пор, не дали (а видимо, и не могут дать) какой‑либо
ключ для объяснения того, почему же этот великий переход в человеческой истории
произошел не только в особых местах, но и в особое время.
V. Вызов‑и‑ответ
1. Мифологический ключ
В нашем поиске позитивного фактора в процессе возникновения
цивилизации мы до сих пор применяли тактику классической школы современной
физики. Мы мыслили в абстрактных понятиях и экспериментировали с игрой
неодушевленных сил – расой и окружающей средой. Теперь, когда эти маневры ничем
не закончились, мы можем остановиться и подумать, не вызваны ли наши неудачи
ошибками в методе. Возможно, под коварным влиянием духа уходящего века мы пали
жертвами того, что назовем «апатичной ошибкой». Рёскин предостерегал своих
читателей от «патетической ошибки» образного наделения бездушных предметов
жизнью. Однако нам одинаково необходимо быть начеку и по отношению к
противоположной ошибке, чтобы не применять к исторической мысли, являющейся
исследованием живых созданий, метода естественных наук, изобретенного для
исследования неодушевленной природы. Предпринимая нашу последнюю попытку
разгадать загадку, последуем руководству Платона и попробуем альтернативный
ход. Давайте на момент закроем глаза на научные формулы, чтобы открыть уши для
языка мифологии.
Понятно, что если возникновение цивилизаций не является
результатом биологических факторов или окружающей среды, действующих отдельно
друг от друга, то оно должно быть результатом некоего рода взаимодействия между
ними. Другими словами, фактор, который мы стремимся определить, не есть нечто
простое, но состоит из частей, является не сущностью, но отношением. У нас есть
выбор представлять себе это отношение либо как взаимодействие двух
нечеловеческих сил, либо как столкновение двух сверхчеловеческих личностей.
Давайте согласимся со второй из двух этих концепций. Возможно, она выведет нас
к свету.
Столкновение двух сверхчеловеческих личностей – сюжет одной
из величайших драм, которую когда‑либо задумывало человеческое воображение.
Столкновение между Яхве и Змием является сюжетом истории грехопадения человека
в Книге Бытия. Второе столкновение между теми же самыми антагонистами,
преобразившимися благодаря постепенному просвещению сирийских душ, является
сюжетом Нового Завета, излагающего историю Искупления. Столкновение между
Господом и Сатаной является сюжетом Книги Иова. Столкновение между Господом и
Мефистофелем – сюжет гётевского «Фауста». Столкновение между богами и демонами
– сюжет скандинавского «Прорицания вёльвы»[156]. Столкновение
между Артемидой и Афродитой – сюжет еврипидовского «Ипполита».
Мы находим иную версию того же сюжета в повсеместно
распространенном и вечно возвращающемся мифе («изначальном образе», если он
когда‑либо существовал) о столкновении между Девой и Отцом ее Ребенка.
Действующие лица этого мифа играли распределенные между собой роли на тысяче
различных сцен под бесконечным множеством имен: Даная и Золотой Дождь; Европа и
Бык; Семела‑Пораженная Земля и Зевс‑Небо, мечущий молнии; Креуса и Аполлон в
еврипидовском «Ионе»; Психея и Купидон; Гретхен и Фауст[157]. В
преображенном виде эта тема вновь возникает в Благовещении. В наше время на
Западе этот протеический миф[158] нашел свое новое выражение в качестве
последнего слова наших астрономов по поводу возникновения планетарной системы,
чему свидетельство следующее credo[159]:
«Мы верим… что примерно две тысячи миллионов лет тому назад…
вторая звезда, слепо блуждая в космическом пространстве, случайно подошла на
близкое расстояние от Солнца. Так же как Солнце и Луна являются причиной
приливов и отливов на Земле, эта вторая звезда должна была послужить причиной
приливов и отливов на поверхности Солнца. Но они должны были весьма отличаться
от тех слабых приливов и отливов, которые маленькая масса Луны вызывает в наших
океанах. Огромная волна прилива должна была пройти по всей поверхности Солнца,
в конце концов образовав гору удивительной высоты, которая бы становилась все
выше и выше по мере того, как причина волнения приближалась. И прежде чем
вторая звезда начала удаляться, ее приливный удар сделался настолько мощным,
что эта гора разорвалась на части и извергла вовне свои небольшие осколки,
подобно тому, как гребень волны разбрасывает брызги. Эти небольшие осколки
циркулировали с тех пор вокруг своего родителя Солнца. Они стали планетами,
большими и малыми, одной из которых является наша Земля»{28}.
Таким образом, с уст астронома‑математика, после того как
уже произведены все его сложнейшие вычисления, снова сходит миф о столкновении
между Богиней Солнца и ее похитителем, рассказ, столь привычный для нас в устах
неискушенных детей природы.
Присутствие и могущество этого дуализма в причинной
обусловленности цивилизаций, возникновение которых мы исследуем, признается
современным западным археологом, чьи исследования начинаются с сосредоточения
на окружающей среде, а заканчиваются интуицией тайны жизни:
«Окружающая среда… не является абсолютной причиной в
формировании культур… Она, без сомнения, наиболее заметный из отдельных
факторов. Но существует еще не поддающийся объяснению фактор, который вполне
откровенно можно обозначить как x , неизвестную величину, по‑видимому,
психологическую по своей природе… Если x на деле является не самым
заметным фактором, то он, несомненно, самый важный, самый судьбоносный»{29}.
В данном нашем исследовании истории эта настойчивая тема
сверхчеловеческого столкновения уже заявила о себе. Ранее мы наблюдали, что
«общество… в ходе своей жизни сталкивается с рядом проблем» и что «каждая
проблема – это вызов, подвергающий испытанию».
Давайте попытаемся проанализировать сюжет этой истории или
драмы, повторяющейся в столь различных контекстах и в столь разнообразных
формах.
Мы можем начать с двух общих черт: столкновение мыслится как
редкое и порой уникальное событие; и оно имеет обширные последствия,
соответствующие обширности того нарушения, которое оно производит в привычном,
естественном порядке вещей.
Даже в беспечном мире эллинской мифологии, где боги видели,
как красивы дочери человеческие, и вступали в отношения со столь многими из
них, что их жертвы могли быть выстроены в ряд и прошествовать в поэтических
каталогах, подобные инциденты никогда не переставали быть событиями
поразительными и неизменно приводили к рождению героев. В тех версиях сюжета,
где обе противоборствующие стороны представлены сверхчеловеческими личностями,
редкость и важность события еще более заметна. В Книге Иова «день, когда пришли
сыны Божий предстать пред Господа; между ними пришел и сатана»{30},
очевидно, задуман как событие необычное. Таково же и столкновение между
Господом и Мефистофелем в «Прологе на небе» (намекающем, конечно же, на начало
Книги Иова), который открывает действие «Фауста» Гёте. В обеих из этих драм
земные последствия столкновения на Небе ужасны. Личные испытания Иова и Фауста
на интуитивном языке художественного творчества предстают как бесконечное число
раз повторяющееся испытание человечества. На языке же теологии это же
грандиозное последствие предстает результатом сверхчеловеческих столкновений,
описанных в Книге Бытия и в Новом Завете. Изгнание Адама и Евы из Эдемского
сада, последовавшее за столкновением между Яхве и Змием, не что иное, как
грехопадение человека. Страсти Христовы в Новом Завете – не что иное, как
Искупление человека. Даже рождение нашей планетарной системы из столкновения
двух Солнц, как оно изображено современным астрономом, признается этим
авторитетным ученым «событием почти невообразимой редкости».
В каждом случае история начинается с совершенного состояния
Инь. Фауст совершенен в знании, Иов – в добродетели и процветании, Адам и Ева
совершенны в невинности и покое, Девы (Гретхен, Даная и др.) – в чистоте и
красоте. Во Вселенной астронома Солнце, совершенная сфера, следует своему ходу
в целости и невредимости. Когда Инь является завершенным таким образом, оно
готово перейти в Ян. Но что заставит его это сделать? Перемена в состоянии,
которое по определению является совершенным в своем роде, может начаться только
благодаря импульсу или мотиву извне. Если мы мыслим это состояние как состояние
физического равновесия, то должны ввести другую звезду. Если мы мыслим его как
состояние психического блаженства, или нирваны, то должны вывести на
сцену другого актера – критика, чтобы заставить разум снова думать, вызывая
сомнения, или противника, чтобы заставить сердце снова чувствовать, внушая
страдание или недовольство, страх или антипатию. Это роль Змия в Книге Бытия,
Сатаны – в Книге Иова, Мефистофеля – в «Фаусте», Локи – в скандинавской
мифологии, Божественных Возлюбленных – в мифах о Деве.
На языке науки мы можем сказать, что функция вторгающегося
фактора состоит в обеспечении тому началу, в которое он вторгается, наиболее
пригодного стимула, чтобы вызвать наиболее мощные творческие изменения. На
языке мифологии и теологии импульс или мотив, который заставляет совершенное
Инь‑состояние перейти в новую Ян‑активность, исходит от вторжения Дьявола во вселенную
Бога. Данное событие можно описать лучше именно в этих мифологических образах,
поскольку в них не замешано противоречие, возникающее при переводе утверждения
на язык логических понятий. В соответствии с логикой, если вселенная Бога
совершенна, то не может быть Дьявола внутри ее пределов, тогда как если Дьявол
существует, то совершенство, которое он собирается испортить, должно быть
неполным уже из самого факта его (Дьявола) существования. Это логическое
противоречие, не решаемое логически, интуитивно преодолевается в воображении
поэта и пророка, воздающих славу всемогущему Богу и, тем не менее, принимающих
как очевидное, что Он подчинен двум решающим ограничениям.
Первое ограничение состоит в том, что в совершенстве уже
сотворенного Им Он не может найти возможности для дальнейшей творческой
деятельности. Если Бог мыслится как трансцендентный, то создания великолепны,
как никогда, однако, они не могут «меняться из великолепия в великолепие».
Второе ограничение Божественной силы – в том, что если возможность нового
творения предлагается Ему извне, то Он не может не принять ее. Когда Дьявол
бросает Ему вызов, Он не может отказаться от принятия вызова. Бог обязан
согласиться с затруднительным положением, поскольку отказаться Он может только
ценой отрицания Своей собственной природы и ценой того, что перестанет быть
Богом.
Если Бог, таким образом, не является всемогущим в понятиях
логики, то остается ли Он еще непобедимым в понятиях мифологии? Если Он обязан
принять вызов Дьявола, то обязан ли Он также победить в будущем сражении? В
еврипидовском «Ипполите», где роль Бога играет Артемида, а роль Дьявола –
Афродита, Артемида не только не в состоянии отклонить противоборство, но и
обречена на поражение. Отношения между олимпийцами анархичны, и Артемида в эпилоге
может утешиться лишь мыслью о том, что однажды она сама сыграет роль Дьявола в
ущерб Афродите. Результатом является не творение, а разрушение. В скандинавской
версии разрушение также находит свой исход в Рагнарёке[160], – когда
«боги и демоны убивают и убиваемы», – хотя единственный в своем роде гений
автора «Прорицания вёльвы» заставляет зрение своей прорицательницы пронзить
мрак, чтобы увидеть за ним свет новой зари. С другой стороны, в иной версии
сюжета поединок, следующий за обязательным принятием вызова, принимает не форму
перестрелки, в которой Дьявол выстрелил первым и не может не убить своего
противника, но форму пари, которое Дьявол, очевидно, обязан проиграть.
Классическими произведениями, где выражен мотив пари, являются Книга Иова и
«Фауст» Гёте.
Именно в гётевской драме акцент сделан наиболее четко. После
того как Господь заключил пари с Мефистофелем на небе, на земле между
Мефистофелем и Фаустом заключается следующий договор:
Фауст
Пусть мига больше я не протяну,
В тот самый час, когда в
успокоенье
Прислушаюсь я к лести восхвалений,
Или предамся лени или сну,
Или себя дурачить страсти дам, –
Пускай тогда в разгаре наслаждений
Мне смерть придет!
Мефистофель
Запомни!
Фауст
По рукам!
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!»
–
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, – я закабален.
Тогда пусть станет часовая
стрелка,
По мне раздастся похоронный звон{31}.
Отношение этого мифического договора к нашей проблеме
возникновения цивилизаций можно выявить, отождествив Фауста в момент, когда он
заключает свое пари, с одним из тех «пробудившихся спящих», что встали с
уступа, на котором лежали в спячке, и начали карабкаться вверх по скале. На
языке нашего сравнения Фауст говорит: «Я принял решение оставить этот уступ и
карабкаться по этому обрыву в поисках следующего уступа наверху. Поступая так,
я осознаю, что оставляю позади себя безопасное место. Однако ради возможности
достижения я возьму на себя риск падения и гибели».
В истории, рассказанной Гёте, бесстрашному альпинисту после
того, как он испытал смертельные опасности и ужасные превратности судьбы,
наконец‑то удается победоносно взобраться на скалу. Это же самое окончание – в
откровении о второй схватке между теми же двумя антагонистами – дается в Новом
Завете поединку между Яхве и Змием, который, по первоначальной версии Книги
Бытия, заканчивался скорее на манер поединка между Артемидой и Афродитой в
«Ипполите».
В Книге Иова, в «Фаусте» и Новом Завете намекается или даже
прямо заявляется о том, что пари не может быть выиграно Дьяволом, о том, что
Дьявол, вмешиваясь в деятельность Бога, не может расстроить, но может лишь
служить цели Бога, который все время остается хозяином положения и дает Дьяволу
веревку, чтобы тот повесился сам. Но в таком случае, не обманут ли Дьявол? Не
согласился ли Бог на пари, которое, как Он заранее знал, не мог проиграть? Вряд
л и можно так сказать, поскольку если бы это было правдой, то вся сделка
оказалась бы обманом. Столкновение, которое не являлось столкновением, не
смогло бы породить последствий столкновения – громадных космических
последствий, послуживших причиной перехода от Инь к Ян. Объяснение, возможно, заключается
в том, что пари, которое предлагает Дьявол и принимает Бог, охватывает (и,
таким образом, подвергает реальной опасности) не всё Божественное творение, но
лишь его часть. Эта часть, действительно, поставлена на карту, и, хотя
поставлено не целое, случайности и изменения, которым подвергается эта часть,
предположительно, не могут оставить безучастным и целое.
Выражаясь языком мифологии, когда одно из Божьих созданий
искушаемо Дьяволом, то таким образом Самому Богу предоставляется возможность
создать мир заново. Дьявольское вторжение, независимо от того, достигает оно
или нет конкретного результата, – а возможен любой из двух результатов –
совершило тот переход от Инь к Ян, которого жаждал Бог.
Что касается роли человеческого протагониста, то страдание
является ее лейтмотивом в каждом представлении драмы, независимо от того, кто
играет роль, – Иисус, Иов или Адам с Евой. Картина, изображающая Адама и Еву в
Эдемском саду, есть воспоминание о состоянии Инь, которого первобытный человек
достиг на собирательской стадии экономики, после того как установил свою власть
над всей остальной флорой и фауной на земле. Грехопадение, последовавшее в
ответ на искушение отведать от древа познания добра и зла, символизирует
принятие вызова, требующего отказаться от этой достигнутой интеграции и
осмелиться на поиски новой дифференциации, в результате которой, возможно,
возникнет (а возможно, и нет) новая интеграция. Изгнание из Сада во враждебный
мир, где Женщина должна рождать детей в болезни, а Мужчина должен есть хлеб в
поте лица своего, является испытанием, которое повлекло за собой принятие
вызова Змия. Половая связь между Адамом и Евой, последовавшая за этим, есть акт
социального творчества. Она приносит плод в рождении двух сыновей,
олицетворяющих две рождающиеся цивилизации: Авель – пастух, пасущий овец, а
Каин – земледелец.
В наше время один из наиболее выдающихся и оригинально
мыслящих исследователей природного окружения людей рассказывает эту же самую
историю по‑своему:
«Много веков назад группа дикарей, не имевших ни одежды, ни
дома, ни огня, вышла со своей теплой родины в тропическом поясе и постепенно
продвигалась на север с началом весны и до конца лета. Они никогда не
предполагали, что оставляют землю постоянного тепла, пока не начали в сентябре
чувствовать неудобный холод по ночам. Не зная причин холода, они перемещались
тем или иным путем, чтобы его избежать.
Некоторые пошли на юг, но лишь горстка их вернулась на свою
бывшую родину. Там они возобновили свою прежнюю жизнь, а их потомками в наше
время являются нецивилизованные дикари. Из тех, кто отправился блуждать в иных
направлениях, все погибли, за исключением одной небольшой группы. Обнаружив,
что они не могут уйти от холодного воздуха, члены этой группы использовали
самую возвышенную из человеческих способностей – силу сознательной
изобретательности. Некоторые пытались найти убежище, вырывая его в земле,
некоторые собирали ветви и листья, чтобы сделать себе из них хижины и теплые
постели, а некоторые закутывались в шкуры животных, убитых на охоте. Вскоре эти
дикари сделали один из величайших шагов по пути к цивилизации. Голые были
одеты, бездомные нашли кров, расточительные научились сушить мясо и сохранять
его вместе с орехами на зиму. Наконец, было открыто искусство добычи огня как
средства сохранения тепла. Таким образом, они выжили там, где поначалу думали,
что погибнут. И в процессе приспособления к суровой окружающей среде они
достигли огромных успехов, оставив тропическую часть человечества далеко позади
себя»{32}.
Исследователь‑классик также переводит эту историю на язык
современной научной терминологии:
«Парадокс прогресса заключается в том, что если мать
Изобретения – Необходимость, то другим родителем является Упорство, решимость,
которая заставляет вас, скорее, продолжать жить в неблагоприятных условиях,
нежели сокращать убытки и идти туда, где жизнь легче. Неслучайно цивилизация,
как мы ее знаем, началась именно во время тех приливов и отливов в климате,
флоре и фауне, которые характеризуют четырехкратно возвращавшийся ледниковый
период[161]. Те приматы,
которые едва “убежали”, когда древесные условия жизни ослабли, сохранили свое
первенство среди слуг естественного закона, однако отказались от завоевания
природы. Другие преодолели трудности и стали людьми, удержавшими свои позиции,
когда больше не было деревьев, на которых можно было сидеть, “сумевшими
обойтись” мясом, когда плоды не созревали, добывшими огонь и одежду вместо
того, чтобы следовать за солнечным светом, укрепившими свои берлоги, научившими
[этим навыкам] своих детенышей и отстаивавшими разумность мира, казавшегося
столь неразумным»{33}.
Первая стадия испытания человеческого протагониста является
переходом от Инь к Ян посредством динамического акта, который создание Бога
совершает под воздействием искушения Противника, дающего возможность Самому
Богу возобновить Свою творческую активность. Но этот прогресс должен быть
оплачен. И уже не Бог, но слуга Бога, человеческий сеятель, оплачивает его
цену. В конце концов, после многих превратностей торжествующий страдалец служит
в качестве первопроходца. Человеческий протагонист в Божественной драме служит
не только Богу, давая Ему возможность обновить Свое творение, но также и своим
собратьям, указывая другим путь, которому нужно следовать.
2. Миф применительно к проблеме
Непредсказуемый фактор
В свете мифологии мы достигли некоторого проникновения в
природу вызовов и ответов. Мы увидели, что творчество есть результат
столкновения, а генезис – продукт взаимодействия. Теперь вернемся к нашему
непосредственному предмету поисков: позитивному фактору, вытолкнувшему часть
человечества из состояния «интеграции обычая» в состояние «дифференциации
цивилизации» за последние 6000 лет. Давайте рассмотрим истоки наших двадцати
одной цивилизации, чтобы выяснить при помощи эмпирической проверки, не отвечает
ли концепция «вызова‑и‑ответа» фактору, который мы ищем, лучше, чем гипотезам
расы и окружающей среды, которые мы уже взвесили и нашли недостаточными.
В этом новом обзоре мы по‑прежнему сосредоточимся на расе и
окружающей среде, однако рассмотрим их в новом свете. Мы более не будем искать
какой‑то одной простой причины возникновения цивилизаций, которая бы смогла
всегда и везде продемонстрировать идентичное действие. Мы более не будем
удивляться, если в процессе создания цивилизации одна и та же раса и одно и то
же окружение окажутся плодовитыми в одном случае и бесплодными – в другом.
Фактически мы более не будем следовать научному постулату «единообразия
природы», которому справедливо следовали до тех пор, пока мыслили нашу проблему
в научных терминах в качестве функции игры бездушных сил. Теперь мы будем
готовы признать, что даже если и ознакомимся в точности со всеми данными расы,
окружающей среды и со всем тем, что только можно сформулировать научно, то все
равно не сможем предсказать исход взаимодействия между силами, которые эти
данные представляют, точно так же, как военный специалист не может предсказать
исход битвы или кампании, основываясь на «внутреннем знании» диспозиций и
ресурсов обоих враждебных генеральных штабов, или же специалист по бриджу –
исход игры, основываясь на сходном знании всех карт у каждого из игроков.
В обеих аналогиях «внутреннего знания» недостаточно для
того, чтобы предоставить его обладателям возможность предсказать результаты с
точностью или уверенностью, поскольку это знание – не есть знание полное.
Существует нечто, что должно оставаться неизвестной величиной для хорошо
информированного наблюдателя, поскольку оно находится за пределами знания самих
участников сражения или игроков. Это нечто является самым важным членом в
уравнении, которое должен решить потенциальный вычислитель. Этой неизвестной
величиной является реакция актеров на испытание, когда оно действительно
приходит. Эти психологические импульсы, которые, в сущности, невозможно
взвесить, измерить и, следовательно, заранее научно оценить, являются теми
самыми силами, которые фактически решают исход, когда происходит столкновение.
И вот почему величайшие военные гении признавали в своих успехах наличие не
поддающегося учету элемента. Если они были людьми верующими, то приписывали
свои победы Богу, как Кромвель, если просто суеверными, то влиянию своей
«звезды», как это делал Наполеон.
* * *
Возникновение египетской цивилизации
Рассматривая вопрос об окружающей среде в предыдущей главе,
мы предполагали, подобно эллинским авторам теории окружающей среды, что
окружающая среда – статический фактор. В частности, мы предполагали, что в
пределах «исторического» времени природные условия, предоставленные Афразийской
степью и долиной Нила, всегда были такими же, как сегодня и как двадцать четыре
века назад, когда греки сплетали свои теории. Но на самом деле мы знаем, что
это было не так.
«В тот период, когда Северная Европа до самого Граца
находилась под ледниковым покровом, а вершины Альп и Пиренеев были также
покрыты ледниками, направление влажных атлантических ветров под сильным
арктическим напором отклонилось к югу. Циклоны, пересекающие в наше время
Центральную Европу, проходили тогда через Средиземноморский, бассейн и северную
часть Сахары, а затем, не утратив всей влаги на побережье нынешнего Ливана,
направлялись через Месопотамию и Аравию в Иран и Индию. В выжженной зноем
Сахаре в то время выпадали регулярные дожди, а в более восточных областях ливни
были не только обильнее, чем в наши дни, но и выпадали в течение всего года, а
не только зимою…
Следует предполагать, что в тот период… растительность
Северной Африки, Аравии, Ирана и долины Инда представляла собою лесостепь и
саванны, напоминающие современный растительный мир северного побережья
Средиземного моря. В то время как во Франции и южной Англии паслись мамонты,
шерстистые носороги и северные олени, животный мир Северной Африки был, по‑видимому,
близок к современной фауне Родезии…
Как бы то ни было, но в эпоху последнего оледенения
травянистые пространства Северной Африки и Южной Азии были, по‑видимому, не
менее густо населены людьми, чем тундры и степи Европы. Надо полагать, что
такое естественное окружение было более благоприятным для человека»{34}.
Но после завершения ледникового периода наша афразийская
зона начала испытывать глубокое физическое изменение, постепенно иссыхая.
Одновременно с этим две или более цивилизации возникли в зоне, занимаемой
прежде, подобно всему остальному обитаемому миру, лишь примитивными обществами
времен палеолита. Наши археологи побуждают нас рассматривать иссушение Афразии
как вызов, ответом на который явилось возникновение цивилизаций.
«Ныне мы находимся на грани великой революции и вскоре
встретим людей, которые сами стали обеспечивать себя пищей, научившись
одомашнивать животных и выращивать злаки. Эта революция, по‑видимому, была
неизбежно связана с тем кризисом, который произошел в результате таяния
северных ледников, последующего уменьшения сильного арктического напора на Европу
и отклонения влажных атлантических ветров от южной Средиземноморской зоны к их
нынешнему курсу через Центральную Европу.
Это событие, несомненно, должно было подвергнуть до предела
суровому испытанию сообразительность обитателей бывшей саванной зоны…
Столкнувшись с постепенным иссушением, которое произошло
вслед за перемещением на север зоны атлантического циклона по мере того, как
таяли европейские ледники, охотничьи племена оказались перед тремя
альтернативами. Они могли или продвигаться на север и юг вместе со своей
добычей, следуя за тем климатическим поясом, к которому были приспособлены, или
оставаться на месте, влача жалкое существование и питаясь той дичью, которая
выдерживала бы засуху, или же могли – также не покидая своей родины – стать независимыми
от прихотей окружающей среды, одомашнив животных и занявшись сельским
хозяйством»{35}.
Так или иначе, те, кто не изменил ни естественной среды, ни
образа жизни, заплатили ценой собственной гибели за неумение ответить на вызов
засухи. Те, кто избежал перемены естественной среды, изменив образ жизни и
превратившись из охотников в пастухов, стали кочевниками Афразийской степи. Их
достижения и судьба потребуют нашего внимания в другой части книги. Те общины,
которые предпочли перемене образа жизни перемену естественной среды и избегали
засухи, следуя за зоной циклона по мере того, как он смещался на север,
неожиданно столкнулись с новым вызовом – вызовом северных сезонных холодов,
породившим новый творческий ответ, который не уступал старому. В то же время
общины, которые избежали засухи, отступая в муссонный пояс, оказались под
наркотическим воздействием, исходившим от климатического однообразия тропиков.
В‑пятых, были общины, которые ответили на вызов засухи переменой и естественной
среды, и образа жизни, и эта редкая двойная реакция явилась динамическим актом,
создавшим египетскую и шумерскую цивилизации из примитивных обществ исчезающих
афразийских саванн.
Переменой в образе жизни этих творческих общин было
радикальное превращение собирателей и охотников в земледельцев. Перемена в их
естественной среде была небольшой по расстоянию, но огромной, если учитывать ту
разницу в характере, которая существовала между оставленными ими саваннами и
новым природным окружением, в котором они теперь обрели свою родину. Когда
саванны, возвышавшиеся над низовьями Нила, превратились в Ливийскую пустыню, а
возвышавшиеся над низовьями Евфрата и Тигра – в пустыни Руб‑аль‑Хали и Деште‑Лут,
героические первопроходцы, воодушевленные смелостью или безрассудством,
бросились в эти болотистые джунгли нижней долины, куда до них ни разу не
проникал человек, и своим динамическим актом превратили их в земли Египта и
Сеннаара[162]. Их соседям,
которые выбрали иной путь, описанный выше, подобное рискованное предприятие
должно было показаться безнадежным. Ведь в ту далекую эпоху, когда территория,
начавшая теперь превращаться в Афразийскую степь, была еще земным раем,
нильские и месопотамские болота представляли собой неприступную и, очевидно,
непроходимую дикую местность. Как оказалось, предприятие закончилось успехом,
превышавшим самые оптимистические надежды, какие только могли питать
первопроходцы. Своенравие природы покорилось человеческим трудам. Бесформенные
болота уступили место системе каналов, дамб и полей. Земли Египта и Сеннаара
были подняты из дикости, а египетское и шумерское общества отправились в свои
великие приключения.
Нижняя долина Нила, куда спустились наши первопроходцы, не
только весьма отличалась от той долины, которую мы видим сегодня после того,
как на ней оставили свою печать шесть тысячелетий искусного труда. Она почти
настолько же отличалась и от той долины, которая была бы сегодня, если бы
человек предоставил природе формировать ее заново. Даже в такое сравнительно
недавнее время, как эпоха Древнего и Среднего царств (то есть спустя несколько
тысячелетий после первопроходцев), гиппопотам, крокодил и разновидность дикой
курицы, встречающиеся в наше время лишь ниже Первого порога, были обычными
обитателями нижней долины, о чем свидетельствуют произведения скульптуры и
живописи, сохранившиеся от этого периода. То, что касается птиц и животных,
можно сказать и о растениях. Хотя в самом Египте установилась засуха, там
выпадало еще достаточное количество осадков, и Дельта представляла собой
заболоченную местность. Возможно, в то время Нижний Нил выше Дельты был похож
на Верхний в районе Бахр‑эль‑Джебель[163] в Экваториальной провинции Судана, а сама
Дельта напоминала район вокруг озера Но, где Бахр‑эль‑Джебель и Бахр‑эль‑Газаль[164] сливают свои воды воедино. Вот современное
описание этой унылой местности:
«Пейзаж Бахр‑эль‑Джебель, где она протекает через область
“сэдда”[165], весьма
однообразен. Там совсем нет берегов, за исключением нескольких отдельных мест,
нет подобия какого‑либо водораздела на кромке воды. Поросшие тростником болота
протянулись на многие километры по обеим сторонам реки. Их пространства лишь на
время прерываются лагунами открытой воды. Их поверхность лишь на несколько
сантиметров возвышается над поверхностью воды в реке, когда ее уровень является
самым низким, а поднятие уровня на полметра затопляет их на огромном
расстоянии. Эти болота покрыты плотной порослью водяных сорняков,
простирающихся во всех направлениях до линии горизонта…
Во всей округе, в особенности между Бором и озером Но,
крайне редко можно встретить какие‑либо следы человеческой жизни… Весь край
имеет опустошенный вид, который невозможно описать словами. Его надо увидеть,
чтобы понять»{36}.
Эта область необитаема, поскольку люди, живущие по ее
окраинам, не сталкиваются в своей повседневной жизни с суровым выбором,
стоявшим перед отцами египетской цивилизации, когда те заселяли края нижней
долины Нила шесть тысячелетий назад: пробиваться в неприступный «сэдд» или
держаться за унаследованную естественную среду, начинавшую уже превращаться из
земного рая в негостеприимную пустыню. Если наши ученые правы в своих догадках,
то предки этих людей, живущих на краю суданского «сэдда», жили там, где теперь
Ливийская пустыня, бок о бок с основателями египетской цивилизации в то самое
время, когда те отвечали на вызов засухи, сделав свой жизненно важный выбор. В
это время предки современных динка и шиллук[166], по‑видимому,
отделились от своих героических соседей и пошли по линии наименьшего
сопротивления, отступив на юг, в страну, где бы могли продолжать жить, не
изменяя своего образа жизни, в природном окружении, частично идентичном тому, к
которому они привыкли. Они поселились в тропическом Судане, в зоне
экваториальных дождей, и здесь их потомки остались до сегодняшнего дня, ведя ту
же самую жизнь, что и их дальние предки. На своей новой родине инертные и
неамбициозные эмигранты нашли то, чего желала их душа.
«В верхнем течении Нила и сейчас живут племена, близкие по
типу лица, физическому сложению, черепным пропорциям, языку и одежде к
древнейшим египтянам. Во главе этих племен стоят чародеи – “повелители дождей”,
или “божественные” цари, которые еще до недавнего времени подвергались
ритуальной казни; сами же племена делятся на кланы, каждый из которых имеет
свой тотем… Из всего этого можно вынести впечатление, что общественное развитие
этих племен, населяющих верховья Нила, приостановилось на стадии, пройденной
остальными египтянами еще до начала их письменной истории. Перед нами – живой
музей, экспонаты которого служат дополнением к нашим коллекциям и воскрешают
перед нами отдельные моменты доисторического прошлого»{37}.
Параллель между древнейшими условиями в одной части
нильского бассейна и современными – в другой наводит на некоторые размышления.
Допустим, что жители нильского бассейна никогда не столкнулись бы с вызовом
засухи в частях, находящихся ныне вне зоны экваториальных дождей. Остались ли
бы в этом случае дельта и нижняя долина Нила в первоначальном природном
состоянии? Могла ли египетская цивилизация никогда не возникнуть? Не
расселились ли бы эти люди по окраинам нижней долины Нила так же, как динка и
шиллук селятся теперь по окраинам Бахр‑эль‑Джебель? Существует и другой ход
мыслей, касающийся не прошлого, а будущего. Мы можем вспомнить, что на
временной шкале Вселенной, нашей планеты, [на шкале существования] жизни на
Земле или даже genus homo[167] период в шесть тысячелетий – незначительный
промежуток времени. Допустим, что с другим вызовом, столь же страшным, сколь и
тот, с которым жители нижней долины Нила столкнулись вчера, в конце ледникового
периода, жители верхней долины должны будут столкнуться завтра. Существует ли
основание полагать, что они окажутся неспособны ответить некоторым равновеликим
динамическим актом, который бы мог породить равновеликие творческие
последствия?
Мы не должны требовать, чтобы этот гипотетический вызов
народам шиллук и динка был того же рода, что и вызов, брошенный отцам
египетской цивилизации. Давайте представим, что вызов исходит не от природного,
а от человеческого окружения, что это не вызов климата, но вызов вторжения
чуждой цивилизации. Разве не с этим самым вызовом фактически столкнулись на
наших глазах примитивные жители тропической Африки под воздействием западной
цивилизации, человеческое посредничество которой в наше время играет мифическую
роль Мефистофеля по отношению к каждой другой существующей цивилизации и к
каждому существующему примитивному обществу на поверхности Земли? Вызов
произошел еще так недавно, что мы не можем пока предвидеть окончательный ответ,
который дадут столкнувшиеся с этим вызовом общества. Мы лишь можем сказать, что
если отцам не удалось ответить на один вызов, это не означает, что дети не
ответят на другой, когда придет их час.
* * *
Возникновение шумерской цивилизации
Мы можем лишь вкратце рассмотреть эту проблему, поскольку
здесь встречаемся с вызовом, идентичным тому, с которым столкнулись создатели
египетской цивилизации, и с ответом того же рода. Иссушение Афразии также
заставило основателей шумерской цивилизации вступить в борьбу с болотистыми
джунглями нижней долины Тигра и Евфрата и превратить их в землю Сеннаар.
Материальные аспекты возникновения двух этих цивилизаций совпадают почти
полностью. Духовные же характеристики, религия, искусство и даже общественная
жизнь, демонстрируют гораздо меньшее сходство – еще одно подтверждение того,
что в сфере наших исследований нельзя a priori[168] предполагать, будто одинаковые причины
приведут к одинаковым следствиям.
Об испытании, через которое прошли основатели шумерской
цивилизации, напоминает шумерская легенда. Убийство дракона Тиамат богом
Мардуком и творение мира из его останков знаменуют покорение первобытной
пустыни и создание земли Сеннаар благодаря устройству системы каналов и
осушению почвы[169]. История
потопа отмечает восстание природы против оков, которые наложила на нее
человеческая смелость[170]. Благодаря
библейской версии, литературному наследию, вынесенному евреями из своего
изгнания на реках Вавилонских, слово «потоп» стало общеупотребительным в
западном обществе. Оно оставило право современным археологам открывать
первоначальную версию легенды, а также искать непосредственные доказательства
некоего особого потопа необыкновенной суровости в плотных наслоениях нанесенной
водой глины, расположенных между древнейшими и более поздними слоями,
оставленными человеком на местах некоторых исторических поселений шумерской
культуры.
Бассейн Тигра и Евфрата, подобно бассейну Нила, являет собой
«музей», в котором мы можем изучать неодушевленную природу пустыни,
впоследствии преображенной человеком, а также ту жизнь, которой жили в этой
пустыне первые шумерские первопроходцы. Однако в Месопотамии этот музей
расположен не как в бассейне Нила, вверх по течению, он располагается в новой
дельте у самого Персидского залива, которая образовалась в результате слияния
двух сестринских потоков во времена, последовавшие не только за возникновением
шумерской цивилизации, но и за ее исчезновением, а также за исчезновением ее
вавилонской наследницы. Эти болота, возникшие постепенно на протяжении
последних двух или трех тысячелетий, сохранились в своем девственном состоянии
до наших дней только лишь потому, что на сцене не появилось ни одного
человеческого общества, у которого бы возникло желание овладеть ими. «Болотные
люди», посещающие эти места, научились приспосабливаться к ним пассивным
образом (на что указывает их прозвище – «перепончатоногие», данное британскими
солдатами, столкнувшимися с ними во время войны 1914‑1918 гг.). Однако они
никогда не готовились к выполнению той задачи по превращению болота в сеть
каналов и полей, которую выполнили основатели шумерской цивилизации в схожей
местности приблизительно пять или шесть тысячелетий назад.
* * *
Возникновение древнекитайской цивилизации
Если далее мы рассмотрим возникновение древнекитайской
цивилизации в нижней долине Хуанхэ, то обнаружим человеческий ответ на вызов
природы, возможно, даже еще более суровый, чем вызов Двуречья и Нила. В этой
пустыне, некогда превращенной человеком в колыбель древнекитайской цивилизации,
испытание болотом, кустарником и паводками дополнялось испытанием температурой,
варьировавшейся от сезона к сезону между двумя крайностями – летней жарой и
зимним холодом. Основатели древнекитайской цивилизации в расовом отношении, по‑видимому,
не отличались от тех народов, что населяли обширную область к югу и юго‑востоку,
простиравшуюся от Хуанхэ к Брахмапутре и от Тибетского нагорья к Китайскому
морю. Тот факт, что лишь некоторые члены этой широко распространенной расы создали
цивилизацию, тогда как остальные остались в культурном отношении бесплодными,
можно объяснить тем, что творческая способность, в скрытом виде
присутствовавшая в обоих случаях, пробудилась в тех и только в тех отдельных
членах, которым был брошен вызов, перед остальными, возможно, не стоявший.
Природу этого вызова невозможно определить точно при нынешнем состоянии наших
знаний. С определенностью мы можем сказать лишь, что основатели древнекитайской
цивилизации на своей родине близ Хуанхэ не пользовались предполагаемым, но в
действительности мнимым преимуществом более благоприятного, чем у их соседей,
окружения. В самом деле, ни у одного из родственных народов далее к югу (в
долине Янцзы, например, где эта цивилизация не возникла) не было столь суровой
борьбы за существование.
* * *
Возникновение майянской и андской цивилизаций
Вызовом, в ответ на который возникла майянская цивилизация,
было обилие тропического леса.
«Майянская культура стала возможной благодаря завоеванию
земледельцами богатых низменностей, на которых изобилие природы можно сдержать
только организованными усилиями. В горной местности обработка земли
сравнительно легка благодаря скудной природной растительности и контролю над
ирригацией. В низменностях, однако, с неутомимой энергией приходится рубить
большие деревья и вырывать быстро вырастающие кустарники. Но когда природа
действительно приручена, она многократно воздает отважному земледельцу. Кроме
того, есть причина полагать, что удаление лесного покрова на обширном
пространстве благоприятно воздействует на условия жизни, которая под пологом
листьев действительно тяжела»{38}. Этот вызов, пробудивший к жизни
майянскую цивилизацию на севере Панамского перешейка, не нашел ответа на его
противоположной стороне. Цивилизации, возникшие в Южной Америке, отвечали на
два совершенно противоположных вызова, исходивших с Андского плоскогорья и с
Тихоокеанского побережья. На плоскогорье основатели андской цивилизации
встретились с вызовом холодного климата и скудной почвы, на побережье – с
вызовом жары и засухи почти безводной экваториальной пустыни, расположенной на
уровне моря, которая смогла расцвести, как роза, лишь в человеческих руках.
Первопроходцы цивилизации, возникшей на побережье, создали, словно по
волшебству, оазисы посреди пустыни, экономно используя то скудное количество
воды, что спускается с западного откоса плоскогорья, и оживляя равнины при
помощи орошения. Первопроходцы плоскогорья превратили свои горные склоны в
поля, экономно используя скудную почву на террасах, где она сохранялась
благодаря повсеместно применяемой системе старательно возведенных защитных
стен.
* * *
Возникновение минойской цивилизации
Выше мы объяснили с точки зрения теории ответов на вызовы
природного окружения генезис пяти из наших шести родственно не связанных
цивилизаций. Шестая явилась ответом на вызов природы, с которым мы еще не
сталкивались в данном обзоре, – вызов моря.
Откуда пришли первопроходцы «талассократии Миноса»? Из
Европы, Азии или Африки? Даже беглого взгляда на карту будет достаточно, чтобы
предположить, что они пришли из Европы или из Азии, поскольку острова
расположены гораздо ближе к этим материкам, чем к Северной Африке. Фактически
это вершины затопленных гор, которые, если бы не внезапное землетрясение в
доисторические времена и приток вод, простирались бы непрерывной цепью от
Анатолии до Греции. Однако мы сталкиваемся с приводящим в замешательство, хотя
и несомненным, свидетельством археологов, согласно которому древнейшие остатки
человеческих поселений найдены на Крите – острове, сравнительно отдаленном как
от Греции, так и от Анатолии, хотя и находящемся к ним ближе, чем к Африке.
Этнология поддерживает предположение, которое археология отвергает, поскольку
представляется установленным, что среди древнейших известных обитателей континентов,
столкнувшихся с эгейцами, существовали достаточно ясно выраженные отличия в
физическом типе. Древнейшие из известных жителей Анатолии и Греции были
«короткоголовыми». Древнейшие из известных жителей афразийских саванн –
«длинноголовыми». Анализ же древнейших останков человеческих тел на Крите
показывает, что остров сначала всецело занимали «длинноголовые», тогда как
«короткоголовые», хотя со временем и начали преобладать, первоначально или
вообще не были представлены в населении Крита, или были представлены лишь явным
меньшинством. Эти этнологические данные приводят к выводу о том, что первыми
человеческими существами, обеспечившими себе прочное положение во всех частях
Эгейского архипелага, были иммигранты, переселившиеся сюда, спасаясь от засухи
афразийских саванн[171].
В таком случае, мы можем добавить шестой к нашим пяти
ответам на вызов засухи, о котором уже упоминалось. К тем, кто остался на месте
и погиб; к тем, кто остался на месте и стал кочевниками; к тем, кто пошел на юг
и сохранил свой прежний образ жизни, как динка и шиллук; к тем, кто отправился
на север и стал неолитическими земледельцами на Европейском континенте; к тем,
кто ворвался в болотные джунгли и создал египетскую и шумерскую цивилизации, мы
должны добавить и тех, кто двинулся на север и наткнулся не на сравнительно
легкие пути, предоставленные сохранившимися перешейками или еще существовавшими
проливами, а на пугающую пустоту открытого Средиземного моря, принял и этот
вызов, пересек обширное море и создал минойскую цивилизацию.
Если этот анализ верен, то он дает новый пример того, что в
генезисе цивилизаций взаимодействие вызовов и ответов является фактором,
перевешивающим все остальные, – в данном случае даже фактор близости. Если бы
фактор близости был определяющим при занятии архипелага, то жители ближайших
континентов – Европы и Азии – явились бы первыми, кто занял Эгейские острова.
Многие из островов находятся на расстоянии «броска камня» от этих материков,
тогда как Крит удален на 200 миль от ближайшей точки в Африке. Однако ближайшие
к Европе и Азии острова, заселенные, по‑видимому, в гораздо более позднее
время, чем Крит, были заняты одновременно и «длинноголовыми», и
«короткоголовыми». Это наводит на мысль, что уже после того, как афразийцы
заложили основы минойской цивилизации, эти вторые разделили их труды – или из
простого подражания первопроходцам, или же по причине некоего давления или
вызова, который мы не можем точно идентифицировать, также заставившего их в
свое время дать ответ, аналогичный тому, какой при гораздо более страшных
условиях уже дали первоначальные афразийские поселенцы Крита.
* * *
Возникновение аффилированных цивилизаций
Когда мы переходим от «родственно не связанных» цивилизаций,
возникших из Инь‑состояния примитивного общества, к позднейшим цивилизациям,
находящимся в той или иной степени родства по отношению к своим
«цивилизованным» предшественницам, становится очевидным, что в данном случае,
хотя и мог иметь место некий природный вызов, стимулировавший их развитие, все
же наиболее принципиальным и существенным был вызов человеческий, возникший в
результате их связи с обществом, с которым они находились в дочерних
отношениях. Этот вызов скрыт в самом отношении, начинающемся с дифференциации и
достигающем своей высшей точки в расколе. Дифференциация имеет место в теле
предшествующей цивилизации, когда та уже начинает утрачивать свою творческую
мощь, благодаря которой в период своего роста порождала добровольную
преданность в сердцах людей, пребывавших на ее дне или за ее границами. Когда
это происходит, больная цивилизация несет наказание за свою слабую
жизнеспособность, распадаясь на правящее меньшинство (которое управляет со все
возрастающим деспотизмом, но уже не лидирует) и пролетариат – внутренний и
внешний (который отвечает на этот вызов, осознав, что у него есть душа, и думая
о том, как бы ее спасти). Желание правящего меньшинства подавлять вызывает у
пролетариата желание отделиться. Конфликт между двумя этими желаниями
продолжается по мере того, как уходящая цивилизация движется к своему закату. И
когда она уже находится in articulo mortis[172],
пролетариат наконец освобождается от того, что было некогда его духовной
родиной, а теперь стало темницей и в конечном счете «градом погибели». В этом
конфликте между пролетариатом и правящим меньшинством, как он протекает от
начала до конца, мы можем распознать одно из тех драматических духовных
столкновений, которые обновляют творческую деятельность, выводя жизнь Вселенной
из состояния осеннего застоя через зимние страдания к весеннему брожению.
Отделение пролетариата есть динамический акт, ответ на вызов, благодаря
которому осуществляется переход от Инь к Ян. В этом динамическом отделении и
рождается «аффилированная» цивилизация.
Можем ли мы различить у истоков наших аффилированных
цивилизаций также и некий природный вызов? Что касается географического
положения, то во второй главе мы уже видели, что аффилированные цивилизации в
различной степени относились к своим предшественницам. На одном конце шкалы
вавилонская цивилизация развивалась всецело в границах родины предшествующего
шумерского общества. Здесь природный вызов вообще едва ли мог внести свой вклад
в возникновение новой цивилизации, за тем лишь исключением, что в период
междуцарствия, отделявший цивилизации друг от друга, их общая колыбель до
известной степени вновь могла впасть в примитивное природное состояние. Степень
этого падения могла вызвать повторение основателями позднейшей цивилизации
первоначальных достижений своих предшественников.
Однако когда аффилированная цивилизация прокладывает новые
пути и обретает свою родину частично или всецело за пределами области
распространения предшествующей цивилизации, то должен иметь место вызов нового,
неосвоенного природного окружения. Так, западная цивилизация при своем
возникновении подверглась вызову лесов, дождей и морозов Трансальпийской
Европы, с которым не сталкивалась предшествующая эллинская цивилизация. Индская
цивилизация подверглась при своем возникновении вызову влажных тропических
лесов долины Ганга, с которым не сталкивалась ее предшественница, отдаленная
провинция или же копия шумерской цивилизации в долине Инда[173]. Хеттская
цивилизация подверглась при своем возникновении вызову Анатолийского
плоскогорья, с которым не сталкивалась предшествующая шумерская цивилизация:
Вызов, которому подверглась эллинская цивилизация при своем возникновении, –
вызов моря – был в точности таким же, с каким столкнулась предшествующая
минойская цивилизация. Однако этот вызов был совершенно новым для внешнего
пролетариата, находившегося по ту сторону европейской границы «талассократии
Миноса». Эти континентальные варвары – ахейцы и им подобные, привыкнув к морю
во время постминойского Völkerwanderung, смело встречали и выдерживали столь же
тяжелое испытание, какое в свое время встретили и выдержали сами первопроходцы
минойской цивилизации.
В Америке юкатанская цивилизация подверглась при своем
возникновении вызову безводного, безлесного и почти беспочвенного
известнякового шельфа полуострова Юкатан, а мексиканская цивилизация – вызову
Мексиканского нагорья. Ни с одним из этих вызовов не сталкивалась
предшествующая майянская цивилизация.
Остаются индусская, дальневосточная, православно‑христианская,
арабская и иранская цивилизации. Они, по‑видимому, не подвергались никаким
явным природным вызовам, поскольку их родина, хотя и не была, подобно
вавилонской цивилизации, полностью идентичной цивилизациям‑предшественницам,
все же уже осваивалась теми или иными цивилизациями. Однако есть причина
подразделять православно‑христианскую и дальневосточную цивилизации. Боковая
ветвь православно‑христианской цивилизации в России подверглась вызову лесов, дождей
и морозов, еще более суровому, чем тот, с которым пришлось бороться западной
цивилизации. А боковая ветвь дальневосточной цивилизации в Корее и Японии
подверглась вызову моря, совершенно отличавшемуся от тех вызовов, с которыми
столкнулись первопроходцы древнекитайской цивилизации.
Мы показали, что наши аффилированные цивилизации, хотя во
всех случаях подвергались человеческому вызову, свойственному для стадии
распада предшествующих родительских цивилизаций, в некоторых, хотя и не во
всех, случаях подвергались также и вызовам природного окружения, схожим с теми,
с которыми сталкивались цивилизации, родственно не связанные. Чтобы завершить
этот этап нашего исследования, мы должны теперь задать вопрос: не подвергались
ли и родственно не связанные цивилизации наравне с вызовами природными вызовам
человеческим, являвшимся результатом их дифференциации от примитивных обществ?
По этому поводу мы лишь можем сказать, что исторические данные совершенно
недостаточны, как и следовало ожидать. Вполне возможно, что шесть наших
родственно не связанных цивилизаций столкнулись в «доисторическое» время,
окутывающее их возникновение, с человеческими вызовами, по качеству сравнимыми
с теми, которые бросила аффилированным обществам тирания правящего меньшинства
обществ предшествующих. Однако углублять эту тему значило бы размышлять в
пустоте.
VI.
Достоинства неблагоприятных условий[174]
Более точная проверка
Мы пришли к отказу от общераспространенного предположения,
будто бы цивилизации возникают в тех случаях, когда окружающая среда
предоставляет необыкновенно легкие условия жизни, и выдвинули аргумент в пользу
прямо противоположной точки зрения. Это широко распространенное мнение
возникает оттого, что новейший исследователь такой цивилизации, как египетская
(а в данном контексте древние греки были «людьми нового времени», как и мы
сами), принимает как нечто само собой разумеющееся землю в том виде, какой ее
сделал человек, и допускает, что она была такой же, когда первопроходцы впервые
за нее взялись. Мы постарались показать, что нижняя долина Нила, когда
первопроходцы впервые взялись за нее, в действительности была похожа на данное
выше описание некоторых частей верхней долины Нила в наши дни. Но эта разница в
географическом положении могла бы вызвать сомнения в убедительности нашего
примера. В настоящей главе мы намереваемся подробнее истолковать нашу мысль, приводя
те случаи, когда цивилизация сначала преуспевала, а потом терпела неудачу на
одном и том же месте и когда местность, в отличие от Египта, возвращалась к
своему первоначальному состоянию.
* * *
Центральная Америка
Замечательный пример представляет собой нынешнее состояние
родины майянской цивилизации. Здесь мы обнаруживаем руины огромных, великолепно
украшенных общественных зданий, которые ныне находятся вдалеке от какого‑либо
места проживания человека, в глубине тропического леса. Лес, подобно некоему
боа‑констриктору, буквально поглотил и продолжает не спеша пожирать руины и
сейчас, вырывая хорошо обтесанные и тесно пригнанные друг к другу камни своими
скорченными корнями и усиками. Контраст между нынешним видом местности и тем,
который она должна была иметь во времена существования майянской цивилизации,
настолько велик, что почти невообразим. А ведь было время, когда эти огромные
общественные здания стояли в центре больших многонаселенных городов, а города
располагались посреди широких пространств возделанной земли. Мимолетные
человеческие достижения и тщетные человеческие желания подвергаются резкому
воздействию возвращающегося леса, сначала поглощающему поля, затем дома и,
наконец, сами дворцы и храмы. Однако это не самый значительный урок, который
можно вынести из нынешнего состояния Копана, Тикаля или Паленке[175]. Еще более
красноречиво руины говорят о той борьбе с природным окружением, которую
создатели майянской цивилизации в свое время должны были вести. Самим своим
реваншем, обнаружившим всю ее ужасающую силу, тропическая природа
свидетельствует о храбрости и силе людей, которые однажды, хотя бы только и на
время, достигли успеха, обратив ее в бегство и поставив в безвыходное
положение.
* * *
Цейлон
О столь же трудном подвиге завоевания земли для обработки у
выжженных долин Цейлона напоминают разрушенные дамбы и заросшие полы цистерн, в
колоссальном масштабе построенных некогда на влажной стороне горной местности
сингальскими неофитами индской философии хинаяны[176].
«Чтобы понять, как появились такие цистерны, следует знать
кое‑что об истории Ланки. Идея, лежавшая в основании системы, была простой, но
великой. Царями, строившими цистерны, подразумевалось, что ни один дождь, с
такой щедростью проливающийся в горах, не должен достичь моря, не отдав по пути
дань человеку.
В центре южной части Цейлона расположена обширная горная
зона, но к востоку и северу засушливые долины простираются на тысячи квадратных
миль и в настоящее время весьма мало населены. В разгар сезона дождей, когда
армии грозовых облаков день за днем устремляются со всей своей силой на
возвышенности, существует естественная граница, которую дожди не в силах
перейти… Есть места, где демаркационная линия двух зон – влажной и засушливой –
настолько узка, что в пределах мили может показаться, будто вы перешли в новую
местность… Эта линия изгибается от моря до моря и кажется постоянной и не
затронутой человеческими действиями, такими, как вырубка лесов»{39}.
Однако миссионеры индской цивилизации на Цейлоне некогда
совершили tour de force[177],
заставив пораженные дождями нагорья давать воду, жизнь и богатство равнинам,
которые природа осудила на засуху и заброшенность.
«Горные потоки были перехвачены, а их воды направлены в
гигантские водохранилища внизу. Некоторые из этих водохранилищ достигают четырех
тысяч акров. От них шли каналы к другим, еще более обширным цистернам,
расположенным далее от возвышенностей, а от этих – к еще более удаленным. Ниже
уровня каждой большой цистерны и каждого большого канала существовали тысячи
маленьких цистерн, каждая из которых была центром деревни и в конечном счете
питалась из влажной горной зоны. Так, постепенно, сингальцы завоевали все (или
почти все) равнины, ныне до такой степени безлюдные»{40}.
Усердность труда, затраченного на поддержание созданной
человеческими руками цивилизации среди этих от природы бесплодных равнин,
демонстрируется двумя выдающимися особенностями в ландшафте сегодняшнего
Цейлона: возвращением той некогда орошенной и населенной полосы в состояние
первобытного бесплодия и концентрацией современных чайных, кофейных и
каучуковых плантаций в другой части острова, где идут дожди.
* * *
Северо‑Аравийская пустыня
Знаменитой и ставшей уже почти банальной иллюстрацией нашей
темы является нынешнее состояние Петры[178] и Пальмиры[179] – зрелище, вдохновившее целый ряд опытов по
философии истории, начиная с «Руин» Вольнея (1791)[180]. Сегодня эти
былые очаги сирийской цивилизации находятся в том же состоянии, что и очаги
цивилизации майянской, хотя [в данном случае] враждебным окружением, взявшим
реванш, является Афразийская степь, а не тропический лес. Руины говорят нам о
том, что эти искусно построенные храмы, портики и гробницы, когда они были еще
целы, служили украшением великих городов. Археологические данные, являющиеся
единственным средством при составлении нами картины майянской цивилизации,
подкрепляются здесь также и письменными свидетельствами исторических записей.
Мы знаем, что первопроходцы сирийской цивилизации, вызвавшие, словно по
волшебству, города среди пустыни, были мастерами в магии, владение которой
сирийская легенда приписывает Моисею.
Эти маги знали, как извлечь воду из сухой скалы и как найти
дорогу в нехоженой пустыне[181].
Первоначально Петра и Пальмира стояли посреди орошенных садов, какие ныне еще
окружают Дамаск. Но Петра и Пальмира не жили в то время (как живет сегодня
Дамаск) исключительно или преимущественно за счет плодов своих близлежащих
оазисов. Их богачи были не садовниками, выращивающими фрукты на продажу, но
купцами, поддерживавшими связь оазиса с оазисом, континента с континентом
посредством деятельной караванной торговли, двигаясь из одной точки в другую
через пролегавшие между ними пространства степей и пустынь. Нынешнее состояние
этих городов свидетельствует не только об окончательной победе пустыни над
человеком, но и о величине предшествующей победы человека над пустыней.
* * *
Остров Пасхи
В других условиях мы можем сделать подобный же вывод
относительно истоков полинезийской цивилизации[182], исходя из
нынешнего положения острова Пасхи. Ко времени своего открытия современными
исследователями этот удаленный остров в юго‑восточной части Тихого океана был
населен двумя расами: расой из плоти и крови и расой из камня – явно
примитивным населением полинезийского физического типа и выполненным на высоком
уровне «населением» статуй. Живые обитатели не владели ни искусством ваяния
подобных статуй, ни умением преодолевать по воде ту тысячу миль открытого моря,
что отделяет остров Пасхи от ближайшего из островов Полинезийского архипелага.
До своего открытия европейскими моряками остров был оторван от остального мира
на протяжении неизвестного количества времени. Однако его двойное население из
плоти и камня свидетельствует столь же ясно, сколь руины Пальмиры и Копана, об
исчезнувшем прошлом, которое, судя по всему, чрезвычайно отличалось от
настоящего.
Эти человеческие существа, должно быть, были порождены, а
статуи – изваяны полинезийскими мореплавателями, некогда проложившими путь без
карт и компаса через Тихий океан на своих хрупких открытых каноэ. И данное
путешествие вряд ли было единичным приключением, по воле случая забросившим
одну лодку с первопроходцами на остров Пасхи. «Народ статуй» столь многочислен,
что в его создании должно было участвовать не одно поколение. Все указывает на
положение дел, при котором плавание на тысячи миль в открытом море совершалось
регулярно на протяжении долгого периода времени. В конце концов, по неизвестной
для нас причине море, некогда победоносно пересеченное человеком, сомкнулось
вокруг острова, как пустыня сомкнулась вокруг Пальмиры, а лес – вокруг Копана.
«Люди из камня», как статуя из стихотворения Хаусмена[183], сами
остались подобными камню, а люди из плоти и крови порождали с каждым поколением
все более и более грубое и неумелое потомство.
Пример острова Пасхи, несомненно, прямо противоречит широко
распространенному на Западе взгляду на острова южных морей как на земной рай, а
на их обитателей – как на детей природы, находящихся в положении Адама и Евы до
грехопадения. Ошибочная идея возникает из того допущения, что какая‑то одна
часть полинезийской окружающей среды принимается за целое. Природное окружение
фактически состоит не только из земли, но и из воды, которая являет собой
грозный вызов всякому человеческому существу, пытающемуся пересечь ее, не
обладая средствами лучшими, чем находились в распоряжении полинезийцев. Лишь
после того, как первопроходцы смело и успешно ответили на этот вызов «соленого,
чуждого моря» и совершили tour de force (рывок) регулярного морского
сообщения между островами, они добились опоры на крупицах сухой земли,
разбросанных по водной пустыне Тихого океана почти столь же редко, как в
космосе разбросаны звезды.
* * *
Новая Англия [184]
Прежде чем закончить данный обзор возвращений к природному
состоянию, автор хотел бы позволить себе привести два примера, которые ему
случилось наблюдать лично: один пример несколько необычный, а другой – весьма
очевидный.
Однажды я путешествовал по сельской местности штата
Коннектикут в Новой Англии и неожиданно наткнулся на заброшенную деревню –
зрелище, как мне говорили, не столь необыкновенное для тех мест, однако для
европейца неожиданное и приводящее в замешательство. В течение, возможно, почти
двух столетий Таун‑Хилл – таково было название этой деревни – простоял со своей
деревянной георгианской церковью[185] в центре деревенской лужайки, со своими
коттеджами, фруктовыми садами и полями. Церковь стоит до сих пор, сохраняемая
как памятник старины, однако дома исчезли, фруктовые деревья одичали, а поля
постепенно пришли в запустение.
За последние сто лет жители Новой Англии несоразмерно своему
количеству участвовали в отвоевывании у дикой природы всего широкого
пространства Американского континента от Атлантики до Тихого океана. Однако в
то же время они позволили природе взять обратно эту деревню в самом центре их
первоначальной родины, где предки их жили, возможно, в течение двух столетий.
Стремительность, основательность, необузданность, с какими природа
заново утверждала свое владычество над Таун‑Хиллом, лишь только человек ослабил
свою власть, действительно, определяют меру тех усилий, которые человек некогда
приложил для того, чтобы возделать эту бесплодную почву. Лишь такая же
интенсивная, как и пущенная в ход при освоении Таун‑Хилла, энергия могла
оказаться достаточной для «покорения Запада». Пустынная местность объясняет
чудо появления выросших, словно грибы, городов Огайо, Иллинойса, Колорадо и
Калифорнии.
* * *
Римская Кампания [186]
Впечатление, которое на меня произвел Таун‑Хилл, на Тита
Ливия в свое время произвела Римская Кампания. Здесь он был изумлен тем, что
бесчисленное общество вооруженных мелких землевладельцев некогда должно было
жить в области, которая в его время, как и в наше[187], представляло
собой пустынную болотистую местность и рассадник лихорадки. Это позднейшее
запустение воспроизводит первоначальное состояние отталкивающего ландшафта,
некогда превращенного первопроходцами из латинов[188] и вольсков[189] в возделанную и населенную сельскую местность.
Энергия же, порожденная в процессе освоения этой узкой полоски суровой
италийской почвы, стала той энергией, которая впоследствии завоевала мир от
Египта до Британии.
* * *
Perfida Capua [190]
Изучив характер некоторых окружающих сред, фактически
являвшихся местами возникновения цивилизаций или иных выдающихся человеческих
достижений, и обнаружив, что условия, которые они предоставляли человеку, не
были легкими, а, скорее, наоборот, давайте перейдем теперь к дополнительному
исследованию. Рассмотрим несколько иную окружающую среду, в которой условия
жизни были легкими, и исследуем то воздействие, которое эта окружающая среда
произвела на человеческую жизнь. Предпринимая подобное исследование, мы должны
различать две ситуации. В первой из них народ попадает в легкую для жизни
окружающую среду после того, как прожил какое‑то время в тяжелой. В другой
ситуации народ существует в легкой окружающей среде, так никогда и не
столкнувшись (насколько это известно) с иной средой с тех пор, как его
дочеловеческие предки стали людьми. Иными словами, мы должны проводить различие
между воздействием благоприятного окружения на человека цивилизованного и на
человека примитивного.
В античной Италии Рим нашел свою противоположность в Капуе.
Капуанская Кампания[191] была до такой же степени благоприятна для
человека, как Римская Кампания – сурова. В то время как римляне уходили далее
из своей отталкивающей страны, чтобы покорять одного соседа за другим, капуанцы
оставались на месте и позволяли одному соседу за другим завоевывать себя. От
своих последних завоевателей – самнитов – Капуя была освобождена, по ее же
собственной просьбе, благодаря вторжению Рима, а затем, в самый критический
момент самой критической войны в римской истории, вслед за битвой при Каннах,
Капуя отплатила Риму тем, что открыла свои ворота Ганнибалу. И Рим, и Ганнибал
были одного мнения, рассматривая переход Капуи на другую сторону в качестве
наиважнейшего результата битвы и, возможно, самого решающего события войны.
Ганнибал отправился в Капую и расположил там свое войско на зимних квартирах,
вследствие чего случилось нечто, обманувшее все ожидания. Зима, проведенная в
Капуе, настолько деморализовала армию Ганнибала, что она уже никогда, как
прежде, не стала орудием победы.
* * *
Совет Артембара
У Геродота есть история, весьма уместная в данном контексте.
Некий Артембар и его друзья пришли к Киру со следующим предложением:
«“Так как Зевс отнял у Астиага владычество над Азией и
вручил его персам, а среди персов – тебе, Кир, давайте же покинем нашу
маленькую и притом суровую страну и переселимся в лучшую землю. Много земель
здесь по соседству с нами, много и дальше. Если мы завоюем одну из них, то наша
слава и уважение к нам еще больше возрастут. Так подобает поступать народу –
властителю [других народов]. Ибо когда же еще нам представится более удобный
случай, как не теперь, когда мы владычествуем над многими народами и в наших
руках целая Азия?”
Услышав эти слова, Кир не удивился предложению и велел его
выполнять. Тем не менее он советовал персам готовиться к тому, что они не будут
больше владыками, а станут рабами. Ведь, говорил он, в благодатных странах люди
обычно бывают изнеженными…»{41}
* * *
«Одиссея» и Исход
Если мы обратимся к свидетельствам античной литературы, даже
еще более прославленным, чем «История» Геродота, то обнаружим, что никогда ни
со стороны циклопов, ни со стороны других агрессивных противников не угрожала
Одиссею опасность большая, чем со стороны волшебников, призывавших его к легкой
жизни, – Кирки с ее гостеприимством, которое заканчивалось в свинарнике;
лотофагов, в земле которых, согласно более позднему источнику, «всегда был
полдень»; сирен, против чьих очаровывающих голосов он заткнул воском уши своим
морякам, предварительно приказав привязать себя к мачте, и Калипсо, которая как
богиня была прекраснее Пенелопы, но как существо нечеловеческое – ниже супруги
смертного[192].
Что касается израильтян Исхода, то строгие авторы Пятикнижия
не предусмотрели ни сирен, ни Кирки, чтобы сбить их с пути, но мы читаем, что
они постоянно жаждали «египетских котлов с мясом»[193]. Если бы они
добились своего, то мы могли бы быть уверенными, что они никогда бы не
произвели на свет Ветхого Завета. К счастью, Моисей принадлежал к той же школе
мысли, что и Кир.
* * *
«Тунеядцы» [194]
Критик мог бы заявить, что примеры, которые мы привели,
недостаточно убедительны, что народ, перешедший от тяжелых условий жизни к
легким, «испортится», подобно голодному человеку, набивающему себе рот пищей, но
те, кто пользовался легкими условиями постоянно, этого, предположительно, могли
бы и не сделать. В таком случае мы должны обратиться ко второй из выделенных
нами выше ситуаций, в которой народ находится в благоприятной окружающей среде
и, насколько это известно, никогда не находился в иной. В данном случае
беспокоящий фактор перехода устранен, и мы в состоянии исследовать воздействие
благоприятных условий в чистом виде. Здесь можно привести подлинную картину
[этих условий, заимствованную из жизни] Ньясаленда[195], как ее
увидел полвека назад западный исследователь:
«Укрытые в этих бесконечных лесах, подобно птичьим гнездам,
в страхе друг перед другом и перед общим врагом – работорговцем, – стоят
маленькие туземные деревни. Здесь в своей девственной простоте обитает
Первобытный Человек, без одежды, без цивилизации, без знания, без религии –
настоящее дитя природы, бездумное, беззаботное и довольное. Этот человек, по‑видимому,
вполне счастлив. У него практически нет желаний… Африканца часто порицают за
лень, но это неправильно. Он не нуждается в работе. Нет причины трудиться,
когда вокруг тебя столь щедрая природа. Следовательно, его праздность является,
так сказать, столь же неотъемлемой частью его самого, как приплюснутый нос, и
столь же мало достойна порицания, как медлительность в черепахе»{42}.
Чарлз Кингсли[196], этот
викторианский представитель деятельной жизни, предпочитавший северо‑восточный
ветер юго‑западному, написал небольшой рассказ под названием «История великой и
прославленной нации тунеядцев, ушедших из страны Трудолюбия, потому что они
хотели целыми днями играть на варгане». Эта нация понесла наказание,
выродившись в горилл.
Забавно проследить различное отношение, которое проявили к
«лотофагам» эллинский поэт и современный западный моралист. У эллинского поэта
лотофаги и их Лотосовая земля страшно привлекательны – ловушка дьявола на пути
цивилизованного грека. С другой стороны, Кингсли демонстрирует отношение
современного британца, рассматривая своих «тунеядцев» со столь высокомерным
осуждением, что остается невосприимчивым к их привлекательным чертам. Он
считает своим несомненным долгом присоединить их к Британской империи – не для
нашего, конечно же, а для их собственного блага – и обеспечивает их брюками и
Библиями.
Тем не менее нашей задачей является не одобрение или же
порицание, а понимание. Мораль заключается в первых главах Книги Бытия: лишь после
того как Адам и Ева были изгнаны из Эдемской «лотосовой земли», их потомки
начали изобретать сельское хозяйство, металлургию и музыкальные инструменты.
VII.
Вызов окружающей среды
1. Стимул суровых стран
Границы исследования
Теперь мы, возможно, установили ту истину, что легкие
условия неблагоприятны для цивилизации. Можем ли мы сделать дальнейший шаг?
Можем ли мы с уверенностью сказать, что стимул к развитию цивилизации
становится тем сильнее, чем тяжелее условия окружающей среды? Давайте взвесим
доказательства в пользу этого утверждения, а затем – доказательства против него
и посмотрим, какой получается вывод. Доказательство в пользу того, что
суровость окружающей среды и стимул [к развитию], вероятно, возрастают pari
passu[197],
привести несложно. Скорее наоборот, возможно, нас приведет в замешательство
обилие приходящих на ум примеров. Большинство из них предстает в форме
сравнений. Начнем с разделения наших примеров на две группы, где пункты, по
которым проводится сравнение, относятся соответственно к природной и к
человеческой среде. Рассмотрим сначала группу, относящуюся к природной среде.
Она подразделяется на два разряда. К первому принадлежат сравнения между
соответствующими стимулирующими воздействиями природной среды, представляющими
различные уровни сложности, ко второму – сравнения между соответствующими
стимулирующими воздействиями старой и новой земли, независимо от свойственного
местности характера.
* * *
Хуанхэ и Янцзы
Давайте в качестве первого примера рассмотрим различные
уровни сложности, представленные низовьями двух великих китайских рек. По‑видимому,
когда человек впервые овладел водным хаосом низовьев Желтой реки (Хуанхэ), она
ни в один из сезонов не была судоходной. Зимой она либо замерзала, либо была
запружена плавающими льдами, а таяние этих льдов каждой весной приводило к
опустошительным наводнениям, которые неоднократно изменяли течение реки,
вырывая новые русла, в то время как старые превращались в заросшие болота. Даже
сегодня, спустя три или четыре тысячелетия, в течение которых люди прилагали
все усилия для осушения болот и ограничения реки набережными, опустошающее
воздействие наводнений не устранено. Не далее как в 1852 г. русло Нижней Хуанхэ
полностью изменилось, и ее выход в море переместился с южной стороны
полуострова Шаньдун на северную на расстояние более 100 миль. С другой стороны,
Янцзы, должно быть, всегда была судоходной, а ее разливы, хотя порой и
достигают опустошительных размеров, менее часты, чем разливы Хуанхэ. Кроме
того, в долине Янцзы менее суровые зимы. Однако китайская цивилизация
зародилась не на Янцзы, а на Хуанхэ.
* * *
Аттика и Беотия
Всякий путешественник, въезжающий в Грецию или покидающий ее
не по морю, а через северную границу с континентом, не может не поразиться тому
факту, что родина эллинской цивилизации более скалиста, «костиста» и «тяжела»,
чем земли к северу, которые никогда не породили собственной цивилизации.
Подобные контрасты, тем не менее, можно наблюдать в пределах самой территории
Эгеи.
Например, если ехать на поезде из Афин по железной дороге, в
конечном счете приводящей – через Салоники – в Центральную Европу, то на первом
же этапе путешествия вы пересечете местность, которая оставляет у
путешественника из Западной или Центральной Европы первое впечатление хорошо
знакомого пейзажа. После того как поезд медленно, в течение нескольких часов огибал
восточные склоны горы Парнас среди типично эгейского пейзажа с низкорослыми
пиниями и известняковыми зубчатыми скалами, путешественник изумляется,
обнаружив, что мчится по равнинной местности со слегка холмистыми плодородными
пашнями. Конечно, этот пейзаж не более чем «курьез». Путешественник больше не
увидит ничего подобного, пока позади не останется Ниш и он не спустится к
Мораве, двигаясь по направлению к Среднему Дунаю. Как же называлась эта
исключительная часть страны во времена эллинской цивилизации? Она называлась
Беотией, и для эллинского сознания слово «беотиец» имело вполне определенный
смысл. Оно означало неотесанный, флегматичный, лишенный воображения и грубый
этос – этос, дисгармонировавший с господствующим гением эллинской культуры. Этот
диссонанс подчеркивался тем фактом, что как раз за горной цепью Киферона,
вокруг одного из отрогов Парнаса, где в наши дни железная дорога делает
поворот, расположена Аттика, «Эллада Эллады». Страна, этос которой явился
квинтэссенцией эллинизма, расположена бок о бок со страной, этос которой
воздействовал на чувствительность обычного грека, как диссонирующий звук. Этот
контраст резюмировали в остроумных выражениях: «беотийская свинья» и
«аттическая соль».
Момент, интересный с точки зрения нашего исследования,
заключается в том, что данный культурный контраст географически совпадал с
одинаково поразительным контрастом в природной среде. Ибо Аттика – «Эллада
Эллады» не только душевно, но и физически. К другим странам Эгеи она находится
в таком же отношении, в каком они находятся к землям за ее пределами. Если вы
будете приближаться к Греции [морем] с запада и проходить через Коринфский
залив, то почувствуете, что ваш глаз уже привык к греческому ландшафту –
прекрасному, но одновременно неприступному – перед тем, как вид загородят
скалистые берега глубоко изрезанного Коринфского канала. Но когда ваш пароход
появится в Сароническом заливе, вы будете вновь шокированы суровостью
ландшафта, к которой вы совсем не были подготовлены пейзажем на другой стороне
Истма. Эта суровость особенно ярко выражена, когда вы огибаете Саламин и видите
Аттику. В Аттике с ее чрезмерно легкой и каменистой почвой процесс, называемый
обнажением – смыванием в море «мяса» с горных «костей», процесс, которого
Беотия избежала вплоть до наших дней, завершился еще во времена Платона, как
свидетельствует его красочное описание в «Критии»[198].
Что же сделали афиняне со своей бедной страной? Мы знаем,
что в результате их деятельности Афины стали «школой Эллады». Когда пастбища
Аттики высохли, а пахотные земли истощились, ее жители обратились от
скотоводства и хлеборобства – основных занятий в Греции того времени – к
способам, которые были характерны только для них: выращиванию олив и
использованию подпочвы. Это милостивое дерево Афины[199] способно не только выживать, но и пышно расти
на голых скалах. Однако человек не может питаться одним лишь оливковым маслом.
Чтобы жить за счет своих оливковых рощ, афинянин должен был обменивать свое
аттическое масло на скифское зерно. Чтобы выставить свое масло на скифский
рынок, он должен был разлить его в кувшины и перевезти по морю – деятельность,
которая привела к появлению аттической керамики и аттической морской торговли,
а также (поскольку торговля требует валюты) аттических серебряных мин.
Но эти богатства были лишь экономической основой той
политической, художественной и духовной культуры, которая сделала Афины «школой
Эллады» и «аттической солью» в противоположность беотийской животности. В
политическом плане результатом явилось создание Афинской империи. В
художественном плане расцвет гончарного ремесла предоставил аттическим
вазописцам возможность создания новых форм прекрасного, которые спустя два
тысячелетия приводили в восторг английского поэта Китса[200]. В то же
время исчезновение аттических лесов заставило афинских архитекторов работать не
с деревом, а с камнем и тем самым привело к созданию Парфенона.
* * *
Византии и Халкедон [201]
Процесс расширения территории эллинского мира, о причине
которого мы упоминали в первой главе (см. с. 41), предлагает нашему вниманию
еще одну эллинскую иллюстрацию к данной теме: контраст между двумя греческими
колониями – Халкедоном и Византием, первая из которых была основана на
азиатской, а вторая – на европейской стороне выхода из Мраморного моря в
Босфорский пролив.
Геродот рассказывает нам, что приблизительно через столетие
после основания двух этих городов персидский сатрап Мегабаз «навеки оставил о
себе память среди геллеспонтийцев следующим замечанием. В Византии Мегабаз как‑то
узнал, что калхедоняне поселились в этой стране на семнадцать лет раньше
византийцев. Услышав об этом, он сказал, что халкедоняне тогда были слепцами.
Ведь не будь они слепы, они не нашли бы худшего места для своего города, когда
у них перед глазами было лучшее»{43}.
Но легко быть мудрым после случившегося, и во времена
Мегабаза (к моменту персидского вторжения в Грецию) последующие судьбы двух
городов уже говорили сами за себя. Халкедон все еще был тем, чем его считали
всегда, – обычной земледельческой колонией, причем, с земледельческой точки
зрения, его сторона была и остается несравненно лучшей по сравнению с
византийской стороной. Жители Византия пришли позднее и довольствовались
остатками. В качестве земледельческой общины они потерпели неудачу, главным
образом из‑за непрерывных набегов фракийских варваров. Но в своей гавани –
Золотом Роге – они неожиданно наткнулись на «золотое дно», ибо течение, которое
впадает в Босфор, благоприятно для всякого судна, пытающегося приблизиться к
Золотому Рогу с какой бы то ни было стороны[202]. Полибий,
творивший во II в. до н. э. (примерно через пять веков после основания этой
греческой колонии и примерно за пять веков до ее возвышения до уровня столицы
ойкумены под названием Константинополя), говорит:
«Византийцы занимают удобнейшую со стороны моря местность в
отношении безопасности и благосостояния жителей и самую неудобную в том и
другом отношении со стороны суши. С моря местность прилегает к устью Понта и
господствует над ним, так что ни одно торговое судно не может без соизволения
византийцев ни войти в Понт, ни выйти из него»{44}.
Однако Мегабаз, который благодаря своему mot[203] сохранил репутацию человека проницательного,
возможно, вряд ли ее заслуживает. Не может быть никакого сомнения в том, что
если бы колонисты, занявшие Византии, прибыли на двадцать лет раньше, то они
выбрали бы свободный берег Халкедона. Также вполне вероятно, что если бы их
земледельческим усилиям меньше препятствовали фракийские набеги, то они были бы
менее расположены к развитию торговых возможностей своего берега.
* * *
Израильтяне, финикийцы и филистимляне
Если мы обратимся теперь от эллинской истории к сирийской,
то обнаружим, что разнообразные элементы, вошедшие в состав населения Сирии или
уже находившиеся там ко времени постминойского Völkerwanderung [переселения
народов], отделились друг от друга сравнительно поздно в прямом соответствии со
сложностью природной среды тех или иных районов, где им случилось поселиться.
Инициативу в развитии сирийской цивилизации взяли на себя не арамеи «Аваны и
Фарфара, рек дамасских»[204], не другие
арамейские племена, осевшие на Оронте задолго до того, как греческая династия
Селевкидов основала там столичный город Антиохию[205], и не те
племена Израиля, которые остановились на востоке от Иордана, чтобы откормить
своих «тельцов васанских»[206] на прекрасных пастбищах Галаада[207].
Замечательнее всего, что первенство сирийского мира не поддерживалось и теми
беженцами из Эгеи, которые пришли в Сирию не как варвары, но как наследники
минойской цивилизации, и завладели гаванями и долинами к югу от Кармеля[208], –
филистимлянами. Имя этого народа приобрело такой же презрительный оттенок,
какой имя беотийцев имело среди греков. Даже если допустить, что ни беотийцы,
ни филистимляне, быть может, никогда не были столь плохи, как их изображают, и
что источник наших знаний о них – почти исключительно свидетельства их
противников, разве мы можем что‑либо возразить против того факта, что их
противники опередили их и добились за их счет уважительного внимания потомства?
Три достижения делают честь сирийской цивилизации. Она ввела
алфавит, открыла Атлантический океан и пришла к особой концепции Бога, общей
для иудаизма, зороастризма, христианства и ислама, но чуждой египетскому,
шумерскому, индскому и эллинскому направлениям религиозной мысли. Каким же
сирийским общинам принадлежат эти достижения?
Что касается алфавита, то как было в действительности – мы
не знаем. Хотя его изобретение традиционно приписывают финикийцам, он мог
быть передан в элементарной форме и филистимлянами из минойского мира. Так что
при нынешнем состоянии наших знаний алфавиту не следует доверять. Перейдем к
двум оставшимся [достижениям].
Кем были сирийские мореплаватели, рискнувшие проплыть все
Средиземное море вплоть до Геркулесовых столпов и даже за их пределы? Ими не
были филистимляне, несмотря на их минойскую кровь. Последние отвернулись от моря
и вели борьбу, обреченную на неудачу, за плодородные равнины Ездрилон и Шефель[209] с противниками более сильными, чем они сами,
израильтянами холмистой страны, занятой коленами Ефрема[210] и Иуды[211].
Первооткрывателями Атлантики стали финикийцы Тира и Сидона.
Эти финикийцы были остатками хананеев – народа, населявшего
эту местность еще до прихода филистимлян и евреев. Этот факт в виде генеалогии
выражен в одной из первых глав Книги Бытия, где мы читаем, что от Ханаана (сына
Хама, сына Ноева) «родился Сидон, первенец его»{45}. Они выжили
благодаря тому, что их жилища, расположенные вдоль центральной части сирийского
побережья, не был и достаточно привлекательными для захватчиков. Финикия,
которую филистимляне оставили в стороне, являет собой замечательный контраст
Шефелю, где поселились они сами. В этой части побережья нет плодородных равнин.
Цепь Ливанских гор поднимается отвесно от моря – столь отвесно, что там с
трудом можно найти место для обычной или железной дороги. Финикийские города не
могли сообщаться легко даже друг с другом, за исключением морского пути, и Тир,
наиболее известный из них, расположен, подобно гнезду чайки, на скалистом острове.
Таким образом, в то время как филистимляне паслись как овцы в клевере,
финикийцы (чей морской горизонт ограничивался до сих пор небольшим
пространством каботажного сообщения между Библом и Египтом) пустились, на
минойский манер, в открытое море и основали вторую родину для собственного
извода сирийской цивилизации вдоль африканского и испанского побережий
Западного Средиземноморья. Карфаген, имперский город этого заморского
финикийского мира, обогнал филистимлян даже в области военного дела, которому
они отдавали предпочтение. Известнейшим ратоборцем среди филистимлян был Голиаф
из Гефа. Рядом с финикийцем Ганнибалом он кажется жалкой фигурой.
Но духовное открытие монотеизма как проявление человеческой
доблести превзошло физическое открытие Атлантики. Оно явилось подвигом
сирийской общины, выброшенной на берег [потоком] Völkerwanderung [переселения
народов] в природную среду – даже еще менее привлекательную, чем финикийский
берег, – на холмистую местность колен Ефрема и Иуды. Вероятно, этот покрытый
лесами худосочный холмистый клочок оставался незанятым до тех пор, пока его не
заселил авангард еврейских кочевников, переместившихся на окраины Сирии из
Северо‑Аравийской степи в XIV в. до н. э. и позднее, на протяжении
междуцарствия, последовавшего за закатом Нового царства в Египте. Здесь из
скотоводов‑кочевников они превратились в оседлых земледельцев, обрабатывавших
каменистую почву, и здесь они жили в безвестности до тех пор, пока не наступил
зенит сирийской цивилизации. Уже в V в. до н. э., в эпоху, когда все великие
пророки сказали свое слово, само название «Израиль» было неизвестно Геродоту, а
земля Израиля в геродотовской панораме сирийского мира была еще заслонена
землей Палестины. Он пишет о «земле филистимлян»{46},[212] – и Филистиимом, или Палестиной, она остается
до наших дней.
Сирийская притча рассказывает нам о том, как Бог Израиля
некогда подверг израильского царя сильнейшему из испытаний, каким только Бог
может подвергнуть смертного.
«Явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: “Проси,
что дать тебе”. И сказал Соломон: “…Даруй же рабу Твоему сердце разумное…” И
благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: “За то,
что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не
просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, – вот,
Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что
подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе; и
то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет
подобного тебе между царями во все дни твои”»{47}.
Притча о Соломоновом выборе является иносказанием истории
избранного народа. В силу своего духовного понимания израильтяне превзошли
военную доблесть филистимлян и морскую доблесть финикийцев. Они не обрели того,
что искали язычники, но впервые обрели Царство Божие. И все остальные вещи
приложились к нему. Что касается жизни их врагов, то филистимляне были отданы в
руки Израиля. Что касается богатства, то евреи унаследовали Тиру и Карфагену,
ведя сделки на уровне, далеко превосходившем все финикийские мечты, на
континентах, о которых финикийцы даже не подозревали. Относительно долгой жизни
можно сказать, что евреи дожили – как особый народ – до наших дней, на много
веков пережив то время, когда финикийцы и филистимляне утратили свою
[национальную] идентификацию. Их древние соседи в сирийском обществе
подверглись коренному изменению и были перечеканены, подобно монетам с новыми
изображениями и новыми надписями, тогда как Израиль оказался непроницаемым для
подобной алхимии, которую История проводила в тиглях универсальных государств,
Вселенских церквей и переселений народов и жертвой которой стали, в свою
очередь, все мы, неевреи.
* * *
Бранденбург и Рейнская область
Может показаться, что Аттику и Израиль от Бранденбурга
отделяют большое расстояние и крутой спуск. Однако на своем уровне Бранденбург
являет нам пример того же самого закона. Если вы будете проезжать через не
производящую сильного впечатления местность, которая образовывала
первоначальное владение Фридриха Великого[213], –
Бранденбург, Померанию и Восточную Пруссию с их истощенными сосновыми насаждениями
и песчаными полями, вам может показаться, что вы пересекаете одну из отдаленных
частей Евразийской степи. В каком бы направлении вы ни отправились отсюда – к
пастбищам и буковым рощам Дании, к чернозему Литвы или виноградникам Рейнской
области, вы попадете в более легкую и более приятную местность. Однако потомки
тех средневековых колонистов, которые заняли эти «бесплодные земли», сыграли
исключительную роль в истории западного общества. Не только потому, что в XIX
столетии они подчинили себе всю Германию, а в XX привели немцев к энергичной
попытке навязать нашему обществу свое универсальное государство. Пруссак научил
также своих соседей, как заставить песок плодоносить, удобрив его
искусственными удобрениями, как поднять народонаселение до уровня беспрецедентной
социальной продуктивности при помощи системы обязательного обучения и до уровня
беспрецедентной социальной защиты при помощи системы обязательного
здравоохранения и страхования на случай безработицы. Он может нам не нравиться,
однако отрицать, что мы научились его важным и ценным урокам, мы не можем.
* * *
Шотландия и Англия
Нет нужды обсуждать то, что шотландская земля «тяжелее»
английской, или же подробно проводить и без того хорошо известное различие в
темпераментах типичного шотландца – серьезного, бережливого, пунктуального,
настойчивого, предусмотрительного, честного и хорошо образованного, и типичного
англичанина – поверхностного, экстравагантного, рассеянного, порывистого,
беззаботного, свободного, легкого и плохо умеющего читать. Англичане могут
отнестись к этому традиционному сравнению не более чем как к шутке. Они вообще
большинство вещей рассматривают не более чем как шутку. Иное дело шотландцы.
Джонсон[214] любил подшучивать над Босуэллом[215], по‑видимому,
неоднократно повторяя mot (остроту), что лучшая перспектива, которую
видит перед собой шотландец, – это дорога в Англию. А еще до рождения Джонсона
остряк времен королевы Анны[216] сказал, что если бы Каин был шотландцем, то
его наказание переменилось бы: вместо того, чтобы быть осужденным на скитание
по земле, его приговорили бы к тому, чтобы он сидел дома. Общераспространенное
впечатление, будто шотландцы сыграли несоразмерную своей численности роль в
создании Британской империи и в занятии высших мест в церкви и государстве,
несомненно, имеет под собой серьезные основания. Классический парламентский
конфликт в викторианской Англии произошел между чистокровным шотландцем и
чистокровным евреем[217], и среди
преемников Гладстона на посту премьер‑министра Соединенного Королевства вплоть
до наших дней приблизительно половина были шотландцами[218].
* * *
Борьба за Северную Америку
Классическим примером данной нашей темы в западной истории
является исход соперничества между полудюжиной различных групп колонистов за
господство над Северной Америкой. Победителями из этого соревнования вышли
жители Новой Англии, и в предыдущей главе мы уже отмечали необыкновенно сложные
местные условия, которые выпали на долю последних хозяев континента. Давайте
теперь сравним эту окружающую среду жителей Новой Англии, ярким образчиком
которой является местоположение Таун‑Хилла, с американской средой их ранее
пришедших соперников: голландцев, французов, испанцев и других английских
колонистов, которые осели вдоль южной части Атлантического побережья и в
Виргинии[219].
В середине XVII столетия, когда все эти группы впервые
ступили на берега Американского материка, нетрудно было предсказать, что между
ними произойдет конфликт за обладание внутренними районами страны, но даже
наиболее дальновидный из живших в то время наблюдателей вряд ли попал бы в
цель, если бы его в 1650 г. попросили определить будущего победителя. Он мог бы
проницательно исключить испанцев, несмотря на их два очевидных преимущества:
обладание Мексикой, единственным североамериканским регионом, куда проникла
предшествующая цивилизация, и репутацию, которой тогда еще пользовалась Испания
среди европейских держав, но которая уже была незаслуженной. Мексику он мог бы
не принимать в расчет по причине ее удаленного положения, а испанский престиж –
учитывая испанские неудачи в европейской (Тридцатилетней) войне[220], к тому
времени уже закончившейся. «Франция, – мог бы сказать он, – унаследует военное
первенство Испании в Европе, Голландия и Англия – ее первенство в области флота
и торговли на море. Состязание за Северную Америку будет происходить между
Голландией, Францией и Англией. При беглом осмотре шансы Голландии кажутся
наиболее многообещающими. Она превосходит на море и Англию, и Францию, а в Америке
она владеет отличными водными воротами во внутренние районы страны – долиной
реки Гудзон. Но при внимательном рассмотрении Франция кажется более вероятной
победительницей. Она владеет еще лучшими водными воротами – рекой Святого
Лаврентия, и в ее власти истощить и сковать голландцев, используя против их
родины свою превосходящую военную силу. Но обе английские группы, – добавил бы
он, – я могу с уверенностью исключить. Возможно, южные английские колонисты с
их относительно плодородной почвой и мягким климатом выживут как анклав,
отрезанный от внутренних территорий французами или голландцами, – в зависимости
от того, кто из них завоюет долину Миссисипи. Однако одно несомненно: маленькая
группка поселений в суровой и бесплодной Новой Англии обречена на исчезновение,
будучи, так сказать, отрезанной от своих родственников голландцами на Гудзоне,
в то время как французы будут оказывать на нее давление со стороны реки Святого
Лаврентия».
Предположим, что наш воображаемый наблюдатель дожил до
нового столетия. В 1701 г. он поздравил бы себя с тем, что оценил перспективы
французов выше перспектив голландцев, поскольку эти последние покорно сдали
свои позиции на Гудзоне английским конкурентам в 1664 г. А тем временем
французы продвинулись от реки Святого Лаврентия к Великим озерам и добились
господства над перевозками в бассейне Миссисипи.
Ла Салль протянулся вдоль реки вплоть до ее устья. Там было
основано новое французское поселение Луизиана, и ее порт Новый Орлеан,
несомненно, имел великое будущее. Что касается Франции и Англии, то наш
наблюдатель не нашел бы причины вносить изменения в свой прогноз. Жители Новой
Англии спаслись от вымирания, возможно, благодаря приобретению Нью‑Йорка, но
лишь затем, чтобы довольствоваться столь же скромными перспективами на будущее,
что и их южные родственники. Будущее континента фактически казалось решенным –
победителями должны были стать французы.
Не одарить ли нам нашего наблюдателя сверхчеловеческой
долготой жизни, чтобы он мог посмотреть на ситуацию еще раз в 1803 г.? Если мы сохраним
его в живых до этого времени, он будет вынужден признать, что его разум не
заслуживает его долголетия. К концу 1803 г. французский флаг совершенно исчез с
политической карты Северной Америки. В течение предшествующих сорока лет Канада
стала владением британской короны, а Луизиана, после того как Франция уступила
ее Испании и вновь получила обратно, была продана Наполеоном Соединенным Штатам
– новой великой державе, возникшей из тринадцати британских колоний.
В этом 1803 г. континент уже в руках Соединенных Штатов, и
границы пророчества сужаются. Остается только предсказать, какая из частей
Соединенных Штатов завладеет большей долей этого огромного имения. И здесь,
несомненно, ошибиться нельзя. Южные штаты – явные хозяева Союза. Посмотрите,
как они лидируют в финальном раунде состязания в межамериканской гонке за
покорение Запада. Не кто иной, как обитатели лесной глуши из Виргинии основали
Кентукки – первый новый штат, учрежденный в западном направлении от тех горных
цепей, которые столь долгое время «сговаривались» с французами, чтобы
предотвратить проникновение английских поселенцев в глубь страны. Кентукки
расположен вдоль реки Огайо, а Огайо течет к Миссисипи. Тем временем новые
хлопкопрядильные фабрики Ланкастера обеспечили южанам постоянно расширяющийся
рынок хлопка, который способны были производить их почва и климат.
«Наши родственники янки[221], – отмечает
наблюдатель‑южанин в 1807 г., – изобрели пароход, который будет плавать по
нашей реке Миссисипи, и машину для чесания и очистки хлопковых коробочек.
“Изобретения янки” более выгодны для нас, чем для самих изобретателей».
Если наш престарелый неудавшийся пророк считает, что будущее
за южанами (а это тогда не вызывало сомнений и некоторое время спустя являлось
собственной оценкой южан), то он, должно быть, в самом деле уже впал в детство.
Ибо в этом последнем раунде состязания южанину суждено было встретиться со
столь же быстрым и сокрушительным поражением, с каким уже столкнулись голландцы
и французы.
В 1865 г. ситуация уже изменилась до неузнаваемости по
сравнению с тем, что было в 1807 г. В деле покорения Запада южный плантатор
оказался превзойденным и обойденным своим северным конкурентом. Почти достигнув
пути к Великим озерам через Индиану и заключив выгодную сделку по Миссури
(1821), он потерпел решительное поражение в Канзасе (1854‑1860) и так никогда и
не достиг Тихого океана. Жители Новой Англии были теперь хозяевами
Тихоокеанского побережья на всем протяжении от Сиэтла до Лос‑Анджелеса. Южане
рассчитывали с помощью своих пароходов, ходивших по Миссисипи, вовлечь весь
Запад в южную систему экономических и политических отношений. Но «изобретения
янки» на этом не остановились. За пароходом последовал железнодорожный
локомотив, который отнял у южанина больше, чем некогда дал ему пароход, ибо
потенциальная ценность долины реки Гудзон и Нью‑Йорка в качестве главных ворот
из Атлантики на Запад была наконец реализована в век железных дорог.
Железнодорожное сообщение от Чикаго до Нью‑Йорка превосходило речное сообщение
от Сент‑Луиса до Нового Орлеана. Линии сообщения внутри континента были
переведены из вертикального направления в горизонтальное. Северо‑Запад
отделился от Юга и соединился с Северо‑Востоком «по любви и расчету».
В самом деле, житель восточной части, некогда подаривший Югу
речной пароход и волокноотделитель, теперь завоевал сердце жителя Северо‑Запада
при помощи двух даров. Он пришел к нему с локомотивом в одной руке и с
жатвенной машиной – в другой и тем самым обеспечил решение сразу двух его
проблем: транспорта и труда. Два эти «изобретения янки» предопределили
преданность Северо‑Запада, и Гражданская война была проиграна Югом еще до его
[фактического] поражения. Взявшись за оружие в надежде возместить свои
экономические неудачи при помощи военного контрудара, Юг просто довел до конца debacle[222],
который уже был неизбежен.
Можно сказать, что всем этим разнообразным группам
колонистов в Северной Америке пришлось столкнуться с суровыми вызовами
окружающей среды. В Канаде французы встретились с почти арктическими зимами, а
в Луизиане – с капризами реки, почти столь же вероломной и разрушительной, как
Хуанхэ в Китае, на которую мы обратили внимание раньше других в данном ряду
сравнений. Однако, рассмотрев все факторы – почву, климат, транспортные
возможности и прочее, невозможно отрицать, что первоначальная колониальная
родина жителей Новой Англии была наиболее трудной из всех. Таким образом,
история Северной Америки говорит в пользу следующего предположения: чем больше
трудность, тем сильнее стимул.
2. Стимул новой земли
Сравнений между соответствующими стимулирующими
воздействиями природных сред различных уровней сложности вполне достаточно.
Давайте рассмотрим теперь этот вопрос под иным углом зрения, сравнив
соответствующие стимулирующие воздействия старой и новой земли независимо от
свойственного местности характера.
Выступает ли усилие, направленное на освоение новой земли,
уже само по себе в качестве стимула? На этот вопрос утвердительный ответ дают
мифы об изгнании из Эдема и об исходе из Египта. В своем перемещении из
волшебного сада в повседневный мир Адам и Ева перешагивают за пределы
собирательского хозяйства первобытного человека и дают рождение основателям
земледельческой и пастушеской цивилизации. В своем исходе из Египта сыны
Израилевы дают рождение поколению, которое способствует закладыванию основ
сирийской цивилизации. Когда от мифов мы обращаемся к истории религий, то
обнаруживаем, что эти интуиции подтверждаются. Мы обнаруживаем, например, что –
к ужасу вопрошавших: «Из Назарета может ли быть что доброе?»{48} –
Мессия евреев появляется именно из этой безвестной деревни в «Галилее
языческой»[223], отдаленном
клочке новой земли, завоеванном для евреев Маккавеями[224] менее чем за столетие до рождения Иисуса. А
когда неукротимый рост этого галилейского горчичного зерна[225] превращает испуг евреев в активную ненависть
(причем не только в самой Иудее, но и среди еврейской диаспоры[226]),
проповедники новой веры сознательно «обращаются к язычникам» и отправляются на
завоевание новых миров для христианства в землях, весьма удаленных от самых
окраин Маккавейского царства. В истории буддизма мы встречаемся с тем же самым
[явлением], ибо решающие победы этого индского верования были одержаны отнюдь
не на старой земле индского мира. Хинаяна первой открыла свободный путь на
Цейлон, который являлся колониальным придатком индской цивилизации. А махаяна
начала долгое окольное путешествие в свои будущие владения на Дальнем Востоке с
захвата сиризированной и эллинизированной индской провинции Пенджаб. Лишь на
новой земле двух этих чуждых миров смогли, в конце концов, принести свои плоды
как сирийский, так и индский религиозные гении – в доказательство той истины,
что «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем»{49}.
Подходящую эмпирическую проверку данного социального закона
обеспечивает пример тех цивилизаций «родственно‑связанного» класса, которые
возникли частично на земле, уже занятой той или иной цивилизацией‑предшественницей,
а частично – на земле, которую родственная ей цивилизация считала своей
собственной. Мы можем проверить соответствующие стимулирующие воздействия
старой и новой земли, прослеживая продвижение любой из этих «родственно‑связанных»
цивилизаций и отмечая точку (или точки) внутри их владений там, где достижения
цивилизаций в любом из направлений были наиболее выдающимися. А затем
посмотрим, является старой или новой земля, на которой эти точки размещены.
Возьмем сначала индусскую цивилизацию и отметим местные
источники новых творческих элементов в индусской жизни, в особенности в
религии, которая всегда была центральным и высшим родом деятельности в
индусском обществе. Мы находим эти источники на юге. Именно здесь все
отличительные черты индуизма приняли свою [окончательную] форму: культ богов,
представленных материальными объектами или образами и поселенных в храмах;
эмоциональное личностное отношение между верующим и отдельным богом,
поклоняться которому он сам дает обет; метафизическая сублимация поклонения
образам и повышенной эмоциональности в рамках интеллектуально изощренной
теологии (Шанкара, основатель индусской теологии, родился около 788 г. в
Малабаре). Однако старой или новой землей была Южная Индия? Она была новой
землей, не входившей в состав владений предшествующего индского общества вплоть
до последней стадии его существования, во времена империи Маурьев, которая
являлась его «универсальным государством» (около 323‑185 гг. до н. э.).
Сирийское общество породило два аффилированных общества –
арабское и иранское, из которых последнее, как мы уже видели, оказалось более
преуспевающим и со временем поглотило свою «сестру». В какой области иранская
цивилизация расцвела наиболее ярко? Почти все ее великие достижения в сфере
войны, политики, архитектуры и литературы были сделаны на одной или другой
окраине иранского мира – или на полуострове Индостан, или в Анатолии, достигнув
своей кульминации соответственно в Могольской и Оттоманской империях.
Местность, где эти достижения были совершены, представляла собой новую землю,
располагавшуюся за пределами предшествующей сирийской цивилизации, землю,
насильно вырванную в одном случае у реки Инд, а в другом – у православно‑христианского
общества. По сравнению с этими достижениями история иранского общества в его
центральных районах, например в самом Иране, на старой земле, унаследованной от
сирийской цивилизации, была совсем непримечательной.
В каких районах проявила свою наибольшую силу православно‑христианская
цивилизация? Беглый обзор истории этой цивилизации показывает, что ее
социальный центр тяжести в разное время располагался в разных местах. В I в.,
после своего возникновения из постэллинского междуцарствия, жизнь православного
христианства была наиболее мощной в центральной и северо‑восточной частях
Анатолийского плоскогорья. Впоследствии, начиная с середины IX в., центр
тяжести переместился с азиатской на европейскую сторону проливов и по отношению
к первоначальному стволу православно‑христианского общества с тех пор так и
остался на Балканском полуострове. В Новое время, однако, первоначальный ствол
православного христианства по своей исторической важности оставила далеко
позади его могущественная боковая ветвь в России.
Рассматривать ли эти три области в качестве старой земли или
в качестве новой? В случае с Россией на вопрос вряд ли требуется ответ. Что
касается Центральной и Северо‑Восточной Анатолии, то по отношению к православно‑христианскому
обществу она действительно являлась новой землей, хотя двумя тысячелетиями
ранее была родиной хеттской цивилизации. Эллинизация этого региона запаздывала
и никогда не была доведена до конца. Первый, а возможно, и единственный вклад
[этого региона] в эллинскую культуру внесли в последнюю фазу существования
эллинского общества каппадокийские отцы Церкви IV в. христианской эры[227].
Оставшийся центр тяжести православно‑христианского общества
во внутренних районах Балканского полуострова также являлся новой землей, ибо
тот налет эллинской цивилизации в ее латинском изводе, который лишь слегка
покрывал данный регион во времена Римской империи, был уничтожен без следа в
период междуцарствия, последовавший за распадом империи. Разрушение здесь было
более радикальным, чем в любой из западных провинций империи, за исключением
Британии. Христианские жители римских провинций были не просто завоеваны, но
практически истреблены языческими захватчиками‑варварами. Эти варвары вырвали с
корнем все элементы местной культуры настолько действенно, что когда их потомки
сокрушались о зле, содеянном их отцами, им пришлось извне приобретать новые
семена для того, чтобы три века спустя начать культивацию заново. Таким
образом, почва здесь оставалась под паром дважды – столько же времени, сколько
оставалась под паром почва Британии ко времени Августиновой миссии. Так что
регион, в котором православно‑христианское общество основало свой второй центр
тяжести, был землей, которая лишь в недавнее время была поднята de novo[228] из состояния дикости.
Таким образом, все три региона, в которых православно‑христианское
общество выделялось особенно, представляли собой новую землю. При этом еще удивительнее
наблюдать, что сама Греция, источник распространения предшествующей
цивилизации, играла совершенно незначительную роль в истории православно‑христианского
общества до тех пор, пока в XVIII столетии христианской эры не стала шлюзовым
затвором, через который западное влияние ворвалось в мир Православия.
Теперь, обращаясь к эллинской истории, давайте зададим тот
же вопрос относительно двух регионов, последовательно удерживавших первенство в
ранней истории эллинского общества, – азиатского побережья Эгейского моря и
европейского полуострова Греции. На новой или на старой земле, с точки зрения
предшествующей минойской цивилизации, произошел этот расцвет? Земля была новой
и здесь. На европейском Греческом полуострове минойская цивилизация даже во
времена своего наиболее широкого распространения удерживала лишь ряд
укрепленных позиций на юго‑восточном побережье. Все попытки наших современных
археологов найти следы присутствия или хотя бы влияния минойской цивилизации на
анатолийском берегу были столь явно неудачными, что вряд ли их можно приписать
случайности, но, по‑видимому, они указывают на некую причину, по которой этот
берег не входил в минойский круг. Наоборот, Кикладские острова[229], являвшиеся
одним из центров минойской культуры, играли в эллинской истории второстепенную
роль в качестве покорных слуг сменявших друг друга хозяев моря. Роль, которую в
эллинской истории играл сам Крит, древнейший и во все времена наиважнейший
центр минойской культуры, еще более неожиданна.
Можно было бы ожидать, что Крит сохранит значение не только
в силу причин исторических (как место, в котором минойская культура достигла
своей вершины), но также и в силу географических. Крит был самым большим
островом Эгейского архипелага, и через него проходили два наиважнейших морских
пути эллинского мира. Каждый корабль, отплывавший из Пирея на Сицилию, должен
был проходить между западной оконечностью Крита и Лаконией, а каждый корабль,
отплывавший из Пирея в Египет, должен был проходить между восточной
оконечностью Крита и Родосом. Однако, когда Лакония и Родос играли ведущую роль
в эллинской истории, Крит оставался отчужденным, незаметным и погруженным во
мрак от начала до конца. В то время как Эллада по всей своей земле давала
рождение государственным деятелям, художникам и философам, Крит не породил
ничего более достойного, кроме знахарей, наемников и пиратов, а современный
критянин, подобно беотийцу, вошел в эллинскую поговорку. Действительно, он сам
себе вынес приговор в гекзаметре, запечатленном в каноне христианского Писания.
«Из них же самих один стихотворец сказал: “Критяне всегда лжецы, злые звери,
утробы ленивые”»[230].
Наконец, давайте произведем ту же самую проверку
относительно дальневосточного общества, сыновне‑родственного древнекитайскому.
В каких точках своих владений дальневосточное общество продемонстрировало свою
величайшую силу? Японцы и кантонцы[231], несомненно,
выделяются сегодня как наиболее сильные его представители, и оба эти народа
появились на почве, которая, с точки зрения дальневосточной истории, была новой
землей. Юго‑восточное побережье Китая не входило в состав владений «отеческого»
древнекитайского общества вплоть до последней фазы древнекитайской истории, и
даже тогда – лишь на поверхностном политическом уровне в качестве пограничной
провинции Ханьской империи. Ее жители оставались варварами. Что касается
Японского архипелага, то боковая ветвь дальневосточной цивилизации,
пересаженная сюда через посредство Кореи в VI–VII вв. христианской эры,
распространилась на земле, которая не показывает никаких следов предшествующей
культуры. Мощный рост этого ответвления дальневосточной цивилизации на
девственной почве Японии сравним с ростом ответвления православно‑христианской
цивилизации, пересаженной с Анатолийского плоскогорья на девственную почву
России.
Если новая земля действительно обеспечивает больший стимул
для деятельности, нежели старая (что подтверждают наши данные), то можно было
бы ожидать, что этот стимул будет еще сильнее проявляться в тех случаях, когда
новая земля отделена от старой морем. Этот особый стимул заморской колонизации
очень четко виден в истории Средиземноморья первой половины последнего
тысячелетия (1000‑500) до н. э., когда его западный бассейн колонизировался
конкурировавшими между собой заморскими первопроходцами из трех различных
цивилизаций в Леванте[232]. Это
явствует, например, из того, насколько два величайших из этих колониальных
образований – сирийский Карфаген и эллинские Сиракузы – обогнали свои
родительские города – Тир и Коринф. Ахейские колонии в Великой Греции (Южная
Италия и Сицилия) стали местами оживленной торговли и блестящими центрами
мысли, тогда как родительские ахейские общины вдоль северного побережья
Пелопоннеса оставались в стороне до тех пор, пока эллинская цивилизация не
прошла своего зенита. Подобным же образом и эпизефирские локрийцы[233] в Италии далеко превзошли локрийцев,
оставшихся в Греции.
Наиболее поразительным является случай этрусков, третьей
партии, конкурировавшей с финикийцами и греками в колонизации Западного
Средиземноморья. Ушедшие на запад этруски в отличие от греков и финикийцев не
хотели оставаться в пределах видимости моря, по которому пришли. Они
продвигались внутрь материка с западного побережья Италии через Апеннины и реку
По к подножиям Альп. Однако этруски, оставшиеся на родине, достигли самого
надира неизвестности, ибо история о них умалчивает. Не сохранилось никаких
письменных свидетельств относительно точного местоположения их родины, хотя
египетские записи указывают на то, что первоначально этруски участвовали вместе
с ахейцами в постминойском Völkerwanderung [переселении народов] и имели свой
опорный пункт где‑то на азиатском берегу Леванта.
Возможно, самым сильным среди всех в заморской миграции
является стимулирующее воздействие морских плаваний, возникающее в ходе
Völkerwanderung [переселения народов]. Подобные случаи, по‑видимому,
встречаются редко. Уникальными примерами, которые автор данного «Исследования»
мог бы назвать, являются миграция в ходе постминойского Völkerwanderung тевкров[234], эолийцев,
ионийцев и дорийцев через Эгейское море на западное побережье Анатолии и
миграция тевкров и филистимлян к берегам Сирии; миграция англов и ютов в
Британию в ходе постэллинистического Völkerwanderung; последующая миграция
бриттов через Ламанш в те места, которые впоследствии были названы Бретанью[235]; современная
[этому событию] миграция ирландских скоттов[236] в Аргайлл и миграция скандинавских викингов в
ходе Völkerwanderung, последовавшего за бесплодной попыткой эвокации призрака
Римской империи Каролингами – всего шесть примеров. Из них филистимлянская
миграция оказалась сравнительно бесплодной при уже описанных обстоятельствах
(см. с. 172‑175), а в последующей истории бретонцев не было ничего выдающегося.
Однако четыре другие заморские миграции представляют собой по‑настоящему
поразительные феномены, которые нельзя наблюдать в гораздо более многочисленных
примерах миграции сухопутной.
Общим для всех этих заморских миграций являлся один и тот же
простой фактор: в заморской миграции социальный аппарат мигрантов должен был
быть легко «упакован» на борту корабля перед тем, как покинуть берега старой
страны, а затем вновь «распакован» в конце путешествия. Все составляющие
аппарата – люди и собственность, технические приемы, институты и идеи –
подчиняются этому закону. Все, что совсем не может вынести морского
путешествия, должно быть оставлено, а многие вещи (не только материальные
объекты), увозимые мигрантами с собой, приходится брать по частям, которые,
возможно, никогда не будут собраны вновь в первоначальной форме. Когда их
«распаковывают», то обнаруживают, что они претерпели «полную трансформацию в
нечто ценное и странное». Когда подобная заморская миграция возникает в ходе
Völkerwanderung [переселения народов], вызов еще значительнее, а стимул еще
интенсивнее, поскольку общество, дающее ответ, это уже не развитое в социальном
смысле общество (как греческие и финикийские колонизаторы, о которых говорилось
выше), но еще находится в статичном состоянии, представляющем собой последнюю
стадию [существования] примитивного человека. Переход в ходе Völkerwanderung от
этой пассивности к неожиданному пароксизму «бури и натиска» производит
динамичное воздействие на жизнь любой общины, но это воздействие, естественно,
более интенсивно, когда мигранты плывут на корабле, чем когда они передвигаются
по твердой земле, унося с собой из социального аппарата многое, от чего должен
был бы отказаться мореплаватель.
«Эта перемена в мировоззрении [после путешествия через море]
дала рождение новой концепции богов и людей. Местные божества, чья власть
простиралась не далее территории веривших в них, были заменены корпоративной
организацией богов, правящих Вселенной. Святое место с его хижиной, которая
образовывала центр Мидгарда, было поднято на высоту и превратилось в
божественный дворец. Освященным веками мифам, излагавшим деяния независимых
друг от друга божеств, придали законченный вид в поэтической мифологии, в
божественной саге, точно так же, как это сделала более древняя раса викингов –
гомеровских греков. Эта религия дала рождение новому богу – Одину, вождю людей,
повелителю сражений»{50}.
До некоторой степени сходным образом заморская миграция
скоттов из Ирландии в Северную Британию подготовила путь для новой религии.
Неслучайно заморская Далриада[237] стала штаб‑квартирой миссионерского движения
св. Колумбы с узловым пунктом в Ионе[238].
Одно из характерных явлений заморской миграции – смешение
различных расовых элементов, поскольку первым обломком социального аппарата, от
которого следует избавиться, является примитивная родовая группа. Ни один
корабль не выдержит более одного корабельного экипажа, а несколько кораблей,
плывущих вместе в целях безопасности и объединяющихся на своей новой родине,
вполне могут быть отряжены из различных населенных пунктов – в
противоположность обычному процессу миграции по суше, в котором вся родовая
группа способна собрать своих женщин, детей и домашний скарб в повозку,
запряженную волами, и двинуться en masse[239] черепашьим шагом по terra firma[240].
Другой характерный феномен заморской миграции – атрофия
примитивного института, являвшегося, возможно, наивысшим выражением
недифференцированной социальной жизни еще до того, как благодаря прояснению
общественного сознания она преломилась на отдельные планы экономики и политики,
религии и искусства, – института evioorcoq 5ссцкоу[241] и его круга. Если мы хотим увидеть этот ритуал
во всем его великолепии в скандинавском мире, то должны будем изучить его
развитие среди тех скандинавов, которые остались на родине. В противоположность
этому, «в Исландии майские игры, ритуальная свадьба и сцена сватовства в
поселениях, по‑видимому, едва ли сохранились. Отчасти, без сомнения, потому,
что поселенцы в основном были классом просвещенных путешественников, а отчасти
потому, что эти деревенские обряды связаны с сельским хозяйством, которое в
Исландии не могло быть важной сферой деятельности»{51}. Поскольку
даже в Исландии существовало определенного рода сельское хозяйство, мы должны
рассматривать первую из двух названных выше причин в качестве наиболее важной.
Основным тезисом процитированной выше работы является то,
что скандинавские поэмы, записанные в исландской компиляции под названием
«Старшей Эдды», происходят от устной примитивной скандинавской драмы
плодородия, – единственного элемента, который эмигранты оказались способны
вырезать из глубоко укорененного в местной почве ритуала и взять вместе с собой
на борт корабля. Согласно этой теории, развитие примитивного ритуала в драму
приостановилось среди тех скандинавов, которые эмигрировали за море. Теория
подтверждается аналогией из эллинской истории, ибо четко установлено, что, хотя
эллинская цивилизация и расцвела впервые в заморской Ионии, эллинская драма,
основанная на примитивных ритуалах, возникла на континентальной почве
Греческого полуострова. Двойником святилища в Упсале в Элладе был афинский
театр Диониса. С другой стороны, именно в Ионии, Исландии и Британии заморские
мигранты – эллинские, скандинавские и англосаксонские – произвели на свет
эпическую поэзию Гомера, «Старшей Эдды» и «Беовульфа».
Сага и эпос возникли в ответ на новые интеллектуальные
потребности, новое сознание отдельных сильных личностей и важные общественные
события. «Эта песнь восхвалит многих из тех мужей, чьи имена по‑новому
прозвучат для слуха», – провозглашает Гомер. Однако есть в эпической песни
нечто, ценимое гораздо более высоко, чем ее новизна, и этим нечто является
свойственный человеку интерес к истории. Этот интерес преобладает до тех пор,
пока продолжается период «бури и натиска» героического века. Но социальный
пароксизм мимолетен, и буря утихает. Любители саги и эпоса начинают
чувствовать, что жизнь в их эпоху стала относительно скучной. Вместе с тем они
перестают предпочитать новые песни старым, и современный менестрель, отвечая перемене
вкуса своих слушателей, повторяет и приукрашивает рассказы прежних поколений.
Именно в эту позднейшую эпоху искусство эпоса и саги достигло своего
литературного зенита. Тем не менее эти громадные произведения никогда бы не
появились на свет, если бы не стимул, изначально приданный им испытанием
заморской миграцией. Мы пришли к формуле: «Драма… развивается на родине, эпос –
среди мигрирующих народов»{52}.
Второе положительное создание, возникшее в результате
испытания заморской миграцией в ходе Völkerwanderung [переселения народов],
относится не к литературной области, но к политической. Этот новый вид формы
правления основан не на родстве, а на противоположном принципе.
Возможно, наиболее прославленными примерами являются города‑государства,
основанные греческими мореплавателями на побережье Анатолии в районах,
известных позднее как Эолия, Иония и Дорида. Скудные письменные свидетельства
об эллинской конституционной истории, по‑видимому, показывают, что принцип
организации на основе закона и местоположения вместо обычая и родства впервые
утвердился именно в этих заморских греческих поселениях и впоследствии был
перенят в европейской Греции. В заморских городах‑государствах, основанных на
подобных принципах, «ячейками» новой политической организации должны были
служить не роды, но корабельные экипажи. Скооперировавшись в море, как только
могут скооперироваться люди, оказавшись «в одной лодке» среди опасностей
морской пучины, они продолжали чувствовать себя и действовать точно так же и на
берегу, когда им приходилось с трудом удерживать отвоеванную полоску земли от
угрозы со стороны враждебных районов, расположенных в глубь от побережья. На
суше, так же как и в море, товарищество ценилось больше родства, и приказы
избранного и вызывавшего доверие вождя перевешивали подсказки обычая.
Фактически собрание корабельных экипажей, объединивших свои силы для завоевания
новой родины для себя за морем, спонтанно превращалось в город‑государство,
соединявший местные «племена» и управляемый выборным магистратом.
Когда мы обращаемся к скандинавскому Völkerwanderung
[переселению народов], то можем различить здесь зачатки подобного же
политического развития. Если бы недоразвившейся скандинавской цивилизации
суждено было явиться на свет, а не быть поглощенной западноевропейской
цивилизацией, то роль, которую некогда играли города‑государства Эолии и Ионии,
могли бы сыграть пять городов‑государств Остмена на ирландском побережье или же
пять городков (Линкольн, Стамфорд, Лестер, Дерби и Ноттингем), основанных
датчанами для охраны приморской границы своих завоеваний в Мерсии[242]. Однако
высочайшего расцвета скандинавская форма правления достигла за морем в
республике Исландии, которая была основана на явно не подававшей никаких надежд
почве арктического острова в 500 милях от ближайшего скандинавского point
d'appui[243] на Фаррерских островах.
Что касается политических последствий заморских миграций
англов и ютов в Британию, то, возможно, не просто совпадением явилось то, что
остров, который на заре западной истории заняли иммигранты, сбросившие с себя
при пересечении моря узы примитивной родовой группы, должен был впоследствии
стать страной, в которой западное общество достигло одной из наиболее важных
ступеней в ходе своего политического прогресса. Датские и норманнские
завоеватели, последовавшие по стопам англов и разделяющие с ними заслугу
будущих английских достижений в политике, пользовались тем же самым
освобождающим опытом. Подобное сочетание народов обеспечивало необычайно
благоприятную почву для развития политической жизни. Неслучайно западное
общество именно в Англии преуспело в создании первого «общественного порядка»,
а впоследствии – парламентского правления, тогда как на континенте политическое
развитие западного общества было заторможено родовыми пережитками,
существовавшими среди франков и лангобардов, которые не избавились от этих
социальных инкубов в самом начале, не испытав освобождающего перехода через
море.
3. Стимул ударов
Рассмотрев влияние природной среды, мы можем теперь
аналогичным образом завершить данную часть нашего исследования обзором сферы
действия человеческой среды. Мы можем провести различие, во‑первых, между теми
человеческими средами, которые географически являются внешними по отношению к
обществам, на которые воздействуют, и теми, которые географически с ними
совпадают. Первая категория будет включать в себя воздействие обществ или
государств на своих соседей, когда обе стороны стартуют, первоначально занимая
отдельные области. С точки зрения организаций, которые играют пассивную роль в
подобном социальном общении, человеческая среда, с которой они сталкиваются,
является «внешней», или «чужеземной». Вторая из наших категорий будет включать
в себя воздействие одного социального «класса» на другой, когда оба класса
совместно занимают одну область (термин «класс» используется здесь в самом
широком смысле). В данном случае отношения являются «внутренними», или
«домашними». Оставляя эту внутреннюю человеческую среду для дальнейшего
исследования, мы можем начать с того, что проведем следующее различие между
внешним импульсом, когда он принимает форму неожиданного удара, и сферой его
действия в форме постоянного давления. Следовательно, мы имеем три предмета
исследования: внешние удары, внешние давления и внутренние ущемления.
Каков результат неожиданных ударов? Остается ли и здесь в
силе наше утверждение – «чем сильнее вызов, тем сильнее стимул»? Первое, что,
конечно же, приходит на ум, это те случаи, когда военная держава, получавшая
сначала стимул от непрекращающегося соперничества со своими соседями, затем
неожиданно подавлялась противником, с которым ранее никогда не мерялась силами.
Что обычно происходит, когда начинающие строители империй оказываются столь
драматически побежденными в середине своей карьеры? Остаются ли они лежать, как
Сисара[244], на том
месте, где были повержены, или вновь встают с Матери‑Земли с удвоенной силой,
подобно великану Антею из эллинской мифологии? Исторические примеры показывают,
что обычно встречается последняя альтернатива.
Что, например, явилось результатом воздействия Clades
Alliensis[245] на судьбы Рима? Катастрофа настигла римлян
всего лишь через пять лет после того, как победа в борьбе с этрусскими Вейями[246] позволила им наконец утвердить свою гегемонию
над Лациумом. Можно было бы ожидать, что поражение римской армии при реке Аллии
и захват самого Рима варварами, явившимися из глуши, одним ударом уничтожат
власть и престиж, уже завоеванные Римом. Вместо этого Рим оправился от
галльского бедствия столь быстро, что менее чем полвека спустя уже был способен
вступить в более длительные и более трудные столкновения со своими италийскими
соседями, окончательно победив их и распространив свою власть на всю Италию.
С другой стороны, каково было воздействие на судьбы османов,
когда Тимур (Тамерлан) взял в плен Баязида Молниеносного (султана Баязета)[247] на поле Ангоры[248]? Эта
катастрофа настигла османов как раз тогда, когда они собирались завершить
завоевание главных сил православного христианства на Балканском полуострове.
Именно в этот критический момент они были повержены на азиатской стороне
Проливов нежданным ударом со стороны Трансоксании[249]. Можно было
бы ожидать полного обвала незавершенного здания Османской империи. Но
фактически его не произошло. А полвека спустя Мехмед Завоеватель[250] смог положить последний камень в строение
Баязида, овладев Константинополем.
История неудачливых конкурентов Рима показывает, как
сокрушительное поражение может придать общине силу для еще более
целеустремленной деятельности, даже если за усилившимся сопротивлением следует
дальнейшая неудача, вызывающая разочарование в поставленной цели. Поражение
Карфагена в Первой Пунической войне побудило Гамилькара Барку на завоевание для
своей страны империи в Испании, превосходившей империю, потерянную им на
Сицилии. Даже после поражения Ганнибала во Второй Пунической войне карфагеняне
дважды изумляли мир за те полстолетия, что предшествовали их окончательной
гибели, – сначала той стремительностью, с которой они выплатили контрибуцию и
вновь добились процветания своей торговли, а затем тем героизмом, с которым все
их население, мужчины, женщины и дети, сражались и умерли в последней битве.
Так же и Филипп V Македонский[251], один из
самых поверхностных вплоть до нашего времени монархов, лишь после своего
сокрушительного поражения при Киноскефалах[252] принялся превращать свою страну в столь
грозную державу, что его сын Персей[253] уже мог бросить вызов Риму без посторонней
помощи и приблизиться к победе, прежде чем его упорное сопротивление было
окончательно сломлено [в битве] при Пидне.
Другой пример того же рода, хотя и с иным исходом,
предоставляют пять интервенций Австрии во время Французской революции и
наполеоновских войн. Первые три интервенции принесли Австрии не только
поражение, но и дискредитировали ее. После Аустерлица[254], однако, она
начала собираться с силами. Если Аустерлиц был ее Киноскефалами, то Ваграм[255] стал ее Пид‑ной. Однако, более счастливая, чем
Македония, она смогла организовать еще одну интервенцию, победоносно
закончившуюся в 1813 г.
Еще более поразительными являются действия Пруссии в ходе
того же цикла войн. В течение четырнадцати лет, кульминацией которых явилась
йенская катастрофа[256], Пруссия
проводила политику одновременно и поверхностную, и постыдную. За этим, однако,
последовала героическая зимняя кампания при Эйлау[257], а суровость
условий, продиктованных в Тильзите[258], лишь
увеличила стимул, который впервые был придан йенским ударом. Энергия,
пробудившаяся в Пруссии благодаря этому стимулу, была экстраординарной. Она
возродила не только прусскую армию, но также и прусскую административную и
образовательную систему. Фактически она преобразила прусское государство в
сосуд, избранный для хранения нового вина немецкого национализма. Через Штейна[259], Гарденберга[260] и Гумбольдта[261] она вела к Бисмарку.
Этот цикл повторился в наши дни в форме, слишком для нас
болезненной, чтобы давать комментарии. Немецкое поражение в войне 1914‑1918 гг.
и его усиление, вызванное французской оккупацией Рурского бассейна в 1923‑1924
гг., нашли выход в демоническом, хотя и бесплодном, нацистском реванше[262].
Но классическим примером стимулирующего воздействия удара
является реакция Эллады в целом, и Афин в частности, на нападение Персидской
империи – сирийского универсального государства – в 480‑479 гг. до н. э.
Превосходство реакции Афин было пропорционально суровости тех испытаний,
которым они подвергались, ибо в то время как плодородные поля Беотии были
спасены их владельцами ценой предательства общеэллинского дела, а плодородные
поля Лакедемона – доблестью афинского флота, бедная земля Аттики систематически
опустошалась [захватчиками] в течение двух последовавших один за другим
сезонов, сами Афины были оккупированы, а афинские храмы разрушены. Всему
населению Аттики пришлось эвакуироваться из страны и перебираться морем в
Пелопоннес в качестве беженцев. И именно в этой ситуации афинский флот сражался
и победил в битве при Саламине. Неудивительно, что удар, вызвавший столь
неукротимый подъем духа в афинском народе, должен был послужить прелюдией к тем
достижениям в истории человечества, которые уникальны по своему великолепию,
многочисленности и разнообразию. В восстановлении своих храмов, которое было
для афинян самым сокровенным символом воскресения их страны, Перикловы Афины
проявили жизненную энергию, далеко превосходившую энергию Франции после 1918 г.
Когда французы восстанавливали разбитый остов Реймсского собора[263], они с
благоговением реставрировали каждый разбитый камень и каждую расколотую статую.
Когда афиняне обнаружили, что Гека‑томпедон[264] выжжен до основания, они оставили эти
развалины в стороне и приступили к строительству Парфенона на новом месте[265].
Наиболее очевидными иллюстрациями стимула ударов являются
реакции на военные поражения, но примеры можно искать и находить повсюду.
Давайте ограничимся одним высшим примером, представленным в сфере религии
Деяниями апостолов. Эти активные деяния, завоевавшие в конечном счете для
христианства весь эллинистический мир, были задуманы в тот момент, когда
апостолы находились в состоянии духовной прострации из‑за внезапного ухода их
Господа вскоре после того, как Он чудесным образом воскрес из мертвых{53}.
Эта вторичная потеря могла быть еще более тяжелой, чем само Распятие. Однако
сама тяжесть удара вызвала в душах апостолов пропорциональную по своей мощности
психологическую реакцию, которая в мифологической форме выступает в [эпизоде]
появления двух мужей в белых одеяниях{54} и нисхождения огненных
языков в день Пятидесятницы{55}. Силой Святого Духа они
проповедовали божественность распятого и исчезнувшего Иисуса не только
еврейскому народу, но и синедриону[266], и в течение
трех столетий римское правительство само капитулировало перед Церковью, которую
основали апостолы в момент своего крайнего духовного упадка.
4. Стимул давлений
Теперь мы должны рассмотреть случаи, в которых импульс
принимает иную форму – форму постоянного внешнего давления. На языке
политической географии, народы, государства или города, которые подвергаются
подобному давлению, подпадают, по большей части, под общую категорию «границы»,
или приграничных провинций. Наилучший способ изучить этот особый вид давления
эмпирически – произвести некий обзор той роли, которую играли незащищенные
границы в истории своих общин, в сравнении с ролью, которую играли более
защищенные территории во внутренних владениях тех же самых общин.
* * *
Египетский мир
В истории египетской цивилизации более чем в трех важных
случаях ход событий направлялся силами, бравшими начало на юге Верхнего Египта.
Основание Объединенного Царства около 3200 г. до н. э., основание
универсального государства около 2070 г. до н. э. и его восстановление около
1580 г. до н. э. – все это осуществлялось из данного, ограниченного узкими
рамками района. Вместе с тем этот рассадник египетских империй фактически
являлся южной границей египетского мира, подвергавшейся давлению со стороны
нубийских племен. Однако в течение последнего периода египетской истории –
шестнадцати столетий сумерек между закатом Нового Царства и окончательным
вымиранием египетского общества в V в. после Рождества Христова – политическая
власть вернулась к Дельте, являвшейся границей, которая столь упорно
противостояла одновременно и Северной Африке, и Юго‑Западной Азии, как,
вероятно, в течение двух предшествующих тысячелетий противостояла граница
южная. Таким образом, политическая история египетского мира от начала до конца
может быть истолкована как поле напряжения между двумя полюсами политической
власти, которая в каждый отдельный период была локализована соответственно на
южной или на северной границе. Примеров великих политических событий,
происходивших из внутренних частей страны, нет.
Можем ли мы каким‑то образом объяснить, почему влияние южной
границы преобладало в первую половину египетской истории, а влияние северной –
во вторую? Причина, по‑видимому, заключается в том, что после вооруженного
завоевания нубийцев и их культурной ассимиляции при Тутмосе I (около 1557‑1505
гг. до н. э.) давление на южную границу уменьшилось или же совсем исчезло.
Вместе с тем, примерно в то же время или вскоре после этого, давление на Дельту
со стороны варваров Ливии и царств Юго‑Западной Азии возросло весьма
значительно. Тем самым в политической истории Египта влияние приграничных
провинций не только преобладало над влиянием центральных провинций, но наиболее
влиятельной в любой рассматриваемый период времени была та граница, которая
подвергалась большим опасностям.
* * *
Иранский мир
Тот же результат в совершенно иных обстоятельствах
демонстрируют контрастирующие между собой истории двух тюркских народов –
османов и караманов, каждый из которых занимал часть Анатолии, этого западного
передового бастиона иранского мира, в XIV столетии христианской эры.
Обе эти тюркские общины являлись «государствами‑наследниками»
анатолийского Сельджукского султаната – мусульманской тюркской державы,
созданной в Анатолии в XI в. как раз накануне крестовых походов авантюристами
из тюрок‑сельджуков, которые обеспечили себе жизнь в этом мире и в будущем
благодаря тому, что подобным образом расширили границы исламского мира за счет
православного христианства. Когда в XIII в. христианской эры этот султанат
разделился, караманы, казалось бы, имели наилучшие, а османы – наихудшие
перспективы среди всех наследников сельджуков. Караманы унаследовали ядро
бывших сельджукских владений со столицей в Конье (Иконии), тогда как во
владении османов оказалась лишь часть внешней оболочки.
Фактически османы получили остатки сельджукского имущества,
поскольку явились последними из пришедших и прибыли при стеснительных
обстоятельствах. Их эпоним – Осман[267] – был сыном некоего Эртогрула, вождя
безымянной группы беженцев – ничтожного обломка, выброшенного к отдаленнейшим
границам исламских владений ударом монгольской волны, которая со страшной силой
обрушилась на северо‑восточные границы иранского общества из центра Евразийской
степи. Последний из анатолийских Сельджукидов закрепил за этими бежавшими
предками османов длинную узкую полоску земли на северо‑западной окраине
Анатолийского плоскогорья. Здесь сельджукские территории граничили с
территориями вдоль азиатского побережья Мраморного моря, которые еще продолжала
удерживать за собой Византийская империя – уязвимая позиция, соответственно
называвшаяся Sultan Onti, то есть «боевым фронтом султана». Эти османы
могли лишь завидовать счастливой судьбе караманов, но нищим не приходится выбирать.
Османы приняли свой удел и стали расширять границы за счет своих соседей,
православных христиан, выбрав в качестве первой цели византийский город Брусу.
Захват Брусы занял у них девять лет (1317‑1326), но османы недаром назвали себя
этим именем, ибо истинным основателем Оттоманской империи был Осман.
Через тридцать лет после падения Брусы османы захватили
плацдарм на европейском побережье Дарданелл, и именно в Европе сделали они свое
состояние. Однако еще до конца того же столетия они завоевали караманов и
другие тюркские общины в Анатолии одной рукой, другой одновременно покоряя
сербов, греков и болгар.
Таково было стимулирующее воздействие политической границы,
ибо исследование предшествующей исторической эпохи показывает, что в
географическом окружении, служившем первоначальной базой османских операций в
Анатолии, никаких особых героических качеств проявлено не было (в
противоположность окружению непредприимчивых и заслуженно забытых караманов).
Так что можно было бы поместить Sultan Onii в первый раздел данной
главы. Обратившись ко времени, предшествовавшему нашествию тюрок‑сельджуков в
третьей четверти XI столетия христианской эры, когда Анатолия еще находилась в
пределах Восточно‑Римской империи, мы обнаружим, что территория, впоследствии
занятая караманами, почти полностью совпадала с бывшим районом анатолийского
армейского корпуса, который в первые века истории православного христианства
удерживал первенство среди корпусов восточно‑римской армии. Другими словами,
восточно‑римские предшественники караманов в районе Коньи удерживали то же
превосходство в Анатолии, которое в позднейшую эпоху удерживали османские
оккупанты из Sultan Onii. Причина ясна. В более ранний период район
Коньи был приграничной провинцией Восточно‑Римской империи – vis‑a‑vis[268] Арабского халифата, тогда как территория,
занятая впоследствии османами, пользовалась в то время удобным положением
незаметного внутреннего района.
* * *
Русское Православие
Здесь, как и в других случаях, мы обнаруживаем, что
жизненная энергия общества имела тенденцию сосредоточиваться последовательно то
на одной, то на другой границе в зависимости от относительной силы различных
внешних давлений, менявшейся по своей интенсивности. Областью, в которой
православно‑христианская цивилизация впервые пустила корни в России во время
своей первоначальной пересадки из Константинополя по ту сторону Черного моря и
Евразийской степи, был верхний бассейн Днепра. Оттуда она была перенесена в XII
столетии в бассейн верхней Волги жителями пограничной зоны, расширявшими свои
границы в этом направлении за счет первобытных финских язычников, обитавших в
северо‑восточных лесах. Вскоре после этого, однако, место [концентрации]
жизненной энергии перешло в район нижнего Днепра, чтобы встретиться с сокрушительным
давлением кочевников из Евразийской степи. Это давление, неожиданно оказанное
на русских в результате кампании хана Батыя в 1237 г., было чрезвычайно сильным
и продолжительным. Интересно заметить, что в данном случае, как и в других,
вызов необычайной суровости породил ответ, явившийся удивительно оригинальным и
творческим.
Этим ответом стала ни больше ни меньше как эволюция нового
образа жизни и новой социальной организации, что дало возможность оседлому
обществу впервые в истории не просто удержаться под натиском евразийских
кочевников и предпринять против них отдельные карательные экспедиции, но и
реально осуществить продолжительное завоевание кочевнических земель и изменить
ландшафт, превратив пастбища кочевников в крестьянские поля и заменив их
передвижные становища оседлыми деревнями. Казаки, совершившие этот
беспрецедентный подвиг, были жителями пограничных областей русского
Православия, закаленными в горниле и сформированными на наковальне пограничной
войны с евразийскими кочевниками (Золотая Орда хана Батыя) в течение двух
следующих столетий. Свое название, ставшее легендарным, – казаки – они получили
от своих врагов. Это просто тюркское слово qazaq, обозначавшее человека
вне закона, который отказывался признавать авторитет своего «законного»
кочевнического повелителя[269]. Широко
раскинувшиеся общины казаков, к моменту своего уничтожения во время русской
коммунистической революции 1917 г. располагавшиеся по всей Азии от Дона до
Уссури, происходили из одной материнской общины днепровских казаков.
Эти первоначальные казаки представляли собой полумонашеское
военное братство, имевшее сходство с эллинским братством спартанцев и с
рыцарскими орденами крестоносцев. В своих методах ведения непрекращающейся
войны с кочевниками они осознавали, что если цивилизация хочет вести успешную
войну против варваров, то она должна будет бороться с ними иным оружием и иными
средствами, чем их собственные. Точно так же, как современные западные
создатели‑империи подавили своих примитивных противников, выставляя против них
превосходящие средства промышленности, казаки подавляли кочевников, используя
превосходящие средства земледелия. И так же, как современное западное
полководческое искусство ослабило кочевников в военном отношении на их же
собственной почве, превзойдя их мобильность при помощи таких средств, как
железные дороги, автомобили и аэропланы, казаки по‑своему добились того же
самого, используя реки, одну из природных особенностей степи, которая была
неподконтрольна кочевникам и обратилась не в их пользу, но против них. Для
кочевнических наездников реки были труднопреодолимы и бесполезны для перевозки,
тогда как русские крестьяне и дровосеки являлись специалистами в речной
навигации. Следовательно, казаки, хотя и научились соперничать со своими
кочевническими противниками в искусстве верховой езды, не забыли и о своих
судоходных навыках, и именно на ладье, а не верхом на коне, они в конце концов
завоевали владычество над Евразией. Они перешли с Днепра на Дон, а с Дона – на
Волгу. Оттуда в 1586 г. они пересекли водораздел между бассейнами Волги и Оби,
и к 1638 г. освоение сибирских водных путей привело их к берегам Тихого океана
у Охотского моря.
В том же столетии, когда казаки подобным образом
ознаменовали свою победоносную реакцию на давление кочевников на юго‑востоке,
основным объектом внешнего давления и основным центром сосредоточения русской
жизненной энергии стала другая граница. В XVII столетии христианской эры Россия
впервые в своей истории испытала громадное давление западного мира. Польская
армия занимала Москву в течение двух лет (1610‑1612), а вскоре после этого
Швеция в правление короля Густава Адольфа отрезала Россию от Балтийского моря,
став хозяйкой всего восточного побережья Балтики от Финляндии до северной
границы Польши, которая проходила в то время в нескольких милях от Риги. Но
едва столетие закончилось, как Петр Великий ответил на это западное давление
основанием Петербурга в 1703 г. на территории, отвоеванной у шведов, и
поднятием на западный манер русского военно‑морского флага на балтийских водах.
* * *
Западный мир против континентальных варваров
Когда мы переходим к истории западной цивилизации, то
обнаруживаем (и это совсем неудивительно), что с самого начала наиболее сильное
внешнее давление оказывали на ее восточную, или сухопутную, границу варвары
Центральной Европы. Эту границу не только победоносно защищали, но и постоянно
отодвигали, пока наконец варвары совсем не исчезли со сцены. После этого
западная цивилизация оказалась в соприкосновении уже не с варварами, но с
конкурирующими цивилизациями. Сейчас мы займемся поиском примеров
стимулирующего воздействия давлений, оказываемых на границу, лишь в течение
первой части данного периода истории.
В первой фазе западной истории стимулирующее воздействие
давления континентальных варваров заявило о себе в появлении новой социальной
структуры – в полуварварском княжестве франков. Режим Меровингов, в котором
впервые нашло воплощение франкское княжество, был обращен лицом к римскому
прошлому. Однако сменивший его Каролингский режим смотрел в будущее, ибо, хотя
он и пытался вызвать, между прочим, призрак Римской империи, этот призрак
вызывался (в духе возгласа «Debout les morts!»[270]) лишь для
того, чтобы помочь живым в выполнении их задач. В какой же из частей франкских
владений совершилась эта замена упадочных и faineant[271] Меровингов[272] полными жизненной энергии, предприимчивыми
Каролингами? Это произошло не во внутренней части, а на границе. Не в Нейстрии[273] (приблизительно эквивалентной Северной
Франции), на почве, удобренной древнеримской культурой и укрытой от варварских
набегов, но в Австразии (Рейнской области), на территории, которая защищала
римскую границу и подвергалась постоянным нападениям саксов из
североевропейских лесов и аваров[274] из Евразийской степи. Масштаб стимула,
полученного от этого внешнего давления, виден в достижениях Карла Великого – в
его восемнадцати саксонских кампаниях, истреблении аваров и «Каролингском возрождении»[275], явившемся
одной из первых манифестаций культурной и интеллектуальной энергии западного
мира.
За этой австразийской реакцией на стимул давления последовал
рецидив. Соответственно мы обнаруживаем, что последовала саксонская реакция,
достигшая своего апогея менее чем через два столетия в правление Оттона I[276]. Прочным
достижением Карла Великого явилось включение владений саксонских варваров в
западно‑христианский мир. Однако самим своим успехом он подготовил путь для
перемещения границы, а вместе с тем и перехода стимула от победоносной
Австразии к завоеванной Саксонии. Во времена Оттона тот же самый стимул
пробудил в Саксонии ответную реакцию, подобную той, что была вызвана им во
времена Карла Великого в Австразии. Оттон разбил вендов точно так же, как Карл
Великий – саксов, и впоследствии границы западно‑христианского мира были
постепенно отодвинуты еще далее на восток.
В XIII–XIV вв. задача вестернизации последних оставшихся
континентальных варваров была продолжена уже не под руководством наследственных
монархов, которые, подобно Карлу Великому и Оттону I, приняли на себя римский
императорский титул, но через посредство двух новых институтов: города‑государства
и военизированного монашеского ордена. Города Ганзы[277] и тевтонские рыцари совместно распространили
границы западно‑христианского мира от Одера до Двины. Это был последний раунд в
данном вековом конфликте, ибо еще до окончания XIV столетия континентальные
варвары, которые в течение трех тысячелетий оказывали давление на границы трех
следовавших друг за другом цивилизаций – минойской, эллинской и западной, были
стерты с лица земли. К 1400 г. западное и православное христианство, некогда
полностью изолированные друг от друга на континенте вторгшимися отрядами
варваров, пришли в соприкосновение по всей линии, протянувшейся вдоль
континента от Адриатики до Арктики.
Интересно проследить, как на этой подвижной границе между
наступающей цивилизацией и отступающим варварством вслед за переменой
направленности давления, ставшего постоянным с того времени, как Оттон I взялся
за дело Карла Великого, происходило постепенное перемещение стимула по мере
продолжения западного контрнаступления. Например, слава герцогства Саксонского
после побед Оттона над вендами померкла точно так же, как померкла слава
Австразии двумя столетиями ранее после побед Карла Великого над саксами.
Саксония утратила свою гегемонию в 1024 г. и через шестьдесят лет раскололась
на части. Однако имперская династия, сменившая Саксонскую, происходила не из
расположенных далее на востоке земель, у продвигавшейся вперед границы, – как
Саксонская династия происходила из земель, расположенных восточнее владений
Каролингов. Вместо этого и Франконская[278], и все
последующие династии, носившие императорский титул, – Гогенштауффены[279], Люксембурге[280] и Габсбурги[281] – происходили с берегов того или иного притока
Рейна. Отдалившаяся теперь граница не придавала стимула этим имперским
династиям‑преемницам, и мы не должны удивляться, обнаружив, что, несмотря на
высокое положение некоторых отдельных императоров, таких, например, как Фридрих
Барбаросса[282],
императорская власть постепенно клонилась к закату, начиная с последней части
XI столетия.
Однако империя, воскрешенная Карлом Великим, будучи, без
сомнения, призраком призрака и не являясь «ни Священной, ни Римской, ни
империей», выжила, чтобы еще раз сыграть жизненно важную роль в политической
жизни западного общества. Она была обязана возвращением своей жизненной энергии
тому факту, что в конце средних веков ряд династических перестановок и
катастроф официально утвердил рейнский дом Габсбургов в Австрии, где он в конце
концов всецело взял на себя ответственность за новые приграничные земли и отвечал
на новый стимул, вызванный этими обстоятельствами. К этой теме мы и должны
будем сейчас перейти.
* * *
Западный мир против Оттоманской империи
Воздействие оттоманских турок на западный мир всерьез
началось со столетней войны между османами и Венгрией, кульминацией которой
явилось поражение средневекового Венгерского королевства в битве при Мохаче
(1526)[283]. Венгрия,
отчаянно защищавшаяся под водительством Яноша Хуньяди[284] и его сына Матьяша Корвина[285], оказалась
наиболее упорным противником, с которым когда‑либо сталкивались османы. Однако
неравенство сил воюющих сторон, несмотря на усиление Венгрии за счет союза с
Богемией в 1490 г., было столь велико, что попытка оказалась выше возможностей
Венгрии. Развязкой явилась битва при Мохаче. Лишь бедствие подобной величины
смогло произвести достаточный психологический эффект, который привел остатки
Венгрии вместе с Богемией и Австрией к тесному и продолжительному союзу под
главенством Габсбургской династии, правившей в Австрии с 1440 г. Этот союз
продолжался в течение примерно четырех столетий, будучи аннулирован лишь в 1918
г. – в том же самом году, когда произошел окончательный распад Оттоманской державы,
четыреста лет назад нанесшей динамичный удар при Мохаче.
Действительно, с самого момента основания дунайской
Габсбургской монархии ее судьба была связана с судьбой враждебной державы, чье
давление вызвало Габсбургскую монархию к жизни. Героический век дунайской
монархии хронологически совпадает с периодом, когда оттоманское давление на
западный мир было наиболее жестким. За начало этого героического периода можно
принять первую неудачную оттоманскую осаду Вены в 1529 г., а за конец – вторую
в 1682‑1683 гг. В двух этих тяжелейших испытаниях австрийская столица в
отчаянном сопротивлении западного мира оттоманским атакам играла ту же роль,
какую играл Верден во французском сопротивлении атакам немцев в войне 1914‑1918
гг.[286] Обе осады Вены явились поворотными пунктами в
оттоманской военной истории. Неудача первой осады остановила волну оттоманских
завоеваний, затопившую долину Дуная столетие назад, – и по карте видно (во что
многие, вероятно, поверят с трудом без дополнительного подтверждения), что Вена
расположена почти на полпути между Константинополем и Па‑де‑Кале. За неудачей
второй осады последовал отлив, который продолжался (несмотря на все паузы и
колебания) до тех пор, пока турецкая граница не была отодвинута от юго‑восточных
предместий Вены, где она находилась с 1529 по 1683 г., к северо‑западным
предместьям Адрианополя.
Однако поражение Оттоманской империи не обеспечило победы
дунайской Габсбургской монархии, ибо героический век последней не пережил
заката первой. Падение Оттоманской державы, которое сделало поле Юго‑Восточной
Европы открытым для других сил, одновременно освободило дунайскую монархию от
давления, стимулировавшего ее прежде. Дунайская монархия склонялась к закату
вслед за державой, чьи удары первоначально вызвали ее к жизни, и в конце концов
разделила судьбу Оттоманской империи.
Если мы взглянем на Австрийскую империю в XIX столетии,
когда грозные прежде османы стали «слабыми европейцами», то обнаружим, что
теперь она страдала от двойного бессилия. Не только из‑за того, что в этом веке
она более не являлась пограничным государством. Ее наднациональная организация,
обеспечившая эффективный ответ на оттоманский вызов в XVI и XVII столетиях,
превратилась в камень преткновения новомодных националистических идеалов
столетия девятнадцатого. Габсбургская монархия провела последний век своей
жизни в попытках (все они были обречены на неудачу) воспрепятствовать
неизбежной ревизии своей политической карты на националистических основаниях.
Ценой отказа от гегемонии в Германии и от земель в Италии монархия умудрялась
продолжать свое существование бок о бок с новой Германской империей и новым
Итальянским королевством. Приняв австро‑венгерское Ausgleich[287] в 1867 г.[288] и его австро‑польское дополнение в Галиции[289], она имела
успех, отождествив свои собственные интересы с национальными интересами
венгерского, польского и немецкого элемента в своих владениях. Но она не пришла
или не смогла прийти к соглашению со своими румынами, чехословаками и
югославами, и пистолетные выстрелы в Сараево[290] послужили сигналом к ее исчезновению с
политической карты.
Наконец, давайте взглянем на контрастное положение
послевоенной Австрии и послевоенной Турции. После окончания войны 1914‑1918 гг.
обе они появились в качестве республик и обе перестали быть империями, что
некогда сделало их соседями и противниками. Но на этом сходство заканчивается.
Австрийцы одновременно и получили самый тяжелый удар, и приняли его наиболее
покорно из пяти народов, оказавшихся на побежденной стороне. Они приняли новый
порядок пассивно, с величайшим смирением и с величайшей горестью. Наоборот,
турки были единственным из пяти народов, который снова взялся за оружие менее
чем через год после прекращения боевых действий, выступив против победивших
держав и успешно настояв на решительном пересмотре мирного договора, который
хотели навязать им победители. Поступив подобным образом, турки возродили свою
молодость и изменили свою судьбу. Теперь уже они сражались не под началом
упадочной Оттоманской династии с целью сохранить ту или иную провинцию
покинутой владельцами империи. Оставленные своей династией, они вновь
продолжили пограничную войну и последовали за своим вождем, избранным за его
заслуги, подобно их первому султану Осману, – не для того, чтобы расширить
границы своей родины, но для того, чтобы их сохранить. Поле при Инёню[291], на котором
произошло решающее сражение греко‑турецкой войны 1919‑1922 гг., находится в
пределах тех первоначальных наследственных земель, которые последний из
Сельджукидов закрепил за первым из Османов шестьсот лет назад. Колесо совершило
полный круг.
* * *
Западный мир на своих западных границах
В ранний период своей истории западное общество испытывало
давление не только со стороны своей восточной границы, но и на трех фронтах на
западе: давление так называемой кельтской окраины на Британских островах и в
Британии, давление скандинавских викингов на Британских островах и вдоль
Атлантического побережья континентальной Европы и давление сирийской
цивилизации, оказанное ранними мусульманскими завоевателями на Иберийском
полуострове. Первым мы рассмотрим давление «кельтской окраины».
Как могло случиться, что борьба за существование между
примитивными и эфемерными варварскими княжествами так называемой Гептархии[292] привела к возникновению двух передовых и
долговечных государств западной политической системы? Если мы бегло посмотрим
на процесс, в ходе которого королевства Англия и Шотландия заняли место
«Гептархии», то обнаружим, что определяющим фактором на каждой ступени являлся
ответ на некий вызов, порожденный внешним давлением. Происхождение королевства
Шотландия можно возвести к вызову, брошенному пиктами[293] и скоттами англосаксонскому княжеству
Нортумбрия. Нынешняя столица Шотландии была основана Эдвином Нортумбрийским
(чье имя носит до сих пор[294]) в качестве
пограничной крепости Нортумбрии против живших по ту сторону залива Ферт‑оф‑Форт
пиктов и бриттов долины реки Клайд. Вызов был брошен, когда пикты и скотты
завоевали Эдинбург в 954 г., а впоследствии заставили Нортумбрию уступить им
весь Лотиан[295]. Данная
уступка вызвала следующий вопрос: будет ли эта утраченная граница западного
христианства сохранять свою западно‑христианскую культуру, несмотря на смену
политического режима, или подчинится чуждой «дальнезападнои» культуре своих
кельтских завоевателей? Будучи весьма далек от того, чтобы подчиниться, Лотиан
ответил на вызов, «взяв в плен» своих завоевателей, как завоеванная Греция
некогда «пленила» Рим.
Культура завоеванной территории оказалась настолько
привлекательной для королей скоттов, что они сделали Эдинбург своей столицей и
стали себя чувствовать и вести так, словно Лотиан был их родиной, а Хайлендз[296] – отдаленной и чуждой частью их владений. В
результате восточное побережье Шотландии вплоть до залива Мори‑Ферт было
колонизовано, а «линия Хайленда» отодвинута назад поселенцами английского
происхождения из Лотиана под покровительством кельтских правителей в ущерб
кельтскому населению, чьими родственниками изначально являлись короли скоттов.
По логически последовательному и при этом не менее парадоксальному переносу
имен «шотландский язык» стал означать английский диалект, на котором говорили в
Лотиане, вместо того, чтобы означать гэльский диалект, на котором говорили
первоначальные скотты. Конечным следствием завоевания Лотиана скоттами и
пиктами явилось то, что северо‑западная граница западного христианства от
залива Ферт‑оф‑Форт до реки Твид не была удержана и продвинулась еще дальше,
пока не охватила весь остров Великобритания.
Так завоеванная часть одного из княжеств английской
«Гептархии» фактически стала ядром нынешнего королевства Шотландия, и следует
заметить, что та часть Нортумбрии, которая совершила этот подвиг, была границей
между Твидом и Хамбером[297]. Если бы
какой‑либо просвещенный путешественник посетил Нортумбрию в X в., накануне
передачи Лотиана скоттам и пиктам, то он бы наверняка сказал, что у Эдинбурга
не будет большого будущего и что если какой‑то город и станет постоянной
столицей «цивилизованного» государства, то это будет Йорк. Расположенный
посреди обширной пахотной равнины в Северной Британии, Йорк уже являлся военным
центром римской провинции и центром церковного архиепископства и совсем недавно
сделался столицей эфемерного скандинавского королевства, в котором действовали
«датские законы»[298]. Но в 920 г.
датское королевство Йорка подчинилось королю Уэссекса, впоследствии Йорк
опустился до уровня английского провинциального города, а в наши дни ничто,
кроме необычайных размеров Йоркшира среди всех английских графств, не
напоминает о том факте, что некогда для него была приуготована великая судьба.
Какое же из княжеств «Гептархии» на юг от Хамбера могло
взять на себя инициативу и образовать ядро будущего королевства Англия? Мы
замечаем, что к VIII в. христианской эры ведущими соперниками были не ближайшие
к континенту княжества, но Мерсия и Уэссекс, оба подвергшиеся воздействию
пограничного стимула со стороны непокоренных кельтов Уэльса и Корнуолла. Мы
также замечаем, что в первом раунде этого соревнования Мерсия вырвалась вперед.
Король Мерсии Оффа[299] имел в своем распоряжении огромную силу,
большую, чем любой из королей Уэссекса в его время, ибо давление Уэльса на
Мерсию было сильнее, чем давление Корнуолла на Уэссекс. Хотя сопротивление
«западных валлийцев» в Корнуолле оставило бессмертный отголосок в легенде о
короле Артуре, оно, тем не менее, по‑видимому, сравнительно легко было сломлено
западными саксами. С другой стороны, суровость давления на Мерсию филологически
подтверждается самим ее названием (преимущественно «граница» – the March), а
археологически – остатками величественных земляных укреплений, протянувшихся от
эстуария Ди до эстуария Северна, который носит название Рва [короля] Оффы
(Offa's Dyke). На этой стадии казалось, что будущее не за Уэссексом, но за
Мерсией. Однако в IX столетии, когда вызов со стороны «кельтской окраины»
превзошел новый, гораздо более страшный вызов со стороны Скандинавии, эти
надежды были обмануты. На этот раз Мерсии не удалось ответить, тогда как
Уэссекс под водительством короля Альфреда ответил [на вызов] победой и, таким
образом, стал ядром исторического королевства Англия.
Скандинавское давление на океанское побережье западно‑христианского
мира привело не только к объединению княжеств «Гептархии» в королевство Англия
под властью дома Кердика[300], но также и к
объединению под властью дома Капета[301] заброшенных обломков западной части империи
Карла Великого в королевство Франция. Перед лицом этого давления Англия обрела
свою столицу не в Уинчестере, предыдущей столице Уэссекса, расположенной в
пределах области обитания западных валлийцев и сравнительно удаленной от
скандинавской опасности, но в Лондоне, мужественно выдерживавшем удары судьбы и
взявшем на себя всю тяжесть того дня в 895 г., когда [этот город] придал
продолжительному сражению, возможно, решающий поворот, отразив попытку датской
армады подняться вверх по Темзе. Подобным же образом и Франция обрела свою
столицу не в Лане, который являлся местопребыванием последнего Каролинга, но в
Париже, который принял на себя главный удар при отце первого короля из династии
Капетингов и вынудил викингов остановить свое продвижение вверх по Сене.
Так ответ западной цивилизации на заморский вызов
Скандинавии дал рождение новым королевствам Англия и Франция. В дальнейшем, в
процессе приобретения господства над своими противниками, французский и
английский народы выковали мощный военный и социальный инструмент феодальной
системы, причем англичане еще сумели дать художественное выражение
эмоциональному опыту этого сурового испытания в новой вспышке эпической поэзии,
фрагмент которой сохранился в «Песни о битве при Молдоне»[302].
Мы должны также заметить, что Франция повторила в Нормандии
подвиг англичан в Лотиане, заполучив скандинавских завоевателей Нормандии в
качестве рекрутов завоеванной цивилизации. Менее чем через столетие Ролло и его
спутники заключили с Каролингом Карлом Простым пакт, обеспечивавший им
постоянное поселение на атлантическом берегу Франции (912 г.). Их потомки
расширили границы западно‑христианского мира в Средиземноморье в ущерб
Православию и исламу и распространяли яркий свет западной цивилизации, который
теперь воссиял во Франции, в островных королевствах Англии и Шотландии, в то
время еще лежавших в полумраке. С физиологической точки зрения, норманнское
завоевание Англии можно было бы рассматривать как окончательное достижение
ранее сорванных целей варваров‑викингов, но с точки зрения культурной, такая
интерпретация – просто нонсенс. Норманны отказались от своего скандинавского
языческого прошлого, начав не уничтожать закон западного христианства в Англии,
а исполнять его. В битве при Гастингсе[303], когда
норманнский воин‑менестрель Тайлефер скакал по полю сражения впереди
норманнских рыцарей, он пел не на норвежском, а на французском языке, и не
«Сагу о Сигурде», а «Песнь о Роланде». Когда западно‑христианская цивилизация
«пленила» подобным образом скандинавских захватчиков своих владений, было
неудивительно, что она стала способна закрепить свою победу, заняв место
недоразвитой скандинавской цивилизации в самой Скандинавии.
Нам осталось еще рассмотреть последнее пограничное давление,
которое по времени было первым, превзойдя все остальные по своей интенсивности,
и казалось поразительным по своей мощи, если сравнить его с явно ничтожными
силами нашей цивилизации в ее колыбели. В самом деле, по мнению Гиббона, оно
едва не занесло западное общество в список недоразвившихся цивилизаций[304]. Арабское
нападение на младенческую цивилизацию Запада было эпизодом в последнем
сирийском ответе на продолжительное эллинское вторжение в сирийские владения.
Поставив перед собой задачу усиления ислама, арабы не успокоились, пока не
восстановили сирийское общество в границах бывших владений в период его
наибольшего распространения. Не удовольствовавшись воссозданием в качестве
Арабской империи сирийского универсального государства, первоначально
воплощенного в Персидской империи Ахеменидов, арабы продолжили отвоевывать
древние финикийские владения Карфагена в Африке и Испании. В этом последнем
направлении они пересекли в 713 г., по стопам Гамилькара и Ганнибала, не только
Гибралтарский пролив, но также и Пиренеи. Впоследствии, хотя и не стремясь
превзойти ганнибаловский переход через Рону и Альпы, они проложили новые пути,
которыми Ганнибал не ступал никогда, и привели свои военные силы на Луару.
Поражение, нанесенное арабам франками под водительством деда
Карла Великого в битве при Туре в 732 г., явилось, несомненно, одним из
решающих событий в истории. Западная ответная реакция на сирийское давление,
которое о себе заявило, оставалась в силе и все более увеличивалась на этом
фронте, пока примерно семь или восемь веков спустя его импульс не перенес
португальский авангард западно‑христианского мира прямо с Иберийского
полуострова за море, вокруг Африки, в Гоа, Малакку и Макао, а кастильский
авангард – через Атлантику в Мексику и через Тихий океан – в Манилу. Эти
иберийские первопроходцы сослужили беспримерную службу западно‑христианскому
миру. Они расширили горизонт и тем самым потенциальные владения общества, представителями
которого были, пока он не охватил все обитаемые земли и годные для плавания
моря земного шара. В первую очередь именно благодаря иберийской энергии западно‑христианский
мир вырос, подобно горчичному зерну из притчи, в «великое общество» – дерево, в
ветвях которого поселились все нации Земли.
Пробуждение энергии иберийского христианства под
воздействием стимула давления со стороны мавров подтверждается тем фактом, что
эта энергия иссякла, как только маврское давление прекратилось. В XVII столетии
португальцы и кастильцы были вытеснены в открытом ими Новом Свете любителями
вмешиваться в чужие дела – голландцами, англичанами и французами – из
транспиренейских частей западно‑христианского мира, и это поражение за морем по
времени совпало с устранением исторического стимула на родине в результате
массового истребления, изгнания или насильственного обращения в христианство
оставшихся на полуострове «морисков».[305]
По‑видимому, отношение иберийских пограничных земель к
маврам схоже с отношением дунайской Габсбургской монархии к османам. Каждый из
них был силен до тех пор, пока сильно было давление. Как только давление
слабело, и Испания, и Португалия, и Австрия начинали ослабевать и терять лидерство
среди конкурирующих держав западного мира.
5. Стимул ущемления
Хромые кузнецы и слепые поэты
Если живой организм ущемлен по сравнению с другими
представителями данного вида и потерял возможность пользоваться неким отдельным
органом или способностью, он, вероятно, ответит на этот вызов специализацией
другого органа или способности, пока не получит преимущество над своими
собратьями в этой второй сфере деятельности, компенсировав свою ущербность в
первой. Например, слепой человек склонен развивать чувство осязания более
тонкое, чем то, которым обычно обладают люди, пользующиеся зрением. Подобным
образом мы находим, что и в социальном организме группа или класс, являющиеся
социально ущемленными – или в результате какого‑то несчастья, или по
собственной вине, или по вине других членов общества, в котором они живут, –
вероятно, ответят на вызов затруднений в некоторых сферах деятельности или
всецелого исключения из этих сфер, сконцентрировав свою энергию в других сферах
и достигнув превосходство там.
Быть может, уместнее начать с простейшего случая – с
ситуации, в которой некие физические недостатки препятствуют занятию отдельных
индивидуумов деятельностью, обычной в том обществе, членами которого они
являются. Давайте, например, вспомним затруднительное положение, в котором
слепой или хромой человек оказывается в варварском обществе, где обычный
мужчина является воином. Как реагирует хромой варвар? Хотя ноги и не могут
вести его в сражение, его руки могут ковать оружие и доспехи для его товарищей,
и он приобретает умение в ремесле, которое делает их столь же зависимыми от
него, как и он зависим от них. Он становится повседневным прототипом хромого
Гефеста (Вулкана) или хромого Вёлунда (Виланда‑Кузнеца) в мировой мифологии. А
как реагирует слепой варвар? Его удел хуже, ибо он не может использовать свои
руки в кузнечном деле. Однако он может использовать их для игры на арфе в
сочетании со своим голосом, а также использовать свои умственные способности
для создания поэзии, воспевающей те деяния, которые сам совершить не может, но
о которых узнает из вторых рук из безыскусных воинских рассказов своих
товарищей. Он становится средством достижения того бессмертия славы, которого
жаждет варварский воин.
Немало храбрых до Агамемнона
На свете жило, вечный, однако, мрак
Гнетет их всех, без слез, в
забвеньи:
Вещего не дал им рок поэта{56}.
* * *
Рабство
Среди тех видов ущемления, причиной которых является не
врожденное несчастье, а дело человеческих рук, наиболее явным, наиболее
универсальным и наиболее суровым является рабство. Возьмем, к примеру, факты,
касающиеся огромного притока иммигрантов, которых свозили в Италию в качестве
рабов со всех стран Средиземноморья в течение двух ужасающих веков между войной
с Ганнибалом и установлением мира при Августе. Ущербность, под воздействием
которой эти рабы‑иммигранты начинали свою новую жизнь, почти невозможно
вообразить. Некоторые из них были наследниками культурной традиции эллинской
цивилизации и явились свидетелями того, как рушился весь их духовный и
материальный универсум, как грабили их города и уводили на рабский рынок их
сограждан. Другие, происходившие из восточного «внутреннего пролетариата»
эллинского общества, хотя уже и утратили свое социальное наследие, однако не
утратили способности переживать мучительные личные страдания, которые причиняет
рабство. Существовала древнегреческая поговорка: «день рабства лишает человека
половины его человечности». Эта поговорка находила ужасающее подтверждение в падении
происходившего из рабов римского городского пролетариата, который жил не хлебом
единым, но «хлебом и зрелищами» (partem et circences) со II столетия до
христианской эры по VI столетие христианской эры, пока материальное
благополучие не закончилось и народ не исчез с лица земли. Эта затянувшаяся
«жизнь‑в‑смерти» была воздаянием за неудавшийся ответ на вызов рабства, и нет
сомнения в том, что широкая дорога к гибели была протоптана большинством тех
человеческих существ самого различного происхождения и с самым различным
прошлым, которые были обращены в рабство en masse в самый злой век
эллинской истории. Однако были и такие, кто ответил на этот вызов и преуспел в
«делании добра» тем или иным образом.
Некоторые, прислуживая своим господам, возвышались до того,
что становились ответственными администраторами больших поместий. Поместьем
самого цезаря, когда оно выросло до размеров универсального государства
эллинского мира, продолжали управлять императорские вольноотпущенники. Другие,
занимавшиеся по велению своих господ мелким предпринимательством, покупали
свободу за счет тех сбережений, которые их господа позволяли им сохранять, и в
конечном счете достигали богатства и высокого положения в мире римских
предпринимателей[306]. Другие
оставались рабами в этом мире, чтобы стать философами‑царями или отцами Церкви
в мире ином, и истинный римлянин, который мог справедливо презирать незаконную
власть какого‑нибудь Нарцисса[307] или бахвальство какого‑нибудь нувориша Трималхиона[308], относился с
почтением к спокойной мудрости хромого раба Эпиктета[309] и не мог не удивляться энтузиазму безымянного
множества рабов и вольноотпущенников, чья вера сдвигала горы. На протяжении
пяти столетий между войной с Ганнибалом и обращением в христианство императора
Константина[310] римские власти были свидетелями явления и
повторения этого чуда рабской веры – вопреки своим попыткам остановить его при
помощи физической силы, – пока наконец сами ему не поддались. Ибо рабы‑иммигранты,
утратившие свою родину, семью и имущество, продолжали хранить свою веру. Греки
принесли с собой вакханалии, анатолийцы – культ Кибелы («Дианы Эфесской»,
хеттской богини, намного пережившей то общество, в котором она появилась),
египтяне – культ Исиды, вавилоняне – звездный культ, иранцы – культ Митры,
сирийцы – христианство. «Но ведь давно уж Оронт сирийский стал Тибра притоком»{57},
– писал Ювенал[311] во II столетии христианской эры. Слияние этих
вод привело к наводнению, которое обнажило всю недостаточность подчинения раба
своему хозяину.
Результатом явилось то, что иммигрантская религия
внутреннего пролетариата затопила местные религии правящего меньшинства
эллинского общества. Когда воды однажды встретились, было уже невозможно
предотвратить их смешение, а когда они смешались, уже оставалось мало сомнений
в том, какое из течений одержит верх, если только природе не будет
противодействовать искусство или сила. Ибо боги‑хранители эллинского мира
утратили то интимное живое единство, которое соединяло их со своими верующими,
тогда как Бог пролетариата оказался для своих верующих «прибежищем и силой,
скорым помощником в бедах»{58}. Перед лицом подобных перспектив
римские власти колебались в течение пяти столетий между двумя мнениями.
Следовало ли им перейти в наступление против чужеземных религий или принять их
близко к сердцу? Каждый новый бог привлекал какую‑то определенную часть
римского правящего класса: Митра – солдат, Исида – женщин, небесные тела –
интеллектуалов, Дионис – филэллинов, а Кибела – сторонников фетишизма. В 205 г.
до н. э., во время кризиса, вызванного войной с Ганнибалом, римский сенат
предвосхитил принятие христианства Константином более чем на пять веков, приняв
с официальными почестями волшебный камень, или метеорит, упавший с неба,
который римляне приписали божественности Кибелы и вывезли в качестве талисмана
из анатолийского Пессинунта. Через двадцать лет римский сенат предвосхитил
диоклетиановские преследования христиан, запретив эллинские вакханалии.
Продолжительная «битва богов» явилась двойником земного соперничества между
рабами‑иммигрантами и их римскими господами, и в этом двойном соперничестве
рабы и их боги одержали победу.
Стимул ущемления можно также проиллюстрировать расовой
дискриминацией, примером которой является кастовая система индусского общества.
Здесь мы видим, как расы, или касты, не допущенные для занятий одним ремеслом
или профессией, добивались успеха в другом. Негритянский раб‑иммигрант в
современной Северной Америке подвергся процессу двойного ущемления – расовой
дискриминации и узаконенного рабства, и в наши дни, через восемьдесят лет после
того, как второй из факторов был устранен, первый отягощает цветного
вольноотпущенника как никогда. Здесь нет необходимости распространяться о тех
ужасных несправедливостях, которые были причинены работорговцами и
рабовладельцами западного мира негритянской расе. Для нас интереснее будет
отметить (и после исследования эллинской параллели мы отмечаем это без всякого
удивления), как американские негры, обнаружив, что чаша весов, по всей
видимости, в подавляющем большинстве случаев постоянно склоняется не в их
пользу в этом мире, обратились за утешением к миру иному.
Негр, по‑видимому, дает на наш ужасающий вызов религиозный
ответ, и в конечном итоге (когда на этот ответ можно будет взглянуть
ретроспективно) может оказаться так, что он выдержит сравнение с ответом
Востока на вызов древнеримских господ. В самом деле, негр не принес с собой
какой‑либо собственной наследственной религии из Африки, которая была бы
способна пленить сердца его белых сограждан в Америке. Его примитивное
социальное наследие было столь хрупким по своей структуре, что, сохранив лишь
несколько лоскутков, было рассеяно по ветру под воздействием западной
цивилизации. Таким образом, он прибыл в Америку как духовно, так и физически
нагим, и прикрыть свою наготу он мог лишь обносками своего поработителя. Негр
приспособился к новому социальному окружению, по‑новому открыв в христианстве
некие первоначальные смыслы и ценности, которые западно‑христианский мир в
течение долгого времени игнорировал. Обращая свой наивный и впечатлительный ум
к Евангелиям, он открыл для себя, что Иисус был пророком, пришедшим в мир не
утверждать сильных на их престолах, но возносить бедных и смиренных[312]. Сирийские
рабы‑иммигранты, которые некогда принесли христианство в римскую Италию, явили
чудо утверждения новой живой религии, занявшей место старой, уже мертвой.
Возможно, негритянские рабы‑иммигранты, открывшие христианство в Америке,
смогут явить еще большее чудо воскрешения мертвого к жизни. Со своей детской
духовной интуицией и со своей гениальной способностью давать спонтанное
эстетическое выражение эмоциональному религиозному опыту они, возможно, будут
способны раздуть холодную золу христианства, переданную им нами, чтобы в их сердцах
божественный огонь запылал вновь. Таким образом, возможно (если только это
вообще возможно), что христианство во второй раз станет живой верой умирающей
цивилизации. Если американская негритянская церковь действительно совершит это
чудо, то оно явится самым динамичным ответом, который когда‑либо давал человек
на вызов социального ущемления.
* * *
Фанариоты, казанские татары и левантинцы
Социальное ущемление религиозных меньшинств внутри единой
или же разнородной общины – факт настолько знакомый, что вряд ли нуждается в
примерах. Всякий знает о том мощном ответе на подобный вызов, который был дан
английскими пуританами в XVII столетии, о том, как те пуритане, что остались на
родине, сначала посредством Палаты общин, а затем – конницы Кромвеля вывернули
английскую конституцию наизнанку и обеспечили окончательный успех нашему
эксперименту в парламентском правлении, а также о том, как те пуритане, что
отправились за море, заложили основание Соединенных Штатов. Еще интереснее
исследовать несколько менее известных примеров, в которых привилегированное и
ущемленное вероисповедания принадлежали к разным цивилизациям, хотя были
включены в единое государственное образование под воздействием той force
majeure[313],
которую прилагала доминирующая партия.
В Оттоманской империи главным силам Православия захватчики с
чуждой верой и культурой навязали универсальное государство, без которого
православно‑христианское общество не могло обойтись, но которое оказалось
неспособным установить самостоятельно. И православным христианам пришлось
платить за свою социальную несостоятельность тем, что они перестали быть
хозяевами в своем собственном доме. Мусульманские завоеватели, образовавшие и
поддерживавшие Pax Ottomanica[314] в православно‑христианском мире, взыскивали
плату в форме религиозной дискриминации за ту политическую услугу, которую они
оказали своим христианским подданным. Здесь, так же как и повсюду, приверженцы
ущемленного вероисповедания отвечали на вызов, становясь специалистами в тех
занятиях, которыми теперь насильственно ограничивали их деятельность.
В старой Оттоманской империи никто не мог управлять или
носить оружие, кроме османов, и на широких просторах империи даже собственность
на землю и возможность ее обработки перешла от христиан в руки их мусульманских
господ. При таких обстоятельствах некоторые православные народы пришли – в
первый и последний раз в своей истории – к необщепризнанному и, возможно, даже
сознательно спланированному, однако от этого не менее эффективному,
взаимопониманию. Теперь они не могли ни далее позволять себе заниматься своим
любимым делом – братоубийственными войнами, ни браться за свободные профессии,
так что они молча разделили между собой более скромные ремесла и в качестве
ремесленников постепенно снова встали на ноги в стенах имперской столицы, из
которой их осмотрительно всем скопом выселил Мехмед Завоеватель. Валахи с
Румелийских нагорий[315] утвердились в городах как бакалейщики,
грекоязычные греки Архипелага и туркоязычные греки закрытого анатолийского
Карамана открыли свой бизнес в более амбициозном масштабе: албанцы стали
каменщиками, черногорцы – швейцарами и комиссионерами, даже буколические
болгары обосновались в предместьях как конюхи и торговцы овощами.
Среди православных христиан, вновь занявших Константинополь,
была одна греческая группа, так называемые фанариоты, которых вызов ущемления
стимулировал до такой степени, что они стали фактическими партнерами и
потенциальными соперниками самих османов в управлении и контроле над империей.
Фанар, от которого эта клика целеустремленных греческих семей получила свое
название, был северо‑западным районом Стамбула, который оттоманское
правительство оставило своим православным подданным, проживающим в столице, в
качестве эквивалента гетто. Туда переехал Вселенский патриарх после того, как
храм Святой Софии был превращен в мечеть, и в этом на первый взгляд не
обещающем ничего хорошего уединении, патриархия стала сборным пунктом и
инструментом греческих православных христиан, процветавших в торговле. Эти
фанариоты развили в себе два особых достоинства. В качестве торговцев высокого
уровня они вошли в торговые отношения с западным миром и приобрели знание
западных манер, обычаев и языков. В качестве управляющих делами патриархии они
приобрели широкую практику и близкое знакомство с оттоманской администрацией,
поскольку при старой оттоманской системе патриарх являлся официальным
политическим посредником между оттоманским правительством и всеми православными
подданными, на каком бы языке они ни говорили и в какой бы ни жили провинции.
Два этих достоинства принесли фанариотам состояние, когда в ходе векового
конфликта между Оттоманской империей и западным миром события определенно
обернулись против османов после второй безуспешной осады Вены в 1682‑1683 гг.
Эта перемена военной удачи внесла страшную путаницу в
оттоманские государственные дела. До своего поражения в 1683 г. османы всегда
могли рассчитывать на то, что решат свои отношения с западными державами при
помощи простого применения силы. Закат военной мощи османов поставил их перед
лицом двух новых проблем. Теперь им пришлось сидеть за столом переговоров с
западными державами, которые османы не смогли победить на поле битвы, и им
пришлось считаться с чувствами своих христианских подданных, которых они более
не могли уверенно удерживать в подчинении. Другими словами, османы не могли
более обойтись без искусных дипломатов и умелых администраторов. А тем
необходимым запасом подобного опыта, которого сами османы были лишены, среди
всех их подданных обладали лишь фанариоты. В результате османы были вынуждены
пренебречь прецедентами и исказить принципы своего собственного режима, даровав
компетентным фанариотам монополию на четыре высокие государственные должности,
которые являлись ключевыми в новой политической ситуации, сложившейся в
Оттоманской империи. Таким образом, на протяжении XVIII столетия христианской
эры политическая власть фанариотов постепенно усиливалась, и казалось, будто
результат западного давления смог одарить империю новым правящим классом,
составленным из жертв векового расового и религиозного ущемления.
В конечном счете фанариотам не удалось достичь своей
«несомненной судьбы»[316], поскольку к
концу XVIII столетия западное давление на оттоманскую социальную систему
достигло той степени интенсивности, на которой ее природа подверглась
неожиданной трансформации. Греки, первыми среди подданных Оттоманской империи
вступившие в тесные отношения с Западом, явились также и первыми, кто был
заражен новым западным вирусом национализма – последствием потрясения,
вызванного Французской революцией. Между вспышкой Французской революции и
Греческой войной за независимость греки находились под чарами двух
несовместимых стремлений. Они не хотели отказаться от фанариотской амбиции
овладеть всем наследием османов и сохранить Оттоманскую империю нетронутой как
«процветающее предприятие» под греческим управлением. Но в то же самое время у
них появилась амбиция учредить свое собственное суверенное, независимое, национальное
государство – Грецию, которая была бы греческой, как Франция – французской.
Несовместимость двух этих стремлений окончательно была продемонстрирована в
1821 г., когда греки попытались реализовать их одновременно.
Когда фанариотский князь Ипсиланти[317] перешел через Прут со своей базы в России,
чтобы сделаться хозяином Оттоманcкой империи, а лидер майнотов[318] Петробей Мавромихалис[319] спустился с горной крепости в Морее, чтобы
учредить независимую Грецию, исход был заранее предрешен. Обращение к оружию
означало крах фанариотских стремлений. Тростник, на который османы опирались
более столетия, проколол им руку, и ярость по поводу этой измены придала им
достаточно сил для того, чтобы разломать вероломный посох на куски и выстоять
любой ценой на собственных ногах. Османы ответили на объявление войны князем
Ипсиланти, разрушив одним ударом ту «фабрику власти», которую фанариоты мирным
путем выстраивали для себя с 1683 г. Одновременно это явилось первым шагом к
искоренению всего нетурецкого элемента из остатков оттоманского наследства –
процесс, который достиг своей высшей точки в выселении православного
меньшинства из Анатолии в 1922 г. Фактически первая вспышка греческого
национализма зажгла первую искру национализма турецкого. Таким образом,
фанариотам в конце концов не удалось закрепить за собой то «главенство» в
Оттоманской империи, которое, казалось, было им суждено. Однако тот факт, что
фанариоты едва не достигли успеха, служит доказательством той силы, с которой
они ответили на вызов ущемления. В самом деле, история их отношений с османами
служит превосходной иллюстрацией социального «закона» вызова‑и‑ответа. А
контраст между греками и турками, вызывавший такой большой интерес и такую
сильную враждебность, можно объяснить только в данных понятиях, а не в понятиях
расы или религии, которые было принято выдвигать с обеих сторон в
общераспространенной полемике. Туркофилы и грекофилы сходятся в том, что
приписывают исторические различия в этосе между греческими христианами и
турецкими мусульманами некоему неискоренимому свойству расы или некоему
неизгладимому отпечатку религии. Они расходятся лишь в отношении социальных
ценностей, которые приписывают этим неизвестным величинам в двух случаях.
Грекофил постулирует существование врожденной добродетели в греческой крови и в
православном христианстве и врожденной греховности – в турецкой крови и в
исламе. Туркофил просто переставляет местами грех и добродетель. Фактически
общее высокомерие, лежащее в основе обеих точек зрения, противоречит
несомненному положению дел.
Несомненно, например, что, с точки зрения физического
происхождения, кровь выходцев из Центральной Азии, тюркских последователей
Эртогрула, текущая в жилах современного турка, не более чем бесконечно малая
примесь. Турки Оттоманской империи выросли в нацию, ассимилировавшись с
православным населением, в окружении которого османы жили в течение последних
шести веков. В расовом отношении сегодня можно найти лишь весьма небольшое
различие между двумя народами.
Если этот пример достаточно убедительно опровергает
априорное расовое объяснение контраста между греками и турками, то мы можем
опровергнуть и априорное религиозное объяснение, взглянув на другой тюркский
мусульманский народ, который живет и жил долгое время при обстоятельствах,
похожих не на те, в которых жили оттоманские турки, но на обстоятельства, в
которых жили бывшие подданные османов – православные греки. На Волге существует
тюркская мусульманская община, называемая казанскими татарами, которые были
покорены в течение нескольких веков православным правительством России и
подвергались многим из тех же расовых и религиозных ущемлений при чуждом
режиме, которым османы подвергали православных христиан. Что за народ эти
казанские татары? Мы читаем, что они «отличаются своей умеренностью,
честностью, бережливостью и трудолюбием… Основным занятием казанского татарина
является ремесло… Его главные промыслы – мыловарение, прядение и ткачество… Он становится
хорошим сапожником и кучером… До конца XVI столетия в Казани не позволяли
открывать ни одной мечети, и татары вынуждены были жить в отдельном квартале,
но постепенно превосходство мусульман восторжествовало»{59}. В
сущности, это описание тюрков, ущемленных русскими в царское время, могло бы
быть и описанием православных христиан, ущемленных тюрками в период расцвета
Оттоманской империи.
Общий опыт ущемленности по религиозному принципу был
основным фактором в развитии обеих общин, и в течение столетий идентичная
реакция на этот общий опыт породила в них «фамильное сходство» друг с другом,
которое полностью стерло различие между первоначальным влиянием православного
христианства и ислама.
Это «фамильное сходство» разделяют и приверженцы некоторых
других вероисповеданий, которые подверглись ущемлению за приверженность к своей
религии и которые ответили точно таким же образом, например римско‑католические
«левантинцы» в старой Оттоманской империи. Левантинцы, как и фанариоты, могли
избежать ущемления, предав свою веру и приняв веру своих господ. Однако тех,
кто захотел так поступить, оказалось немного. Вместо этого они, подобно
фанариотам, принялись реализовывать те ограниченные возможности, которые
оставались свободными от деспотически поставленных перед ними препятствий. В
этой деятельности они проявили то редкое и непривлекательное сочетание грубости
характера и раболепия в поведении, которое, по‑видимому, характерно для всех
социальных групп, поставленных в подобное положение. Не имело никакого
значения, что левантинцы физически происходили от одного из самых воинственных,
властных и высокодуховных народов западно‑христианского мира: средневековых
венецианцев и генуэзцев или французов, голландцев и англичан Нового времени. В
удушающей атмосфере оттоманского гетто они должны были или дать такой же ответ
на вызов религиозного ущемления, какой дали их инородные товарищи по несчастью,
или подчиниться.
В первые века своего господства османы, зная о народах
западно‑христианского мира – франках, как они их называли, – только по их
левантийским представителям, считали, что Западная Европа вся населена
подобными «малыми племенами, не имеющими закона». Более широкий опыт заставил
их пересмотреть свое мнение, и османы начали проводить резкое различие между
«пресноводными франками» и их «морскими» тезками. «Пресноводными франками»
считались те, кто родился и вырос в Турции в левантийской атмосфере и отвечал
на вызов, развивая левантийский характер. «Морскими франками» считались те, кто
родился и вырос на родине, во Франкской земле, и прибыл в Турцию
совершеннолетним, с уже сформировавшимся характером. Турки были поставлены в
тупик, обнаружив, что та огромная психологическая пропасть, которая отделяла их
от «пресноводных франков», всегда живших среди них, отсутствует в том случае,
когда они имеют дело с франками, обитающими за морем. Франки, которые
географически являлись их соседями и согражданами, психологически были им
враждебны, тогда как те франки, которые пришли из далекой страны, оказывались
людьми с такими же страстями, как у них. Но объяснение на самом деле было очень
простым. Турок и «морской франк» могли понять друг друга, потому что
существовало общее сходство между их социальным происхождением. Каждый из них
вырос в окружении, где являлся господином в своем собственном доме. С другой
стороны, оба они сталкивались с трудностями, когда пытались понять
«пресноводного франка» и относиться к нему уважительно, потому что социальное
происхождение «пресноводного франка» было им обоим в одинаковой мере чуждо. Он
был не домашним ребенком, но сыном гетто, и это ущербное существование развило
в нем этос, от которого были свободны и франк, воспитанный во Франкской земле,
и турок, воспитанный в Турции.
* * *
Евреи
Мы уже отметили, не обсуждая в подробностях, результаты
религиозной дискриминации в случае, когда жертвы ущемления принадлежат к тому
же самому обществу, являясь нарушителями его [законов]. Один из известных
примеров этого – английские пуритане. Гораздо более подробно мы обсудили
примеры из истории Оттоманской империи, тот случай, когда жертвы религиозной
дискриминации принадлежат к цивилизации, отличной от цивилизации своих
преследователей. Остается еще случай, когда жертвы религиозной дискриминации являются
представителями угасшего общества, которое сохраняется лишь как «ископаемое».
Список подобных «ископаемых обществ» был дан выше (см. с. 46), и каждое из них
могло бы послужить иллюстрацией результатов подобного рода ущемлений. Однако
наиболее достопримечательным является один из ископаемых остатков сирийского
общества – евреи. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этой затянувшейся
трагедии, конца которой еще не видно[320], мы можем
заметить, что другой сирийский обломок – парсы сыграли в индусском обществе ту
же самую роль, какую евреи сыграли в других местах, развивая почти такую же
опытность в торговле и финансах, а еще один сирийский остаток – армяно‑григорианские
монофизиты сыграли подобную же роль в мире ислама.
Характерные свойства евреев в ущемленном положении хорошо
известны. Нас интересует здесь следующий вопрос: обусловлены ли эти свойства,
как принято обычно считать, «еврейскостью» евреев, рассматриваемых или как
раса, или как религиозная секта, или же эти свойства являются просто плодом
воздействия стимула ущемления? Выводы, сделанные на основе других примеров,
располагают нас в пользу последней точки зрения, но мы подойдем к очевидности
без предубеждения. Очевидность можно проверить двумя способами. Мы можем
сравнить этос, проявленный евреями, когда их ущемляли по религиозному принципу,
с этосом, который они проявляли, когда ущемление ослабевало или полностью
прекращалось. Мы можем также сравнить этос тех евреев, которые были или
являются ущемленными, с этосом других еврейских общин, на которых стимул
ущемления не воздействовал никогда.
В настоящее время евреями, ярче всего демонстрирующими
хорошо известные черты, обычно называемые «еврейскими» и составляющие, как
широко предполагается в сознании неевреев, отличительный признак иудаизма
всегда и везде, являются ашкенази[321] Восточной Европы. Именно их в Румынии и на
сопредельных территориях, включая так называемую черту оседлости[322] в Российской империи, если не юридически, то
морально, держали в гетто отсталые европейские нации, жить среди которых судил
им жребий. Еврейский этос проявляется уже менее ярко среди эмансипированных
евреев Голландии, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Если же мы
примем во внимание, как мало времени прошло с момента легальной эмансипации
евреев в этих последних из названных стран и насколько еще неполной, даже в
относительно просвещенных странах Запада, является их моральная эмансипация, то
мы не будем недооценивать той перемены в этосе, которая очевидна уже здесь[323].
Мы также можем заметить, что среди эмансипированных евреев
Запада те евреи ашкеназского происхождения, которые пришли из‑за «черты
оседлости», все еще кажутся заметно более «еврейскими» по своему этосу, чем
более редкие среди нас сефарды[324], которые
первоначально пришли из исламского мира. Мы можем объяснить эту разницу,
вспомнив о несходстве в истории двух этих еврейских общин.
Ашкенази происходят от тех евреев, которые воспользовались
освоением римлянами Европы и сделали своей прерогативой розничную торговлю в
полуварварских трансальпийских провинциях. Со времен принятия христианства и
последующего распада Римской империи этим ашкенази пришлось пострадать вдвойне
– от фанатизма христианской Церкви и от возмущения варваров. Варвар не может
вынести, глядя, как проживающий в его стране чужеземец ведет иной образ жизни и
извлекает выгоду, ведя дела, для которых самому варвару не хватает умения.
Действуя на основе этих чувств, западные христиане ущемляли евреев до тех пор,
пока те им были необходимы, и изгоняли, как только чувствовали себя в состоянии
обойтись без них. Соответственно, рост и экспансия западного христианства
сопровождались дрейфом евреев‑ашкенази в восточном направлении от древних
границ Римской империи в Рейнской области до современных границ западно‑христианского
мира в «черте оседлости». В ходе развития внутренних областей западно‑христианского
мира евреев изгоняли из одной страны в другую по мере того, как западные народы
последовательно достигали определенного уровня экономической производительности
– как, например, они были изгнаны из Англии Эдуардом I, правившим в 1272‑1307
гг. Вместе с тем, достигнув окраины континента, эти еврейские изгнанники из внутренних
областей принимались и даже приглашались из одной страны в другую на начальных
стадиях вестернизации в качестве торговых первопроходцев, чтобы впоследствии
быть ущемленными и в конце концов снова изгнанными, как только снова
переставали быть необходимыми для экономической жизни своего временного
прибежища.
В «черте оседлости» это длительное переселение евреев‑ашкенази
с Запада на Восток было приостановлено, а их мучения достигли своей высшей
точки, ибо здесь, на месте встречи западного и русского православного
христианства, евреи были уловлены и оказались между молотом и наковальней. В
тот период, когда они хотели повторить привычное действие, переселяясь далее на
восток, «Святая Русь» преградила им путь. Однако, на счастье ашкенази, ведущие
нации Запада, первыми изгнавшие евреев в Средние века, к этому времени уже
достигли того уровня экономической производительности, при котором перестали
бояться вступать в экономическое соревнование с евреями, – как, например,
англичане ко времени Английской республики, когда евреи вновь были допущены в
страну Кромвелем (правил в 1653‑1658 гг.). Эмансипация евреев на Западе
началась как раз вовремя, чтобы дать ашкенази, жившим в «черте оседлости»,
новый западный выход, когда их прежний дрейф в восточном направлении привел к
глухой стене западной границы «Святой Руси». На протяжении прошлого столетия
волна ашкеназской миграции повернула обратно с Востока на Запад – от «черты
оседлости» в Англию и Соединенные Штаты. После сказанного не следует
удивляться, что ашкенази, которых этот отлив поместил среди нас, проявят так
называемый еврейский этос более ярко, чем их сефардские собратья по вере, чье
положение было более благоприятно.
Менее ярко проявленная «еврейскость», которую мы наблюдаем
среди сефардских иммигрантов из Испании и Португалии, объясняется прошлой
жизнью сефардов в исламском мире. Представители еврейской диаспоры в Персии и в
тех провинциях Римской империи, которые в конце концов отошли к арабам,
оказались в сравнительно удачном положении. Их статус при Арабском халифате
был, без сомнения, не менее благоприятным, чем статус евреев в тех западных
странах, где они к сегодняшнему дню были эмансипированы. Историческим бедствием
для сефардов явился постепенный переход Иберийского полуострова из рук мавров в
руки западных христиан, завершившийся к концу XV столетия. Они были поставлены
своими христианскими завоевателями перед выбором между тремя альтернативами –
уничтожением, изгнанием или обращением в христианскую веру. Давайте взглянем на
современное состояние тех полуостровных сефардов, которые сохранили свои жизни
одним из двух альтернативных путей и чье потомство дожило тем самым до наших
дней. Те, которые предпочли отправиться в изгнание, нашли прибежище среди
врагов католической Испании и Португалии – в Голландии, в Турции или в Тоскане[325]. Тех, кто
отправился в Турцию, османские покровители поощряли селиться в Константинополе,
Салониках и менее крупных городских центрах Румелии, чтобы заполнить вакуум,
оставленный после изгнания или уничтожения предшествующего греческого
городского среднего класса. В этих благоприятных условиях сефардские беженцы
получили в Оттоманской империи возможность специализироваться и процветать в
торговле, не развивая в себе ашкеназского этоса.
Что касается маранов[326], иберийских
евреев, которые четыре или пять веков назад согласились принять христианскую
веру, то их отличительные еврейские черты стерлись до минимума. Есть все
основания полагать, что в жилах иберийских жителей современной Испании и
Португалии существует сильная примесь крови этих еврейских неофитов, особенно
среди высшего и среднего классов. Однако если самому проницательному
психоаналитику предоставить образцы живых испанцев и португальцев из высшего и
среднего классов, то он окажется в затруднении, пытаясь обнаружить тех, у кого
были еврейские предки.
В современную эпоху партия, образовавшаяся среди
эмансипированных евреев Запада, стремилась завершить эмансипацию своей общины,
наделив ее национальным государством современного западного образца. Конечной
целью сионистов является освобождение еврейского народа от специфического
психологического комплекса, вызванного столетиями ущемления. В этой конечной
цели сионисты заодно с конкурирующей школой эмансипированной еврейской мысли.
Сионисты согласны с ассимиляционистами, желая, чтобы евреи перестали быть «особым
народом». Однако они не поддерживают с ними связь из‑за своей оценки
ассимиляционистских предписаний, которые рассматривают как недостаточные.
Идеал ассимиляционистов состоит в том, чтобы евреи в
Голландии, Англии или Америке стали просто голландцами, англичанами или
американцами «иудейского вероисповедания». Они полагают, что нет причины, по
которой еврейскому гражданину в любой просвещенной стране не удалось бы стать
отвечающим требованиям, ассимилированным гражданином этой страны только из‑за
того, что ему случается ходить в синагогу по субботам, а не в церковь по
воскресеньям. На это у сионистов есть два ответа. В первую очередь они
указывают на то, что, даже если ассимиляционистские предписания способны
привести к результату, которого добиваются их сторонники, эти предписания
применимы только к тем просвещенным странам, в которых удачливые еврейские
граждане составляют лишь часть мирового еврейства. Во вторую очередь сионисты
заявляют, что даже при самых благоприятных условиях еврейский вопрос не может
быть решен подобным образом, поскольку быть евреем значит нечто большее, чем
быть лицом «иудейского вероисповедания». В глазах сионистов еврей, пытающийся
превратиться в голландца, англичанина или американца, просто уродует свою
еврейскую личность, не имея каких бы то ни было перспектив приобрести
полноценную личность голландца или представителя иной нееврейской
национальности, которую он выбрал. Если евреям суждено стать «как все другие
нации», то процесс ассимиляции, по мнению сионистов, должен осуществляться на
национальной, а не на индивидуальной основе. Вместо того чтобы тщетно пытаться
уподобить отдельных еврейских индивидов индивидам английским или голландским,
еврейский народ должен уподобиться английскому народу или голландскому,
приобретя (или обретя вновь) национальную родину, где еврей, как англичанин в
Англии, будет хозяином в своем собственном доме.
Хотя сионистскому движению как практическому предприятию
всего полвека, его социальная философия уже приносит свои результаты. В
еврейских сельских поселениях в Палестине дети гетто превратились вне всякого
ожидания в передовое крестьянство, проявляющее множество характерных черт
нееврейского колониального типа. Трагическая неудача эксперимента состоит в
том, что не удается умиротворить жившее здесь прежде арабское население страны.
Остается зафиксировать существование нескольких
малоизвестных групп евреев, которые избежали ущемления в ходе своей истории
благодаря уходу в отдаленную «цитадель», где они проявляют все характерные
черты здоровых крестьян или даже диких горцев. Таковы евреи Йемена в юго‑западной
части Аравии, фалаша в Абиссинии[327], еврейские
горцы Кавказа и тюркоязычные евреи‑крымчаки Крыма.
VIII.
Золотая середина
1. Достаточно и слишком много
Теперь мы достигли той точки, когда можем данную нашу
аргументацию довести до конца. Мы убедились в том, что цивилизации зарождаются
не в необыкновенно легкой, а в необыкновенно трудной для проживания окружающей
среде. Это, в свою очередь, побудило нас задаться вопросом, не имеем ли мы
здесь дело с примером некоего социального закона, который можно выразить в
формуле: «чем сильнее вызов, тем сильнее стимул». Мы сделали обзор ответов,
вызванных пятью типами стимулов – стимулом суровых стран, новой земли, ударов,
давлений и ущемления, и во всех пяти областях результат нашего исследования
подтверждает обоснованность этого закона. Однако мы должны определить, является
ли эта обоснованность абсолютной. Если мы увеличим суровость вызова ad
infinitum[328],
поручимся ли мы тем самым за бесконечное усиление стимула и бесконечный рост в
ответ на удачно принятый вызов? Или мы достигнем той точки, за которой
увеличение суровости [вызова] будет порождать уменьшение результатов? И если мы
пойдем дальше, не достигнем ли мы еще более отдаленной точки, в которой вызов
становится столь суровым, что возможность успешного ответа исчезает? В этом
случае закон формулировался бы следующим образом: «наиболее стимулирующий вызов
находится посредине между отсутствием суровости и ее избытком».
Существует ли такое явление, как чрезмерный вызов? Мы еще не
сталкивались с подобным примером, но есть несколько крайних случаев действия
[закона] вызова‑и‑ответа, о которых мы еще не упоминали. Мы еще не приводили
случая Венеции – города, который был построен на сваях, вбитых в илистые берега
морской лагуны, и превзошел по своему богатству, власти и славе все города,
построенные на terra firma в плодородной долине реки По. Не говорили о
Голландии – стране, которая фактически едва была спасена от моря, но отличилась
в истории гораздо больше любого другого, равного по площади участка земли на
Североевропейской равнине. Не говорили о Швейцарии, обремененной необыкновенной
тяжестью гор. Может показаться, что три самых трудных участка земли в Западной
Европе стимулировали своих жителей к достижению – разными путями – самого
высокого уровня социального развития, которого когда‑либо достигал любой из
народов западно‑христианского мира.
Но существуют и иные соображения. Какими бы крайними по
своей степени ни были эти три вызова, все они ограничивались по области своего
действия только одной из двух сфер, формирующих окружение любого общества. Без
всякого сомнения, это были [природные] вызовы тяжелой земли, а если посмотреть
со стороны человеческой – со стороны ударов, давлений и ущемлений, – то
суровость данной природной ситуации была не вызовом, но, скорее, облегчением.
Она защищала эти страны от всех тех человеческих вызовов, которым подвергались
их соседи. Венеция на своих илистых берегах, отделенная от континента лагунами,
была свободна от чужеземной военной оккупации почти на протяжении тысячи лет (с
810 по 1797 г.[329]). Голландия
также не единожды спасала свои жизненно важные центры путем временного поворота
механизма, обеспечивавшего ее существование, и «открытия дамб». Какой контраст
по сравнению с историями соседней Ломбардии и соседней Фландрии – двух обычных
полей сражения Европы!
Конечно же, достаточно легко привести и примеры тех общин,
которым не удалось ответить на отдельные вызовы. Но это ничего не доказывает,
ибо почти каждый вызов, на который со временем следует победоносный ответ, как
оказывается на поверку, ставит в тупик или подрывает силы одного отвечающего за
другим – вплоть до того момента, когда в сотый или тысячный раз победитель
наконец не отвечает успешно. Такова пресловутая «щедрость природы», множество
примеров которой приходит на ум.
Например, природный вызов североевропейского леса успешно
ставил в тупик примитивного человека. Не имея нужных орудий для вырубки лесных
деревьев, не зная, как извлечь при помощи культивации пользу из лежащей под
ногами богатой почвы, даже если бы ему и удалось очистить ее от деревьев,
примитивный человек Северной Европы просто избегал леса и селился на песчаных
дюнах и меловых холмах, где находят теперь его следы в виде дольменов,
кремневых рудников и тому подобного. Он искал земли, которые его наследники
презирали как «плохие», когда леса уже падали под их топорами. Для примитивного
человека вызов умеренного леса фактически был гораздо страшнее вызова морозной
тундры. А в Северной Америке путь наименьшего сопротивления привел его в конце
концов в полярном направлении за пределы северной границы лесной зоны, чтобы он
обрел свою судьбу в создании эскимосской культуры в ответ на вызов Северного
полярного круга. Однако опыт примитивного человека еще не доказывает, что вызов
североевропейского леса был чрезмерным – в том смысле, что он выходил за
пределы человеческих возможностей ответить на него эффективно. Ибо шедшие по пятам
примитивного человека варвары были способны добиваться определенного эффекта
при помощи орудий и технических приспособлений, приобретенных, возможно, у
цивилизаций, с которыми соприкасались, до той поры, пока в свое время не
«пришли, увидели и победили» первопроходцы западной и русской православной
цивилизаций.
Во II в. до н. э. южный «авангард» североевропейского леса в
долине реки По был покорен римскими первопроходцами, после того как с
незапамятных времен препятствовал предшественникам римлян. Греческий историк
Полибий, посетивший эту страну непосредственно после ее открытия, рисует
поразительный контраст между непроизводительной и бедной жизнью галльских
предшественников Рима, последние остатки которых в то время еще продолжали
вести свое жалкое существование в лесной глуши у подножия Альп, и дешевизной и
обилием, царившими в тех соседних районах, которые взял в свои руки Рим.
Подобная картина часто изображалась в начале XIX столетия, демонстрируя
контраст между нищенской несостоятельностью краснокожих и бурной жизненной
энергией англо‑американских первопроходцев в первозданных лесах Кентукки или
Огайо.
Когда мы обращаемся от природной среды к человеческой, то
обнаруживаем то же самое. Вызов, побеждавший одного отвечающего, как
впоследствии доказывал успешный ответ другого соперника, не был непреодолимым.
Давайте, например, рассмотрим отношения между эллинским
обществом и североевропейскими варварами. Давление здесь было обоюдным, но
ограничимся лишь рассмотрением давления эллинского общества на варваров. По
мере того как эта цивилизация распространялась все дальше и дальше в глубь
континента, один слой варваров за другим оказывался перед вопросом жизни и
смерти. Подчинится ли он воздействию этой могущественной чуждой силы,
подвергнется ли разрушению его социальная структура, став пищей, которая будет
усвоена в ткани эллинского социального организма? Или он будет сопротивляться
ассимиляции и, благодаря своему сопротивлению, вступит в ряды непокорного
внешнего пролетариата эллинского общества, чтобы затем должным образом
предстать у «смертного одра» этого общества и с жадностью поглощать его труп?
Короче говоря, станет ли он падалью или стервятником? Этот вызов
последовательно был брошен кельтам и тевтонам. Кельты в результате долгой
борьбы были сломлены, после чего тевтоны ответили успешно.
Надлом кельтов был впечатляющим, поскольку они начали хорошо
и, кроме того, получили эффектное преимущество. Им была дана благоприятная
возможность благодаря тактической ошибке этрусков. [Этруски], эти хеттские
неофиты культуры своих эллинских конкурентов в открытии Западного
Средиземноморья, не довольствовались охраной своего плацдарма на западном
берегу Италии. Их первопроходцы стремительно продвигались в глубь страны через
Апеннины и рассеивались по всему бассейну реки По. При этом они перенапрягали
свои силы, одновременно стимулируя кельтов к тому, чтобы те их уничтожили.
Результатом был furor Celticus[330],
который продолжался около двух столетий и увлек за собой кельтские лавины не
только через Апеннины на Рим (в Clades Alliensis 390 г. до н. э.), но
также и в Македонию (279‑276 гг. до н. э.), Грецию и восточнее – в Анатолию,
где кельты оставили свой след и свое название как «галаты»[331]. Ганнибал
использовал кельтских завоевателей бассейна реки По в качестве союзников, но
они потерпели неудачу, и furor Celticus стимулировал ответ римского
империализма. На своем западном Lebensraum[332] от Римини до Рейна и Тайн, так же как и на
своих восточных аванпостах на Дунае и Галисе[333], кельты были
разделены на части, поглощены и переварены Римской империей.
Этот распад кельтского слоя европейского варварства обнажил
лежавший под ним тевтонский слой, который подвергся тому же самому вызову.
Какими должны были казаться перспективы тевтонов историку века Августа,
помнившему о полном уничтожении бесплодного furor Teutonicus[334] Марием[335] и видевшему, как Цезарь изгнал из Галлии
тевтонского вождя Ариовиста[336]? Историк бы
предсказал, что тевтоны последуют путем кельтов и, возможно, доставят гораздо
меньше беспокойства в этом процессе. Но он бы ошибся. Римская граница достигла
Эльбы лишь на мгновенье, чтобы незамедлительно отступить к линии Рейн – Дунай и
остаться там. А когда граница между цивилизацией и варварством остается
неподвижной, время всегда работает в пользу варваров. Тевтоны в отличие от
кельтов оказались непроницаемыми для атак эллинской культуры, передавалась ли
она солдатами, торговцами или миссионерами. К V в. христианской эры, когда готы
и вандалы разоряли Пелопоннес, требовали выкупа за Рим и оккупировали Галлию,
Испанию и Африку, было совершенно ясно, что тевтоны добьются успеха там, где не
добились его кельты. Это служит лишним доказательством того, что, в конце
концов, давление эллинской цивилизации было не таким суровым, чтобы на него не
могло последовать успешного ответа.
С другой стороны, вторжение эллинизма в сирийский мир в ходе
похода Александра Великого бросило вызов сирийскому обществу. Смогло ли оно
подняться против вторгшейся цивилизации и изгнать ее или же нет? Столкнувшись с
вызовом, сирийское общество предприняло множество попыток ответить, и у всех
этих попыток была одна общая черта. В каждом из примеров антиэллинская реакция
в качестве средства выражения использовала религиозное движение. Однако
существовало фундаментальное различие между первыми четырьмя проявлениями этой
реакции и последней. Зороастрийская, иудейская, несторианская и монофизитская
реакции закончились неудачей, исламская же реакция была успешной.
Зороастрийская и иудейская реакции явились попытками
побороть власть эллинизма средствами религии, уже распространенной в сирийском
мире до эллинского вторжения. Опираясь на зороастризм, иранцы в восточных
владениях сирийской цивилизации восстали против эллинизма и изгнали его в
течение двух веков после смерти Александра из всей области, расположенной к
востоку от Евфрата. Однако в этой точке зороастрийская реакция достигла своего
предела, и остатки завоеваний Александра были спасены для эллинизма Римом. Не
была успешной и предпринятая иудеями при Маккавеях более смелая попытка
освободить западную родину сирийской цивилизации в пределах Средиземного моря
путем внутреннего восстания. За кратковременный триумф над Селевкидами отплатил
Рим. В великой Римско‑иудейской войне 66‑70 гг. н. э. иудейская община в
Палестине была стерта в мелкий порошок, и мерзость запустения, которую Маккавеи
некогда изгнали из Святая Святых, возвратилась, чтобы остаться до времен
императора Адриана, основавшего на месте Иерусалима римскую колонию Элия
Капитолина.
Что касается несторианской и монофизитской реакций, то они
явились альтернативными попытками обратить против эллинизма оружие, которое вторгшаяся
цивилизация выковала для себя из смеси эллинского и сирийского металлов. В
синкретической религии первоначального христианства сущность сирийского
религиозного духа эллинизировалась до такой степени, что стала конгениальна
эллинской и чужда сирийской душе. Несторианская и монофизитская «ереси» обе
явились попытками деэллинизации христианства и обе потерпели неудачу в качестве
ответов на эллинское вторжение. Несториан‑ство было с позором вытеснено на
восток за Евфрат. Монофизитство удержало позиции в Сирии, Египте и Армении,
завоевав сердца крестьян, которые никогда не подвергались эллинизации. Но оно
никогда не было способно отвлечь от Православия и эллинизма правящее
меньшинство в городских стенах.
Греческий современник императора Ираклия[337], явившийся
свидетелем победы Восточной Римской империи в последнем поединке с персидскими
Сасанидами и победы православно‑христианской иерархии в последнем поединке с
несторианскими и монофизитскими еретиками, обманулся бы около 630 г.
христианской эры, благодаря Бога за то, что Тот сделал земную троицу Рима,
Вселенской церкви и эллинизма непобедимой. Как раз к этому самому моменту
надвигалась пятая сирийская реакция против эллинизма. Самому императору Ираклию
не суждено было ощутить запах смерти, пока он не увидел, как Омар, наследник
пророка Мухаммеда, входит в его царство, чтобы уничтожить – полностью и
навсегда – дело рук всех эллинизаторов сирийских владений, начиная с
Александра. Ибо ислам достиг цели там, где его предшественники потерпели
неудачу. Он завершил изгнание эллинизма из сирийского мира. Он вновь объединил
в Арабском халифате сирийское универсальное государство, чье развитие
безжалостно прервал Александр еще до завершения своей миссии, победив
персидских Ахеменидов. Наконец, ислам даровал сирийскому обществу местную
Вселенскую церковь и тем самым облегчил ему возможность после столетий временно
приостановленной жизни окончательно испустить дух с уверенностью, что оно
теперь не уйдет, не оставив потомков. Ибо исламская церковь стала той куколкой,
из которой впоследствии должны были возникнуть новые арабская и иранская
цивилизации.
Упомянутые выше примеры показывают, что мы еще не нашли
правильного метода решения стоящей перед нами проблемы, для которой надо найти
недвусмысленный пример того случая, когда вызов оказывается чрезмерным. Мы
должны подойти к проблеме на иных основаниях.
2. Сравнение по трем элементам
Новый подход к проблеме
Можем ли мы найти альтернативный метод исследования, который
пообещает нам лучшие результаты? Давайте подвергнем испытанию предварительный
результат нашего исследования с другой стороны. До сих пор мы начинали с
вызова, который побеждал отвечавшего. Давайте теперь начнем с примеров, где
вызов давал эффективный стимул и побуждал к успешному ответу. В различных
параграфах предыдущей главы мы рассматривали множество примеров подобного рода
и сравнивали пример успешного ответа с параллельными случаями, в которых
аналогичная (или сопоставимая) группа отвечала с меньшим успехом на аналогичный
(или сопоставимый) вызов, когда вызов был менее суровым. Давайте теперь
пересмотрим некоторые из этих сравнений между двумя терминами и выясним, не
можем ли мы увеличить число наших терминов до трех.
Давайте поищем в каждом из случаев некоторую третью
историческую ситуацию, где вызов был не менее, а более суровым, чем в ситуации,
с которой мы начали. Если мы достигнем успеха в поиске третьего термина этого
рода, то тогда ситуация, с которой мы начали, – ситуация успешного ответа – станет
средним термином между двумя крайними. В двух этих крайних членах пропорции
суровость вызова соответственно будет меньшей или большей, чем в середине. Что
можно сказать об успешном ответе? В ситуации, где вызов был меньшим, как мы уже
обнаружили, и ответ был меньшим. Но что можно сказать по поводу третьей
ситуации, которую теперь мы представляем впервые? Здесь, где суровость вызова
достигает своей высшей точки, сможем ли мы найти также и наиболее успешный
ответ? Предположим, мы обнаружили, что увеличение суровости вызова выше
среднего уровня не сопровождается увеличением успешности ответа, а наоборот,
ответ ослабевает. Если это окажется так, то мы обнаружим, что взаимодействие
вызова и ответа подчиняется «закону уменьшения отдачи». Мы придем к выводу, что
существует средний уровень суровости, на котором стимул является наивысшим, и
назовем этот уровень оптимумом в противоположность максимуму.
* * *
Норвегия – Исландия – Гренландия
Мы уже обнаружили, что именно в Исландии, а не в Норвегии,
Швеции или Дании, недоразвившаяся скандинавская цивилизация достигла своего
высочайшего триумфа как в литературе, так и в политике. Эти достижения явились
ответом на двойной стимул – стимул заморской миграции и стимул более холодной и
более бесплодной страны, чем та, которую скандинавские мореплаватели оставили
позади себя. Давайте предположим, что тот же самый вызов повторится с удвоенной
суровостью. Допустим, что древние скандинавы проплыли еще пятьсот миль и
поселились в стране настолько же более холодной, чем Исландия, насколько
Исландия была холоднее Норвегии. Породила ли бы эта Туле[338] за пределами Туле скандинавскую общину, вдвое
более выдающуюся в литературе и политике, чем община в Исландии? Вопрос отнюдь
не является гипотетическим, ибо требуемые нами условия на самом деле
осуществились, когда скандинавские мореплаватели достигли Гренландии. И ответ
на данный вопрос не вызывает сомнений. Гренландская колонизация оказалась
неудачной. Гораздо менее чем через полтысячелетия гренландцы постепенно
потерпели поражение в трагической, заранее проигранной битве с природным окружением,
которое было слишком суровым даже для них.
* * *
Дикси – Массачусетс – Мэн
Мы уже производили сравнение природного вызова, брошенного
суровым климатом и каменистой почвой Новой Англии, с менее суровым вызовом,
брошенным Виргинией и Каролиной англо‑американским колонистам, и показали, как
в борьбе за власть над континентом именно жители Новой Англии перегнали своих
соперников. Несомненно, южной границе области оптимального вызова
приблизительно соответствует линия Мэйсон – Диксон. Теперь мы должны задаться
вопросом, есть ли у этой области высочайшего климатического стимула другая
граница, с северной стороны, и поскольку мы смогли сформулировать этот вопрос
словесно, то отдаем себе полный отчет в том, что ответ будет явно
утвердительным.
Северная граница оптимальной климатической области
фактически разделяет Новую Англию на части. Когда мы говорим о Новой Англии и о
той роли, которую она играла в американской истории, мы в действительности
думаем только о трех из пяти небольших штатов – Массачусетсе, Коннектикуте и
Род‑Айленде, но не о Нью‑Хэмпшире и Мэне. Массачусетс всегда являлся одной из
ведущих англоязычных общин Североамериканского континента. В XVIII столетии он
играл ведущую роль в сопротивлении британскому колониальному режиму и, несмотря
на огромный с того времени рост Соединенных Штатов, Массачусетс удержал свои
позиции в интеллектуальной сфере, а до некоторой степени также и в
промышленной, и коммерческой сферах. С другой стороны, Мэн, хотя фактически
являлся частью Массачусетса до своего выделения в самостоятельный штат в 1820
г., всегда играл роль незначительную и сохранился до наших дней как род
музейного экспоната – реликт Новой Англии XVII столетия, населенной лесниками,
лодочниками и охотниками. Теперь эти дети суровой страны восполняют свои
скудные жизненные средства, служа «гидами» для праздной публики, приезжающей из
городов Северной Америки провести свои выходные в этом «аркадском» штате как
раз потому, что Мэн все еще остается таким, каким он был, когда многие из этих
североамериканских городов еще не начали выходить из дикости. Мэн сегодня
одновременно и один из самых давно заселенных регионов Американского союза, и
один из наименее урбанизированных и изощренных.
Как объяснить этот контраст между Мэном и Массачусетсом?
Казалось бы, суровость окружающей среды в Новой Англии, достигающая своего
оптимума в Массачусетсе, в Мэне увеличена до той степени, когда приводит к
«уменьшению отдачи» человеческого ответа. И если мы перенесем наше исследование
далее на север, то эта догадка подтвердится. Нью‑Брансуик, Новая Шотландия и
Принс‑Эдуард Айленд – наименее процветающие и наименее развитые провинции
доминиона Канада. Далее на севере, Ньюфаундленд за последние годы принужден был
прекратить неравную борьбу за самостоятельность и принять в тонко завуалированной
форме колониальное правление короны в обмен на помощь Великобритании. Еще далее
на север, на полуострове Лабрадор мы попадаем в те же условия, с какими
столкнулись древнескандинавские поселенцы в Гренландии, – максимальный вызов,
который, будучи весьма далеким от оптимума, правильнее будет назвать
«пессимумом».[339]
* * *
Бразилия – Ла‑Плата – Патагония
Атлантическое побережье Южной Америки очевидным образом
представляет собой параллельное явление. Например, в Бразилии большая часть
национального богатства, оборудования, населения и энергии сконцентрирована на
небольшом отрезке этой обширной территории, расположенном к югу от параллели
20° южной широты. Более того, Южная Бразилия стоит на более низком уровне
развития цивилизации, чем районы, удаленные к югу и расположенные с другой
стороны эстуария Ла‑Плата, – республика Уругвай и аргентинский штат Буэнос‑Айрес.
Очевидно, что на Южноамериканском побережье Атлантики экваториальный сектор
является не стимулирующим, а, безусловно, расслабляющим. Однако в равной мере
очевидно, что в большей степени стимулирующий умеренный климат эстуария Рио‑де‑Ла‑Платы
является оптимумом. Ибо если мы последуем вдоль побережья далее на юг, то вновь
обнаружим не только несомненное увеличение «давления», но и ослабление ответа,
как только пересечем холодное плато Патагония. Если мы решим двигаться дальше,
то ситуация ухудшится еще больше, ибо мы окажемся среди окоченевших и голодных
дикарей, которые едва выживают среди морозов и снегов Огненной Земли.
* * *
Голлоуэй – Ольстер – Аппалачи
Давайте следующим рассмотрим пример, в котором вызов
является не исключительно природным, а отчасти природным, отчасти человеческим.
В настоящее время существует известный контраст между Ольстером
и всей остальной Ирландией. В то время как Южная Ирландия является скорее
старомодной сельскохозяйственной страной, Ольстер – одна из деятельнейших
мастерских западного мира. Белфаст стоит на одном уровне с Глазго, Ньюкаслом,
Гамбургом и Детройтом, а современный ольстерец имеет устойчивую репутацию
настолько же квалифицированного, насколько и неуступчивого человека.
В ответ на какой вызов ольстерец стал тем, кем является
сейчас? Он отвечал на двойной вызов заморской миграции из Шотландии и – после
прибытия в Ирландию – на вызов борьбы с местными ирландскими жителями, которые
владели этой землей и которых он начал вытеснять. Это двойное испытание имело
стимулирующее воздействие, которое можно измерить лишь сравнив силу и богатство
нынешнего Ольстера с относительно скромными условиями, существующими в тех
районах на шотландской стороне границы между Англией и Шотландией и вдоль
Лоулендской окраины «линии Хайленда», откуда пополнялись ряды первоначальных
шотландских поселенцев в Ольстере в начале XVII столетия[340].
Однако современные ольстерцы – не единственные сохранившиеся
заморские представители этого семейства. Шотландские первопроходцы,
переселившиеся в Ольстер, породили еще «шотландско‑ирландских» потомков,
которые, в свою очередь, переселились в XVIII в. из Ольстера в Северную Америку
и продолжают существовать до наших дней в цитаделях Аппалачских гор –
высокогорной зоны, простирающейся на полудюжину штатов Американского союза от
Пенсильвании до Джорджии. Каков был эффект этой второй пересадки? В XVII в.
подданные короля Якова пересекли пролив святого Георга и начали борьбу с дикими
ирландцами вместо прежней борьбы с дикими шотландскими горцами. В XVIII в. их
праправнуки пересекли Атлантику, чтобы стать «истребителями индейцев» в
американской лесной глуши. Очевидно, этот американский вызов был гораздо
сильнее ирландского в обоих его аспектах – природном и человеческом. Привело ли
усиление вызова к усилению ответа? Если мы сравним ольстерца с сегодняшним
жителем Аппалачей через два столетия после того, как они прервали связь между
собой, то обнаружим, что ответ снова будет отрицательным. Современный житель
Аппалачей не только не стал совершеннее ольстерца. Ему не удалось удержать свои
позиции, и он скатился вниз самым жалким образом. Фактически аппалачские «горные
люди» сегодня ничем не лучше варваров. Они впали в безграмотность и увлечение
колдовством. Они страдают от нужды, грязи и болезней. Они являются
американскими двойниками современных белых варваров Старого Света – рифов[341], албанцев,
курдов, патанов[342] и волосатых айнов. Однако если эти последние –
лишь поздние остатки древнего варварства, то жители Аппалачей являют собой
печальное зрелище народа, который некогда достиг цивилизации, а затем ее
утратил.
* * *
Реакции на разрушительное действие войны
В случае Ольстера и Аппалачей вызов был и природным, и человеческим,
но действие «закона уменьшения отдачи» кажется вполне очевидным и в других
случаях, когда вызов присутствует исключительно в человеческой сфере.
Рассмотрим, например, последствия вызова, брошенного опустошительным действием
войны. Мы уже отметили два случая, в которых суровые вызовы подобного рода
получали победоносные ответы: Афины ответили на персидское вторжение, став
«школой Эллады», а Пруссия ответила на наполеоновское вторжение, став
бисмарковской Германией. Можем ли мы найти вызов подобного рода, оказавшийся
чрезмерно суровым, опустошением, оставившим раны, которые [долгое время]
гноились и в конечном счете оказались смертельными? Да, можем.
Опустошение Италии Ганнибалом, подобно другим, менее
жестоким испытаниям, не исключало того, чтобы обернуться благодеянием [для
римлян]. Опустошенные пахотные земли Южной Италии частично превратились в
пастбища, частично – в виноградники и оливковые рощи, а новая аграрная
экономика – как земледелие, так и скотоводство – стала обслуживаться рабским трудом
вместо свободного крестьянства, некогда возделывавшего почву, еще до того, как
солдаты Ганнибала сожгли крестьянские хижины, а сорняки и колючки заполонили
разоренные поля. Этот революционный переход от натурального хозяйства к
товарному и от землепашества к применению рабской рабочей силы, несомненно, на
время увеличил денежную стоимость сельскохозяйственной продукции. Однако его с
лихвой возместило то социальное зло, которое он повлек за собой, – уменьшение
численности населения в сельской местности и скопление в городах нищего
пролетариата из бывших крестьян. Попытка задержать это зло при помощи
законодательства, предпринятая Гракхами[343] в третьем поколении после эвакуации Ганнибала
из Италии, лишь обострила смуту в Римской республике, ускорив политическую
революцию и не остановив революцию экономическую. Политическая борьба вылилась
в гражданскую войну, и через сто лет после трибуната Тиберия Гракха римляне
согласились на установление постоянной диктатуры Августа в качестве
сильнодействующего лекарства в отчаянном положении дел. Таким образом,
опустошение Италии Ганнибалом (весьма далекое от того, чтобы стимулировать
римский народ, как некогда разорение Аттики Ксерксом стимулировало афинян)
фактически нанесло римлянам удар, от которого они так никогда и не оправились.
Кара опустошения, будучи нанесенной персидской силой, оказала стимулирующее
воздействие, и явилась смертельной, когда была нанесена силой пунической.
* * *
Китайская реакция на вызов эмиграции
Мы уже сравнили воздействие различных уровней природного
вызова на разные группы британских эмигрантов. Давайте рассмотрим теперь
реакцию китайских эмигрантов на различные уровни вызова человеческого. Когда
китайский кули[344] эмигрирует в Британскую Малайю или в
Голландскую Ост‑Индию, он, вероятно, будет вознагражден за свою
предприимчивость. Оказавшись вне своего привычного дома в чуждом социальном
окружении, он меняет экономическую среду, в которой пребывал в расслабленном
состоянии по причине вековых социальных традиций, на ту, которая дает ему
стимул к улучшению своего положения, и нередко делает себе состояние. Однако
предположим, что мы усиливаем социальное испытание, которое является ценой
экономической возможности. Предположим, что вместо того, чтобы посылать его в
Малайю или Индонезию, мы пошлем его в Австралию или Калифорнию. В этих «странах
белых людей» наш предприимчивый кули (если он вообще получит туда доступ)
подвергнется испытанию гораздо большей суровости. Вместо того чтобы просто
чувствовать себя иностранцем в чужой стране, ему придется выносить
преднамеренное ущемление, в котором сам закон будет его дискриминировать, а не
приходить на помощь, как в Малайе, где благожелательной колониальной администрацией
назначается официальный «протектор китайцев». Приведет ли этот более суровый
вызов к пропорциональному ему по силе экономическому ответу? Нет, как мы можем
увидеть, сравнив уровень благосостояния, достигнутый китайцами в Малайе и
Индонезии, с уровнем, достигнутым иммигрантами столь же одаренной расы в
Австралии и Калифорнии.
* * *
Славяне – Ахейцы – Тевтоны – Кельты
Теперь давайте рассмотрим вызов, который бросает варварству
цивилизация, [то есть] вызов, каким в последовательно сменявшие друг друга
периоды времени для следовавших друг за другом слоев варваров явилось в Европе
излучение, исходившее от различных цивилизаций во внутренние области этого
некогда темного континента.
Когда мы изучаем эту драму, наше внимание привлекает один
пример, в котором за вызовом следует необыкновенно блестящий ответ. Эллинская
цивилизация, возможно, прекраснейший из когда‑либо распускавшихся цветов этого
рода, была порождена европейскими варварами в ответ на вызов со стороны
минойской цивилизации. Когда морская минойская цивилизация утвердилась на
Греческом полуострове, ахейские варвары, жившие в глубь от прибрежной полосы,
не были ни истреблены, ни подчинены, ни ассимилированы. Вместо всего этого они
сумели сохранить свою индивидуальность в качестве внешнего пролетариата
минойской талассократии, наверняка научившись искусствам у той цивилизации,
которую держали в страхе. Должным образом они привыкли к морю, превзошли
талассократов в их собственной стихии и стали впоследствии отцами эллинской
цивилизации. Ахейская претензия на отцовство по отношению к эллинской
цивилизации доказывается, как мы уже видели, с помощью религиозной проверки,
ибо боги олимпийского пантеона явно демонстрируют в своих чертах происхождение
от ахейского варварства, тогда как те следы в эллинской церкви, которые
происходят из минойского мира, можно найти единственно в «приделах» и «криптах»
храма эллинской религии – в некоторых местных культах, тайных мистериях и
эзотерических вероучениях.
О мере стимула в данном случае говорит блеск эллинизма.
Однако мы можем измерить этот стимул и иным образом, сравнив судьбу ахейского
слоя варваров с судьбой другого слоя, который оказался настолько удаленным и
скрытым, что фактически остался невосприимчивым к излучению любой цивилизации,
существовавшей в течение двух тысячелетий после того, как ахейцы получили
минойский вызов и дали на него блестящий ответ. Следующим варварским слоем были
славяне, укрывшиеся в Припятских болотах, когда эти остатки [Европейского]
континента отдал человеку отступающий ледяной покров. Здесь они продолжали жить
примитивной жизнью европейских варваров век за веком, а когда тевтонское
Völkerwanderung положило конец долгой эллинской драме, начатой ахейским
Völkerwanderung, славяне оставались еще там.
В этот последний час европейского варварства славяне были,
наконец, вырваны из своей цитадели аварскими кочевниками, соблазнившимися на
скитания за пределами своей родной Евразийской степи, чтобы поучаствовать в
тевтонской игре по разграблению и разрушению Римской империи. В чуждом
окружении земледельческого мира эти потерянные дети степи стремились
приспособить свой прежний образ жизни к новым обстоятельствам. В степи авары
добывали себе средства к существованию, пася скот. На обработанных землях, куда
они вторглись, эти скотоводы обнаружили, что подходящим домашним скотом в
местных условиях будут крестьяне, и поэтому они начали, вполне осознанно,
превращаться в пастухов человеческих существ. Так же как раньше они совершали
набеги на стада своих соседей‑кочевников, чтобы снабдить скотом недавно
завоеванные пастбища, теперь они рыскали вокруг в поисках человеческого стада,
чтобы пополнить запасы обезлюдевших провинций Римской империи, которая попала в
их руки. Они нашли тех, кого искали, в славянах, которых собрали в стадо и
разместили широким кольцом вокруг Венгерской равнины, где расположили свой
лагерь. Это, по всей видимости, был процесс, в ходе которого западный авангард
славянского воинства – предки нынешних чехов, словаков и югославов – сыграл
свой запоздалый и унизительный дебют в истории.
Этот контраст между ахейцами и славянами показывает, что для
примитивного общества полная свобода от вызова столкновений с цивилизациями
является весьма серьезным препятствием. Он показывает, по сути, что подобный
вызов имеет стимулирующее воздействие, когда его суровость достигает
определенного уровня. Но предположим, что мы усиливаем вызов. Предположим, что
мы увеличиваем силу той энергии, которую излучала минойская цивилизация, до
крайней степени. Вызовем ли мы тем самым ответ, еще более блистательный, чем
ответ ахейских отцов эллинизма, или снова начнет действовать «закон уменьшения
отдачи»? На этот счет нам не приходится рассуждать в пустоте, поскольку между
ахейцами и славянами лежало несколько других слоев варваров, в разной степени
подвергшихся воздействию излучения различных цивилизаций. Что стало с ними?
Один пример, в котором европейские варвары стали жертвой
излучения разрушительной силы, нам уже известен. Мы видели, как кельты были в
конечном счете или истреблены, или подчинены, или ассимилированы после
мгновенной вспышки энергии в ответ на стимул, который они получили через
посредство этрусков. Мы сопоставили конечную неудачу кельтов в противостоянии
эллинскому воздействию с относительным успехом тевтонов. Мы заметили, что
тевтонский слой европейского варварства, в отличие от кельтского, сопротивлялся
разрушительному воздействию эллинизма настолько эффективно, что тевтоны были
способны занять место внешнего пролетариата эллинского мира и нанести
эллинскому обществу во время его смертельной агонии coup de grace. По
сравнению с кельтским debacle (разгромом), эта тевтонская реакция была
успешной. Однако если мы сравним тевтонские достижения с ахейскими, то
вспомним, что тевтоны одержали не что иное, как пиррову победу. Они пришли к
смертному одру эллинского общества лишь за тем, чтобы самим немедленно получить
смертельный удар от соперников – пролетарских наследников умершего общества.
Победителем в этом сражении оказался не тевтонский вооруженный отряд, а Римско‑Католическая
церковь, в которой воплотился внутренний пролетариат эллинского общества. К
концу VII в. христианской эры каждый из тех арианских или языческих тевтонских
вооруженных отрядов, рискнувших посягнуть на римскую землю, был или обращен в
католичество, или уничтожен. Новая цивилизация, дочерняя эллинской, была
связана со своей предшественницей через внутренний, а не через внешний
пролетариат. Западно‑христианский мир был, в сущности, творением Католической
церкви – в противоположность эллинизму, который явился творением ахейских
варваров.
Давайте теперь выстроим имеющийся у нас ряд вызовов в
порядке увеличивающейся суровости. Славяне долгое время были всецело свободны
от вызова и явно страдали от отсутствия стимула. Ахейцы (судя по их ответу)
получили то, что можно рассматривать как оптимальный вызов. Тевтоны выстояли
перед вызовом эллинской цивилизации, но впоследствии потерпели поражение от
вызова католицизма. Кельты, которые столкнулись с эллинским обществом в период
его расцвета (в отличие от тевтонов, столкнувшихся с ним в период его упадка),
потерпели от него сокрушительное поражение. Славяне и кельты знали по опыту две
крайности: с одной стороны, безжизненную невосприимчивость, а с другой –
сокрушительную «бомбардировку». Ахейцы и тевтоны занимают «средние» позиции в
нашем сравнении, которое в данном случае состоит из четырех, а не из трех
элементов. Но серединой, в смысле оптимального опыта, был опыт ахейцев.
3. Две недоразвившиеся цивилизации
«Арьергард» тевтонского Völkerwanderung
Можно ли определить более точно ту точку, в которой начинает
действовать закон уменьшения отдачи в ряду вызовов между излучающими
цивилизациями и европейскими варварами? Да, можно, поскольку есть два примера,
которые мы еще не принимали в расчет. Это конфликт между Римской церковью (как
родительницей западного общества) и недоразвившимся дальнезападным
христианством «кельтской окраины» и конфликт между западным обществом на его
ранних стадиях и дальнесеверным, или скандинавским, обществом викингов. В обоих
этих конфликтах противником выступал варварский «арьергард», который всегда
находился за пределами римского владычества и оставался в резерве в то время,
когда тевтонский авангард вонзал свой меч в умирающее тело эллинского общества
– чтобы уничтожить и, как оказалось, быть уничтоженным. Более того, оба эти
арьергарда добились той степени успеха, которая, пусть и не достигнув ахейского
уровня, намного превзошла успех тевтонов, следовавших за ахейцами в
четырехэлементном сравнении, как мы установили на данный момент. Ахейцы сумели
создать великую цивилизацию, занявшую место минойской, на которую они напали.
Тевтонский авангард наслаждался мимолетным весельем в конгениальной оргии
разрушения, но ничего (или почти ничего) не достиг в плане позитивных
ценностей. С другой стороны, и дальнезападные христиане, и дальнесеверные
викинги явились нарождающимися цивилизациями, но в каждом из случаев зародыш
подвергся вызову, который оказался чрезмерно сильным. Мы уже не раз косвенно
упоминали о существовании недоразвившихся цивилизаций, не включенных в наш
первоначальный список, поскольку сущность цивилизации можно обнаружить в ее
зрелых достижениях, а эти [цивилизации] стали жертвами «детской смертности».
Ход нашей аргументации предоставляет нам теперь возможность рассмотреть две из
них[345].
* * *
Недоразвившаяся дальнезападная христианская
цивилизация
Кельтская окраина отреагировала на христианство совершенно
по‑своему. В отличие от обращенных в арианство готов и обращенных в
католичество англосаксов, кельты не приняли чуждую религию в готовом виде.
Вместо того чтобы позволить ей разрушить свои местные традиции, они отлили ее в
форму, соответствовавшую своему собственному варварскому социальному наследию.
«Ни одна другая раса, – говорит Ренан, – не показала столько оригинальности в
своем пути принятия христианства». Пожалуй, мы можем отличить эту особенность
уже в реакции христианизированных кельтов Британии во времена римского
владычества. Мы знаем о них весьма немного, но нам известно, что они породили в
лице Пелагия[346] ересиарха, который в свое время произвел в
христианском мире сенсацию. Однако гораздо важнее пелагианства, в конце концов,
оказалась деятельность земляка и современника Пелагия – св. Патрика[347], который
принес христианство через границу римского мира в Ирландию.
Английское заморское Völkerwanderung (англо‑саксонское
завоевание Британии), которое нанесло британским кельтам сокрушительный удар,
оказалось удачей для кельтов ирландских. Его результатом явилась изоляция
Ирландии (в период, непосредственно последовавший за рассеиванием там семян
христианства) от тех бывших римских провинций в Западной Европе, где
развивалась новая христианская цивилизация, ориентированная на Рим. Именно эта
изоляция на наиболее созидательной стадии своего раннего развития дала
возможность зародышу особого, самостоятельного «дальнезападного христианского
общества» с центром в Ирландии появиться одновременно с возникновением
нарождающегося континентального западного христианства. Оригинальность этого
дальнезападного христианства обнаруживает себя в равной мере как в церковной
организации, ритуале и агиографии, так и в литературе и искусстве.
В течение ста лет после миссии св. Патрика (которая может
быть датирована 432‑461 гг.), и Ирландская церковь не только развила свои отличительные
черты, но и во многих отношениях опередила континентальный католицизм. Это
доказывается тем сердечным приемом, который по окончании периода изоляции
получали ирландские миссионеры в Британии и на континенте, и тем рвением, с
которым британские и континентальные студенты стремились попасть в ирландские
школы. Период ирландского культурного превосходства простирается от даты
основания монастырского университета в Клонмакнуазе[348] в Ирландии в 548 г. до основания ирландского
монастыря св. Иакова в Рэтисбоне[349] в 1090 г. Но эта передача культуры была не
единственным социальным последствием возобновления контактов между островным и
континентальным христианством. Другим последствием явилось состязание за
власть. Предмет спора состоял в следующем: будет ли будущая цивилизация
Западной Европы происходить от ирландского или от римского зародыша. В этом
споре ирландцы были побеждены задолго до того, как утратили свое культурное
влияние.
Борьба обострилась в VII в. из‑за соревнования между
учениками св. Августина Кентерберийского и св. Колумбы Ионского по обращению в
христианство англов Нортумбрии – драматическое столкновение их представителей
на соборе в Уитби (664 г.) и решение короля Нортумбрии в пользу св. Уилфрида[350], поборника
Рима. Римская победа была окончательно решена почти незамедлительно после того,
как Теодор Тарсийский[351] прибыл с континента в качестве архиепископа
Кентерберийского, чтобы организовать церковь в Англии по римской диоцезной системе
с архиепископскими престолами в Кентербери и Йорке. В ходе следующей половины
столетия все общины кельтской окраины – пикты, ирландцы, валлийцы, бретонцы и,
наконец, сам [остров] Иона – приняли римскую тонзуру и римское летоисчисление
Пасхи, которые явились формальным предметом разногласий на диспуте в Уитби. Но
существовали и другие различия, которые не исчезли полностью вплоть до XII
столетия.
Начиная со времени собора в Уитби, дальнезападная
цивилизация была изолирована и обречена. Она жестоко пострадала от набегов
викингов на Ирландию в IX в. христианской эры, когда ни один ирландский
монастырь не избежал разграбления. Насколько известно, в IX в. в Ирландии не
было написано ни одного произведения на латыни, хотя в это же самое время
ученость ирландских эмигрантов на континенте находилась в самом зените.
Скандинавский вызов, который в буквальном смысле слова создал Англию и Францию
(поскольку стимулировал достижение английским и французским народами
оптимального уровня), встал перед Ирландией в ее возобновившейся изоляции с
такой чрезмерной суровостью, что она могла одержать лишь пиррову победу –
разгром захватчиков Брайеном Борью при Клонтарфе[352].
Окончательным ударом явилось начало англо‑норманнского завоевания Ирландии
королем из Анжуйской династии Генрихом II[353] с папского благословения в середине XII в.
Вместо основания своей собственной, новой цивилизации, уделом духовных
первопроходцев кельтской окраины стала контрибуция, наложенная на них теми
самыми соперниками, которые украли у них принадлежавшее им от рождения право на
независимое творчество. Ирландская ученость волей‑неволей содействовала
прогрессу континентальной западной цивилизации, когда ирландские ученые,
бежавшие с родины от скандинавских нападений, поступали на службу Каролингского
возрождения, величайшей фигурой которого, несомненно, являлся ирландский
эллинист, философ и богослов Иоанн Скот Эриугена[354].
* * *
Недоразвившаяся скандинавская цивилизация
Как выяснится в будущем, в соперничестве между Римом и
Ирландией за честь создателя новой западной цивилизации, Рим едва сумеет
достичь господства. И в то время как рождающееся западное христианство
находилось еще в младенчестве, ему пришлось после кратковременной передышки
принять участие во втором состязании за тот же самый приз – на этот раз в
конфликте с тевтонским арьергардом североевропейских варваров, которые
оставались в резерве в Скандинавии. На этот раз обстоятельства были более труднопреодолимыми.
Испытание должно было пройти как в военном, так и в культурном плане. Две
состязающиеся партии были в несколько раз сильнее, а также отчужденнее друг от
друга, чем двумя веками ранее соперничавшие между собой ирландский и римский
зародыши будущего западного христианства.
Истории скандинавов и ирландцев до начала их соперничества с
западным христианством развивались до такой степени параллельно, что и в одной,
и в другой был период изоляции от своего будущего противника. Ирландские
христиане оказались в изоляции по причине вторжения англо‑саксонских язычников
в Англию. Скандинавы были изолированы от римского христианства до конца VI
столетия христианской эры по той причине, что между ними находились славяне,
кочевавшие вдоль южного побережья Балтики от линии Немана до линии Эльбы, в
вакууме, оставленном после эмиграции тевтонских варваров, которые
эвакуировались из этого региона и были вовлечены в постэллинское
Völkerwanderung, пока скандинавы оставались на родине. Таким образом, ирландцы
оказались в изоляции от своих собратьев‑христиан, а скандинавы – от своих
собратьев‑тевтонов по причине того, что между ними были вбиты клинья
находившимися в более диком состоянии интервентами. Однако существовало и
фундаментальное различие. Если предшествующее излучение Римской империи еще до
англо‑саксонского вторжения зажгло среди ирландцев искру христианства, которая
вспыхнула в пламя во время периода изоляции, то скандинавы все еще оставались
язычниками.
Скандинавское Völkerwanderung, подобно другим Völkerwanderungen,
явилось реакцией варварского общества на воздействие цивилизации, в данном
случае воплотившейся в империи Карла Великого. Эта империя потерпела фиаско по
причине своей претенциозности и преждевременности. Она являла собой
претенциозную политическую сверхструктуру, безрассудно нагроможденную на
недоразвитом социально‑экономическом фундаменте, и главным примером ее
ненадежности стал tour de force завоевания Карлом Великим Саксонии.
Когда в 772 г. Карл Великий вознамерился привести Саксонию в загон римского
христианства при помощи вооруженного завоевания, он сделал гибельное упущение в
области политики мирного проникновения, которая проводилась ирландскими и
английскими миссионерами в течение прошлого столетия и эффективно расширила
границы христианского мира за счет обращения баваров, тюрингов, гессенцев и
фризов. Испытание тридцатилетней франко‑саксонской войной[355] перенапрягло слабые ткани нарождающегося
западного общества и пробудило в душах скандинавов тот же самый furor
barbaricus[356],
который пробудился в душах кельтов, когда стремительная экспансия этрусков
дошла до подножия Альп.
Скандинавская экспансия в VIII–XI вв. после Рождества
Христова как по своему распространению, так и по своей силе превзошла кельтскую
экспансию V–III вв. до Рождества Христова. Неудавшийся охват эллинского мира
кельтами, достигшими своим правым флангом сердца Испании, а левым – сердца
Малой Азии, казался меньшим по сравнению с действиями викингов, которые
угрожали как православному, так и западному христианству, простирая свой левый
фланг в Россию[357], а правый – в
Северную Америку[358]. К тому же,
когда викинги попытались проложить себе дорогу вдоль Темзы, Сены и Босфора мимо
Лондона, Парижа и Константинополя, две христианские цивилизации оказались в
большей опасности, чем эллинская цивилизация в период кратковременного
господства кельтов над Римом и Македонией. Недоразвившаяся скандинавская
цивилизация, начавшая развертываться в Исландии еще до того, как ее холодная
красота растаяла под теплым дыханием христианства, и по своим достижениям, и по
своим перспективам далеко превосходила рудиментарную кельтскую культуру,
остатки которой были открыты современными археологами[359].[360]
В самой природе проводимого в данном исследовании метода
заключается то, что одни и те же события рассматриваются в различных
контекстах. Мы уже описывали вызов, брошенный скандинавскими вторжениями
народам Англии и Франции, и показали, что народы этих стран ответили на данный
вызов победоносно, не только обретя свое единство, но и обратив в христианство
скандинавских поселенцев, и включив их в собственную цивилизацию (см. с. 208).
И подобно тому, как после гибели кельтской христианской культуры ее сыны
вносили вклад в обогащение римского христианства, норманны стали передовым
отрядом латинской агрессии два века спустя. В самом деле, историк описал Первый
крестовый поход при помощи живого оксюморона как экспедицию «христианских
викингов». Мы также описывали значение Исландии в жизни недоразвившейся
скандинавской цивилизации и размышляли по поводу тех необыкновенных
результатов, которые могли бы последовать, если бы скандинавские язычники
сравнялись в своих достижениях с ахейцами и, загнав христианство в подполье,
утвердили бы по всей Западной Европе свою языческую культуру в качестве
единственной преемницы эллинской цивилизации в этом регионе. [Теперь] мы должны
взглянуть на завоевание и угасание скандинавской цивилизации на ее собственной
родине.
Это завоевание произошло благодаря обращению к тактике, от
которой отказывался Карл Великий. Самозащита западного христианства проводилась
по необходимости на военных основаниях, но как только воинствующая западная
оборона остановила воинствующее скандинавское наступление, жители Запада продолжили
тактику мирного проникновения. После обращения в христианство скандинавских
поселенцев в западно‑христианских землях и тем самым их отвлечения от
первоначальных верований, западные христиане применили ту же тактику и по
отношению к скандинавам, оставшимся на родине. И в этот момент одна из
выдающихся добродетелей скандинавов способствовала их гибели – их удивительная
восприимчивость: характерная черта, отмеченная западно‑христианским ученым того
времени и выраженная им в паре довольно дурных гекзаметров: «Они перенимают
обычаи и язык тех, кто соответствует их нормам, до такой степени, что в
результате образуют с ними единое племя»[361].
Любопытно, например, обнаружить, что скандинавские правители
еще даже до своего обращения в христианство сделали из Карла Великого героя и
имели склонность называть своих сыновей Карлусами или Магнусами[362]. Если бы в
том же самом поколении Мухаммед и Омар стали любимыми христианскими именами
среди правителей западно‑христианского мира, то мы бы, несомненно, заключили,
что эта новая мода не предвещает ничего хорошего для будущей борьбы западного
христианства с исламом.
В скандинавских королевствах Руси[363], Дании и
Норвегии формальный внешний акт обращения в христианство был навязан всему
народу деспотическим указом трех скандинавских князей, которые правили
одновременно приблизительно в конце X столетия[364]. В Норвегии
поначалу существовало сильное сопротивление, однако в Дании и на Руси перемена
была воспринята с очевидной покорностью. Таким образом, скандинавское общество
было не только завоевано, но и разделено, поскольку православное христианство,
пострадавшее от нападения викингов, участвовало также и в том религиозном и
культурном контрнаступлении, которое последовало за нападением.
«Русские послы и торговцы сравнивали грубое поклонение
идолам с изящными суевериями Константинополя. Они с удивлением смотрели на
Софийский собор, на блестящие изображения святых и мучеников, на богатства
алтаря, на многочисленных священников и на их великолепные облачения, на
пышность и стройность церковных церемоний; их поражали переходы от
благочестивого молчания к благозвучному пению, и их нетрудно было уверить, что
хор из ангелов ежедневно спускался с неба, чтоб принимать участие в молитвах
христиан»{60}.
Обращение в христианство самой Исландии последовало почти
незамедлительно – в 1000 г.[365], и это стало
началом конца исландской культуры. Верно, что последующие исландские ученые,
записавшие саги, собравшие эддические поэмы и составившие классические
компендиумы по скандинавской мифологии, генеалогии и законодательству, все были
обладателями как христианского, так и северного культурного наследия. Они
выполнили свою работу приблизительно через 150‑250 лет после обращения в
христианство. Однако эта обращенная в прошлое ученость явилась последним
подвигом исландского гения. Мы можем противопоставить ей в эллинской истории
гомеровские поэмы. Они также явились произведением «обращенной в прошлое
учености», которая не придавала им литературную форму до тех пор, пока не
закончился вдохновлявший их героический век. Но эллинский гений, достигнув
эпики, пошел дальше, к дальнейшим достижениям равной величины в иных сферах
деятельности, тогда как развитие исландского [гения] иссякло по достижении им
своего «гомеровского» пика около 1150‑1250 гг.
4. Воздействие ислама на христианский мир
Чтобы завершить эту часть нашего исследования, давайте
посмотрим, не будет ли воздействие ислама на христианский мир представлять
собой еще одно похожее «сравнение по трем элементам», с которым читатель к
этому времени уже познакомился. Мы уже упоминали в другой связи о вызове
ислама, породившем оптимальный ответ. Вызов, брошенный франкам в VIII в.
христианской эры, пробудил продолжавшееся в течение нескольких столетий
контрнаступление, которое не только вытеснило сторонников ислама с Иберийского
полуострова, но, выйдя за пределы первоначально поставленной цели, привело
испанцев и португальцев через море на все мировые континенты. В этом случае мы
также можем отметить явление, которое уже наблюдали, рассматривая поражение
дальнезападной и скандинавской цивилизаций. Перед тем как вырвать с корнем и
уничтожить иберийскую мусульманскую культуру, победоносный противник
использовал ее с выгодой для себя. Ученые мусульманской Испании неумышленно
внесли свой вклад в философское здание, возводимое средневековыми западно‑христианскими
схоластами, и некоторые из трудов эллинского философа Аристотеля впервые дошли
до западно‑христианского мира именно в арабских переводах. Истиной является
также и то, что многие «восточные» влияния на западную культуру, приписываемые
проникновению через государства крестоносцев в Сирии, на самом деле пришли из
мусульманской Иберии.
Мусульманское нападение на западно‑христианский мир через
Иберию и Пиренеи в действительности было не таким страшным, как кажется, по
причине большой растянутости путей сообщения между этим фронтом и источником
исламской энергии в Юго‑Западной Азии, и нетрудно найти ту часть света, где
пути сообщения были короче и мусульманское нападение оказалось впоследствии
действительно сильным. Этим регионом была Анатолия, к тому времени – цитадель
православно‑христианской цивилизации. В первой фазе своего нападения арабские
агрессоры попытались вывести из игры «Rum» (как они называли эту цивилизацию,
то есть «Рим») и полностью сокрушить православное христианство, ударив справа
через Анатолию в саму столицу Империи. Константинополь безуспешно осаждался
мусульманами в 673‑677 гг., а затем в 717‑718 гг. Даже после провала второй
осады, когда граница между двумя державами установилась вдоль линии Таврских
гор, то, что осталось от анатолийских владений православного христианства,
регулярно, дважды в год, подвергалось набегам мусульман.
Православные христиане ответили на это давление политической
уловкой, и их ответ, на первый взгляд, оказался успешным, так как помог не
подпустить арабов. С другой стороны, при более внимательном рассмотрении
выяснилось, что ответ был неудачным ввиду его пагубного воздействия на духовную
жизнь и рост православно‑христианского общества. Этой политической уловкой
явилась эвокация «призрака» Римской империи в православно‑христианском мире
Львом Исавром примерно за два поколения до того, как идентичная попытка была
безуспешно (и, следовательно, более или менее безобидно) предпринята Карлом
Великим на Западе. Наиболее гибельными последствиями поступка Льва Исавра были
возвышение Византийского государства в ущерб Православной церкви и последующая
междоусобная столетняя война между Восточной Римской империей и Патриархатом, с
одной стороны, и Патриархатом и Болгарским царством – с другой[366]. Эта
нанесенная самому себе рана привела православно‑христианское общество к смерти
в его первоначальной форме на его первоначальной родине. Данных фактов
достаточно для демонстрации того, что вызов, брошенный исламским воздействием
на православное христианство, в отличие от вызова, брошенного западному христианству,
оказался чрезмерным.
Можем ли мы найти случай, когда исламскому удару не удалось
оказать стимулирующего воздействия по причине его недостаточной суровости?
Можем. Результаты этого можно наблюдать и по сей день в Абиссинии[367]. Община
христиан‑монофизитов, сохранившаяся в этой африканской цитадели, стала одним из
социальных курьезов в мире. Во‑первых, вследствие своего абсолютного выживания
в условиях почти полной изоляции от других христианских общин с тех пор, как
мусульманские арабы завоевали Египет тринадцать веков назад. А во‑вторых –
вследствие своего крайне низкого культурного уровня. Хотя христианская
Абиссиния и была принята после некоторых колебаний в Лигу наций, она осталась
символом беспорядка и варварства – беспорядка феодально‑племенной анархии и
варварства работорговли. Фактически зрелище, которое представляет эта одна
африканская страна (не считая Либерии, сохранившей свою полную независимость),
возможно, послужит наилучшим оправданием, которое только можно найти для
раздела остальных частей Африки между европейскими державами.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что характерные
особенности Абиссинии – сохранение ею независимости и застой в ее культуре –
происходят от одной причины: фактической неприступности той высокогорной
цитадели, в которой это «ископаемое» укрывается. Волна ислама и более мощная
волна современной западной цивилизации омыли лишь подножие эскарпа и немедленно
разбили об него свои гребни волн, даже на время не затопив вершины.
Случаев, когда эти враждебные волны обрушивались на
высокогорье, было немного, и все они кратковременно Абиссиния оказалась перед
угрозой мусульманского завоевания в первой половине XVI столетия, когда
мусульманские обитатели низменностей на побережье Красного моря опередили
абиссинцев в приобретении огнестрельного оружия. Но новомодное вооружение,
которое сомалийцы приобрели у османов, пришло к абиссинцам от португальцев как
раз вовремя, чтобы спасти их от уничтожения. Впоследствии, когда португальцы
уже оказали свою услугу и начали надоедать своими попытками обратить абиссинцев
из монофизитства в католичество, западная версия христианства была запрещена, а
все западные гости изгонялись из страны в 1630‑е гг. – в то же самое время,
когда подобная политика проводилась в Японии.
Британская абиссинская экспедиция 1868 г. обернулась полным
успехом, однако без дальнейших последствий, – в отличие от «открытия Японии»
американским флотом пятнадцатью годами ранее. Тем не менее во время «борьбы за
Африку» в последние годы XIX столетия одна европейская держава вынуждена была
взяться за Абиссинию, и эту попытку предприняли итальянцы. На этот раз роль,
сыгранную португальцами два с половиной столетия назад, сыграли французы,
снабдившие императора Менелика[368] нарезными винтовками, давшими ему возможность
нанести сокрушающее поражение итальянским захватчикам при Адуа в 1896 г. Когда
итальянцы, озлобленные сознательным культивированием в себе неоварварства,
вернулись, чтобы атаковать с еще большей решительностью в 1935 г., на время
показалось, будто им удастся положить конец издревле неприступной Абиссинии,
так же как и новорожденным перспективам коллективной безопасности для
измученного западного мира. Но через четыре года после того, как была
провозглашена итальянская Империя Эфиопия, муссолиниевская интервенция во время
всеобщей войны 1939‑1945 гг. побудила британцев, воздержавшихся от помощи
Абиссинии в 1935‑1936 гг. ради сохранения Лиги наций, спасать собственные шкуры
в 1941‑1942 гг., оказав в конце концов Абиссинии ту же самую любезную услугу,
которую в предшествующих критических ситуациях оказывали французы и
португальцы.
Эти четыре иностранные атаки – все, с чем пришлось
столкнуться Абиссинии в течение шестнадцати столетий со времен принятия
христианства, и, по меньшей мере, первые три были отражены слишком быстро,
чтобы оказать стимулирующее воздействие. В других отношениях ее опыт был белым
листом бумаги и мог бы послужить опровержением поговорки: счастлива та нация,
которая не имеет истории. Ее летопись содержит в себе немного, за исключением
однообразных и бессмысленных жестокостей на фоне апатии – слова, которое
первоначально по‑гречески[369] означало неуязвимость к испытываемым
страданиям, или, другими словами, невосприимчивость к стимулу. В 1946 г.,
несмотря на героические попытки реформ, которые были предприняты императором
Хайле Селассие[370] и группой либерально мыслящих лейтенантов,
оставалось предполагать, что и четвертая иностранная атака на Абиссинию будет
иметь не в большей степени стимулирующее воздействие, чем предыдущие.
III.
Рост
цивилизаций
IX.
Задержанные цивилизации
1. Полинезийцы, эскимосы и кочевники
В предыдущей части данного исследования мы бились над
решением общепризнанно сложного вопроса: как возникают цивилизации? Но та
проблема, которая стоит перед нами сейчас, как может показаться на первый
взгляд, слишком легка, чтобы ее рассматривать вообще в качестве проблемы. Раз
цивилизация родилась, а не была подавлена в зародыше, как произошло с так
называемыми недоразвившимися цивилизациями, то почему бы не считать ее рост
само собой разумеющимся? Лучшим способом ответить на этот вопрос будет задать
другой: является ли исторической реальностью тот факт, что цивилизации,
преодолевшие опасности, связанные с рождением и детством, фактически неизменно
достигали «мужества»? Другими словами, продолжали ли они со временем неизменно
достигать контроля над своим окружением и образом жизни, что оправдывало бы их
включение в составленный нами список [цивилизаций] во второй главе данной
книги? Ответ будет: некоторые нет. Вдобавок к двум уже отмеченным классам –
развитым и недоразвившимся цивилизациям – существует третий, который мы назовем
задержанными цивилизациями. Благодаря существованию именно таких цивилизаций,
которые выжили, но не смогли вырасти, мы вынуждены исследовать проблему роста;
и нашим первым шагом будет собрать и изучить доступные образцы цивилизаций
данной категории.
Мы можем без труда указать на полудюжину образцов. К
цивилизациям, родившимся в результате ответов на природные вызовы, относятся
полинезийцы, эскимосы и кочевники, а среди цивилизаций, возникших в ответ на
вызовы человеческие, существуют некоторые специфические общины вроде османов в православно‑христианском
мире и спартанцев в мире эллинском, вызванные к жизни частичной акцентуацией
широко распространенных человеческих вызовов, когда по причине особых
обстоятельств те были доведены до необычайно высокого уровня суровости. Все это
примеры задержанных цивилизаций, и мы сразу же можем увидеть, что они являются
воплощением той же самой общей категории.
Все эти задержанные цивилизации оказались неподвижными,
пытаясь произвести tour de force (рывок). Они являются ответами на
вызовы порядка суровости, [существующего] на самой границе между тем уровнем,
который дает стимул к дальнейшему развитию, и тем, который влечет за собой
поражение. Пользуясь образными выражениями из нашей притчи о подъеме альпиниста
(см. с. 123), мы можем сказать, что эти цивилизации подобны тем альпинистам,
которые поднялись не очень высоко, но не могут идти ни вперед, ни назад. Они
находятся в опасном положении неподвижности в состоянии крайнего напряжения; и
мы можем добавить, что четырем из пяти упомянутых нами цивилизаций в конце
концов пришлось признать свое поражение. Только одна из них – эскимосская
культура – все еще отстаивает себя.
Например, полинезийцы осмелились на tour de force
дерзкого заокеанского путешествия. Их ловкость позволяла им совершать эти
путешествия на огромные расстояния в хрупких открытых каноэ. Расплатой явилось
то, что на протяжении неизвестного, но, несомненно, продолжительного периода
времени полинезийцы оставались в состоянии строгого равновесия с Тихим океаном
– как раз, чтобы быть в состоянии пересечь его огромные пустынные просторы, но
никогда не пересекать их хотя бы с малой долей безопасности и легкости для
себя. Это продолжалось до тех пор, пока невыносимое напряжение не нашло
облегчения в бездействии, в результате которого этот прежде равный минойцам и
викингам народ выродился в воплощения лотофагов и «тунеядцев», утративших
власть над океаном и согласившихся высадиться на необитаемом острове, каждый в
своем собственном островном раю, где они жили, пока на них не нагрянул западный
мореход. Нам нет нужды подробно останавливаться на конце полинезийцев,
поскольку мы уже касались этого вопроса в связи с островом Пасхи (см. с. 162‑163).
Что касается эскимосов, то их культура была развитием образа
жизни североамериканских индейцев, специально приспособленного к условиям жизни
вдоль берегов Северного Ледовитого океана. Эскимосский tour de force
помог оставаться на льду зимой и охотиться на тюленей. Каким бы здесь ни был
исторический стимул, очевидно, что в некий момент своей истории предки эскимосов
вступили в смелую схватку с арктическим окружением и с совершенным искусством
приспособили свою жизнь к его крайностям. Чтобы доказать это утверждение,
достаточно только перечислить те материальные приспособления, которые эскимосы
усовершенствовали или изобрели: «каяк, умиак (женская лодка), гарпун и дротик
для охоты за птицами со специальной доской для метания, [благодаря которой
увеличивалась скорость летящего дротика], трезубая острога для ловли лосося,
составной лук, усиленный подкладкой из сухожилий, сани с собачьими упряжками,
снегоступы, зимний дом и снежный дом на платформе и со светильниками, горящими
на ворвани, летняя палатка и, наконец, кожаная одежда»{61}.
Все это внешние, видимые знаки удивительного подвига ума и
воли; однако «в некоторых направлениях, например в отношении социальной
организации, эскимосы проявляют достаточно низкое развитие. Но остается вопрос,
вызвана ли эта низшая социальная дифференциация примитивностью или же она не
более чем результат естественных условий, при которых эскимосы жили с
незапамятных времен? Не требуется глубокого знания эскимосской культуры, чтобы
понять, что она была вынуждена потратить огромную часть своих сил просто на
развитие приспособлений, с помощью которых можно было бы добыть средства к
существованию»{62}.
Ценой, которую эскимосам пришлось заплатить за смелость в
овладении арктическим окружением, явилось жесткое подчинение их жизни годовому
циклу арктического климата. Все трудоспособные члены племени обязаны заниматься
тем или иным делом в зависимости от времени года, и тирания арктической природы
предлагает арктическому охотнику почти столь же строгий график, какой
предлагает любому фабричному рабочему человеческая тирания «научного
управления». В самом деле, мы можем спросить себя, являются эскимосы хозяевами
арктической природы или же ее рабами? Мы встретимся с подобным же вопросом и
дальше, когда начнем исследовать жизнь спартанцев и османов и обнаружим, что на
него равно трудно ответить. Но сначала мы должны рассмотреть судьбу еще одной
задержанной цивилизации, которая была пробуждена, подобно эскимосской,
природным вызовом.
В то время как эскимосы сражались со льдами, а полинезийцы –
с океаном, кочевники, принявшие вызов степи, имели смелость сражаться с равно
неподатливой стихией. В самом деле, в своем отношении к человеку степь,
покрытая травой и гравием, фактически имеет большее сходство с «бесплодным
морем» (как часто называет его Гомер), чем с terra firma, которая
поддается мотыге и плугу. И для степной, и для водной поверхности общим является
то, что человек может быть на них лишь странником и временным жителем. Ни та,
ни другая не дают ему на своей широкой поверхности (за исключением островов и
оазисов) места, где бы он мог осесть и вести оседлый образ жизни. Обе
обеспечивают несравненно более широкие возможности для передвижения и
перевозки, чем те части земли, на которых человеческие общины привыкли строить
свои постоянные дома, но обе с необходимостью требуют – в качестве расплаты за
посягательство на них – постоянного передвижения по их поверхности или же
полного ухода с нее на окружающие их берега terra firma. Таким образом,
существует реальное подобие между кочевнической ордой, ежегодно следующей по
одной и той же орбите летних и зимних пастбищ, и рыболовецким флотом,
совершающим рейсы от одного берега к другому в зависимости от времени года;
между конвоями купцов, обменивающих продукты противоположных берегов моря, и
караванами верблюдов, которыми связаны между собой противоположные берега
степи; между морским пиратом и жителем пустыни, совершающим набеги; и между
теми взрывными движениями народов, которые побудили минойцев или древних
скандинавов сесть на корабли и обрушиться, подобно волне прилива, на берега
Европы или Леванта, и другими движениями, что побудили арабов‑кочевников, скифов,
тюрков или монголов свернуть со своих годовых орбит и обрушиться с таким же
неистовством и внезапностью на населенные земли Египта, Ирака, России, Индии
или Китая.
Можно увидеть, что ответ кочевников на вызов природного
окружения, так же как и ответ полинезийцев и эскимосов, является tour de
force, и в данном случае, в отличие от других, исторический стимул не
находится всецело в области догадок. Мы имеем право сделать вывод, что кочевой
образ жизни возник в результате того же самого вызова, который пробудил к жизни
египетскую, шумерскую и минойскую цивилизации и привел предков динка и шиллук в
экваториальную область, – а именно в результате вызова засухи. Наиболее ясные
данные, которыми мы до сих пор располагаем о происхождении кочевого образа
жизни, были доставлены исследованиями экспедиции Пумпелли в закаспийском оазисе
Анау[371].
Здесь мы впервые встречаемся с вызовом засухи, побудившим
некоторые общины, прежде жившие охотой, умудряться сводить концы с концами в
менее благоприятных условиях, занявшись элементарными формами земледелия. Факты
явно указывают на то, что эта земледельческая стадия предшествовала кочевому
образу жизни.
Земледелие также имело еще одно, непрямое, хотя и не менее
важное, воздействие на социальную историю этих cidevant[372] охотников. Оно предоставило им возможность
войти в совершенно новые отношения с дикими животными. Ибо искусство
доместикации диких животных, которое охотник по причине своей занятости способен
развивать не далее весьма узких границ, получает гораздо более широкие
возможности для земледельца. Охотник, предположительно, может одомашнить волка
или шакала, с которыми оспаривает или разделяет свою добычу, обратив хищное
животное в партнера, но почти невозможно предположить, чтобы он мог одомашнить
дичь, которая является его добычей. Не охотник со своей гончей собакой, но
земледелец со своим сторожевым псом оказался в силах довести до конца процесс
дальнейшего превращения, который произвел на свет пастуха и его овчарку. Именно
земледелец обладает запасами пищи, привлекательной для жвачных животных вроде
быка или овцы, которых, в отличие от собак, не будет привлекать мясо,
добываемое охотником.
Археологические данные в Анау показывают, что этот дальнейший
шаг в социальной эволюции был сделан в Закаспийской области к тому времени,
когда природа «закрутила гайки» засухи еще туже. Одомашнив жвачных животных,
евразийский человек потенциально снова обрел ту мобильность, которую утратил в
своей предыдущей метаморфозе из охотника в земледельца, и в ответ на дальнейшее
возобновление прежнего вызова он использовал свою вновь открытую мобильность
двумя совершенно различными путями. Некоторые из земледельцев закаспийского
оазиса просто использовали свою мобильность для того, чтобы постепенно
эмигрировать, двигаясь далее по мере того, как засуха усиливалась, – так, чтобы
всегда идти в ногу с тем природным окружением, в котором могли продолжать вести
свой привычный образ жизни. Они меняли свою среду обитания, чтобы не менять
своих привычек. Но другие разошлись с ними, чтобы ответить на тот же вызов
более дерзким образом. Эти другие евразийцы также покинули ставшие непригодными
для жилья оазисы и бросились вместе со своими семьями, овцами и рогатым скотом
в негостеприимную степь. Однако они отправились не как беженцы, ищущие
отдаленного берега. Они оставили свое бывшее главное занятие – земледелие, как
их предки оставили охоту, и поддерживали жизнь при помощи недавно
приобретенного искусства – животноводства. Они бросились в степь не для того,
чтобы уйти за ее границы, но чтобы обрести здесь для себя дом. Они стали
кочевниками.
Если мы сравним цивилизацию тех кочевников, которые оставили
земледелие и удержали свои позиции в степи, с цивилизациями их собратьев,
которые сохранили земледельческое наследие, изменив среду обитания, то заметим,
что кочевой образ жизни обнаруживает превосходство в нескольких областях. Во‑первых,
доместикация животных – явно более высокое искусство, чем доместикация
растений, поскольку являет собой триумф человеческого разума и воли над менее
послушным материалом. Пастух – гораздо больший виртуоз, чем земледелец, и эта
истина выражена в известном отрывке из сирийской мифологии.
«Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина… И
еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.
Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель
также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на
Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел»{63}.
Жизнь кочевника, в самом деле, представляет собой триумф
человеческой ловкости. Кочевник умудряется жить за счет грубых трав, которые не
может есть сам, но которые превращает в молоко и мясо прирученных им животных.
Чтобы в любое время года обеспечить своему скоту пропитание из природной
растительности голой и скупой степи, он должен очень тщательно приспосабливать
свою жизнь и передвижение к сезонному графику. Фактически tour de force
кочевого образа жизни требует весьма высокого уровня характера и поведения, и
наказание, которому подвергся кочевник, по сути, то же, что и наказание
эскимоса. Грозное окружение, которое ему удалось завоевать, коварно поработило
его. Кочевники, так же как и эскимосы, стали пленниками климатического и
вегетационного годового цикла. Перехватив инициативу в степи, они утратили ее в
других частях света. В действительности же они не сошли со сцены истории
цивилизаций бесследно. Время от времени они покидали свои владения, врываясь во
владения соседних оседлых цивилизаций, и в некоторых случаях мгновенно сметали
перед собой все. Однако подобные вспышки никогда не были самопроизвольными.
Когда кочевник выходил из степи и посягал на сады земледельца, им двигало не
намеренное стремление выйти из своего обычного цикла. Он лишь механически
отвечал на вызов тех сил, которые самому ему были неподконтрольны.
Существуют две такие внешние силы, которым он подчинен: одна
сила выталкивающая, а другая – вытягивающая. Иногда его выталкивает из степи
усиление засухи, делающее его бывшую среду обитания невыносимой даже для него,
а с другой стороны, время от времени его вытягивает оттуда засасывающий
социальный вакуум, возникающий во владениях соседнего с ним оседлого общества в
ходе действия таких исторических процессов, как надлом оседлой цивилизации и
последующий
Völkerwanderung [переселение народов], – причин, которые
совершенно чужды собственному опыту кочевников. Обзор великих исторических
вторжений кочевников в историю оседлых обществ, по‑видимому, показывает, что
все эти вторжения можно возвести к первой или второй из причин[373].
Таким образом, несмотря на случавшиеся время от времени
вторжения на поле исторических событий, кочевники, по сути, являются обществом
без истории. Некогда выведенная на свою годовую орбиту, кочевническая орда
после этого вращается по ней и может продолжать вращение вечно, если никакая
внешняя сила, против которой кочевники окажутся беззащитными, не приведет в
конце концов передвижение орды к остановке, а ее жизнь – к концу. Этой силой
является давление оседлых цивилизаций, оказываемое ими на свое окружение; ибо,
хотя Господь и призрел на Авеля и на дар его, а не на Каина, никакая сила не
смогла спасти Авеля от Каиновой руки.
«Недавние метеорологические исследования показывают, что
существует ритмическое чередование (которое, возможно, охватывает собою весь
мир) периодов относительной засушливости и влажности, что является причиной
чередующихся вторжений земледельцев и кочевников в сферы друг друга. Когда
засуха достигает того уровня, на котором степь больше не может обеспечить
подножный корм для того количества скота, которое имеется в наличии у
кочевников, скотоводы отклоняются от своего наезженного пути годовой миграции и
вторгаются в окружающие культивированные земли в поисках пищи для своих
животных и для себя. С другой стороны, когда климатический маятник возвращается
обратно и следующая фаза влажности достигает той точки, на которой степь
становится пригодной для выращивания культурных корнеплодов и злаков,
земледелец предпринимает свое контрнаступление на пастбища кочевников. Методы
агрессии тех и других весьма непохожи. Нападение кочевников внезапно, словно
кавалерийская атака. Нападение земледельцев – это наступление пехоты. На каждом
шагу они окапываются при помощи мотыги или парового плуга и обеспечивают линии
коммуникации, прокладывая дороги или железнодорожные пути. Наиболее
поразительными зафиксированными примерами кочевнического взрыва являются
вторжения тюрков и монголов, имевшие место в тот период, который был, возможно,
предпоследним засушливым периодом. Впечатляющий пример земледельческого
вторжения представляет собой последующая экспансия России в восточном
направлении. Оба типа движения анормальны, и каждый из них крайне неприятен для
той стороны, в ущерб которой он происходит. Но оба они сходны в том, что
вызваны одной не поддающейся контролю природной причиной.
Неослабевающее давление земледельца для того, кому случается
стать его жертвой, в конце концов, возможно, более болезненно, чем нападение
диких кочевников. Монгольские набеги происходили на протяжении двух‑трех
поколений. Русская же колонизация, которая явилась возмездием за них,
продолжалась более четырехсот лет – сперва за пределами казацких границ,
окружавших и сужавших полосу пастбище севера, а затем вдоль Закаспийской
железной дороги, протянувшей свои щупальца вокруг своей южной границы. С точки
зрения кочевника, земледельческая держава наподобие России похожа на те
прокатно‑дробильные машины, в которые западный индустриализм отливает горячую
сталь согласно своему желанию. В этой схватке кочевник или погибает, или
переходит к оседлому образу жизни, и процесс проникновения не всегда проходит
мирно. Путь для Закаспийской железной дороги был очищен в результате резни
туркмен в Геок‑Тепе[374]. Но
предсмертный крик кочевников редко бывает услышан. Во время европейской[375] войны, когда народ в Англии поднялся, чтобы
потребовать у оттоманских турок кочевнического происхождения ответа за убийство
600 000 армян, 500 000 тюркоязычных центральноазиатских кочевников киргиз‑кайсацкого
союза были изгнаны – также с высочайшего распоряжения – этим “справедливейшим
из людей”, русским мужиком»{64}.
Кочевой образ жизни был обречен в Евразии на гибель с того
момента в XVII столетии, когда две оседлые империи – Московская и Маньчжурская
– протянули свои щупальца по Евразийской степи в различные стороны света.
Сегодня западная цивилизация, распространившая свои щупальца по всей
поверхности земного шара, завершает истребление кочевников во всех других их
древних владениях. В Кении пастбища маасаев[376] были разделены на части и значительно урезаны,
чтобы расчистить путь для европейских фермеров. В Сахаре имошаг[377] наблюдают, как в их доселе неприступную
пустынную цитадель вторгаются аэропланы и восьмиколесные автомобили. Даже в
Аравии, классической родине афразийского кочевничества, бедуинов насильно
обращают в феллахов, и делается это не чуждой силой, а умышленной политикой
араба из арабов Абдула Азиза Ибн Сауда, короля Неджда и Хиджаза и временного
главы ваххабитской общины мусульманских пуритан‑фанатиков[378]. Когда
ваххабитский властитель в сердце Аравии усиливает свою власть бронеавтомобилями
и решает свои экономические проблемы при помощи нефтяных скважин, артезианских
колодцев и концессий американским нефтяным корпорациям, становится очевидным,
что пробил последний час кочевничества.
Так Авель был убит Каином, и нам остается лишь спрашивать,
действительно ли каиново проклятие в должное время обрушится на убийцу.
«И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои
принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю,
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и
скитальцем на земле»{65}.
Первое условие каинова проклятия явно оказалось
недействительным, ибо, хотя земледелец оазиса и оказался неспособным выращивать
зерновые на иссушенной земле степей, передвижение привело его в регионы, где
климатические условия ему благоприятствовали; и с этого времени, имея за собой
движущую силу индустриализма, он заявил требования и на пастбища Авеля как на
свои собственные. Окажется Каин господином или жертвой созданного им
индустриализма, остается лишь гадать. В 1933 г.[379], когда новому
экономическому мировому порядку угрожал надлом и уничтожение, совсем не казалось
невозможным, что Авель может быть все‑таки отомщен и что Homo Nomas[380] может еще задержаться in articulo mortis[381],
чтобы увидеть, как его обезумевший убийца, Homo Faber[382],
поглощается Шеолом[383].
2. Османы
Вполне достаточно цивилизаций, задержанных в наказание за tour
de force, предпринятый в ответ на некий природный вызов. Теперь перейдем к
тем случаям, когда чрезмерный вызов носил не природный, а человеческий
характер.
Тем величайшим вызовом, ответом на который явилось
[образование] оттоманской системы, было географическое перемещение общины
кочевников из своего первоначального степного окружения в новое, где оно
столкнулось с непривычной проблемой использования владений чуждых общин. Мы уже
видели[384], как аварские
кочевники, оказавшись изгнанными со своих пастбищ в степи и выброшенными на
берег in partibus agricolarum[385],
попытались распоряжаться завоеванным оседлым населением так, будто бы оно было
человеческим стадом, и стремились превратиться из пастухов овец в пастухов
людей. Вместо того чтобы жить за счет диких степных трав, преобразовывая их при
помощи прирученных животных, авары (подобно многим другим кочевым ордам,
делавшим то же самое) намеревались жить за счет злаков, выращиваемых на
пахотных землях, преобразовывая их не при помощи пищеварения животных, но при
помощи человеческого труда. Аналогия соблазнительна для применения и на
практике отработана до конца; однако эмпирическая проверка обнаруживает в ней
почти роковой изъян.
В степи сложное общество, состоящее из кочевников и их
нечеловеческих стад, является самым подходящим инструментом, который только
можно придумать для того, чтобы иметь дело с природным окружением подобного
рода; и кочевник, строго говоря, не паразитирует на своих нечеловеческих
партнерах. Здесь присутствует разумный обмен благами: если стадам приходится
отдавать кочевникам не только свое молоко, но и мясо, то кочевники в первую
очередь обеспечивают для стад средства пропитания. Ни одни, ни другие не могут
существовать в степи в сколько‑нибудь значительном количестве без взаимной
помощи. С другой стороны, в окружении полей и городов сложное общество,
состоящее из изгнанных из своего отечества кочевников и местного «человеческого
скота», экономически несостоятельно, поскольку «пастухи людей» всегда в плане
экономическом – хотя и не всегда в политическом – являются излишними и,
следовательно, паразитическими. С экономической точки зрения они перестают быть
пастухами, наблюдающими за своими стадами, и превращаются в трутней,
эксплуатирующих рабочих пчел. Они становятся непроизводительным правящим
классом, живущим за счет занятого производительным трудом населения, которое
экономически было бы богаче, если бы их не существовало.
По этой причине империи, основанные завоевателями‑кочевниками,
в основном приходят к быстрому упадку и преждевременному угасанию. Великий
магрибский историк Ибн Хальдун (1332‑1406), когда устанавливал среднюю
продолжительность жизни империй, полагал, что продолжительность жизни
кочевнических империй не более трех поколений, или ста двадцати лет. Когда
завоевание совершено, кочевник‑завоеватель начинает вырождаться, поскольку
покидает свою стихию и становится экономически излишним, тогда как его
«человеческий скот» восстанавливает силы, поскольку остается на собственной
земле и не перестает быть экономически производительным. «Человеческий скот»
вновь заявляет о своей человеческой природе, изгоняя или ассимилируя своих
хозяев‑пастухов. Господство авар над славянами, вероятно, продолжалось менее
пятидесяти лет и обернулось становлением славян и уничтожением авар. Империя
западных гуннов просуществовала не долее жизни одного‑единственного человека –
Аттилы[386]. Империя
монгольских ильханов в Иране и Ираке[387] просуществовала менее восьмидесяти лет, а
империя великих ханов в Южном Китае[388] – еще меньше. Империя гиксосов (пастушеских
царей) в Египте едва ли просуществовала столетие. Период более чем в два
столетия, в течение которого монголы и их непосредственные предшественники
цзинь непрерывно управляли Северным Китаем[389] (около 1142– 1368), и более продолжительный
период в три с половиной столетия, в течение которого парфяне[390] были хозяевами Ирана и Ирака (около 140 г. до
н. э. – 226/232 г. н. э.), являются совершенно исключительными.
По сравнению с этими нормами продолжительность господства
Оттоманской империи над православно‑христианским миром уникальна. Если мы будем
датировать время ее установления с завоевания Македонии в 1372 г.[391], а начало
заката – с русско‑турецкого Кючук‑Кайнарджийского мирного договора 1774 г.[392], то определим
срок ее жизни в четыре столетия, не считая времени роста и упадка. Чем же
объясняется такая относительная долговечность? Частичное объяснение можно,
несомненно, найти в том факте, что османы, хотя и являлись в экономическом
плане инкубами, вместе с тем служили позитивной политической цели, создав для
православно‑христианского мира универсальное государство, которое тот не
способен был создать сам. Но мы можем продолжить наше объяснение гораздо
дальше.
Мы уже видели, что авары и им подобные, вторгаясь из пустыни
на пахотные земли, пытались – хотя и неудачно – поступать в новой ситуации как
«пастухи людей». Их провал покажется менее неожиданным, когда мы примем во
внимание тот факт, что эти неудачливые создатели кочевнических империй in
partibus agricolarum не попытались найти какого‑либо оседлого эквивалента
одного из неотъемлемых партнеров в составном обществе степи. Ибо это степное
общество состоит не просто из пастуха и его стада. Вдобавок к животным, которых
кочевник держит, чтобы жить за их счет, он держит и других животных – собаку,
верблюда, лошадь, в функции которых входит помощь ему в его работе. Эти
животные‑помощники – chef‑d'oeuvre[393] кочевнической цивилизации и ключ к ее успеху.
Овцу и корову достаточно лишь приручить (хотя это и не так просто), чтобы они
служили человеку. Собака, верблюд и лошадь не могут выполнять своих более
изощренных услуг до тех пор, пока будут не просто приручены, но к тому же и
обучены. Обучение своих нечеловеческих помощников является завершающим
достижением кочевника; и именно приспособление этого высшего кочевнического
искусства к условиям оседлого образа жизни отделяет Оттоманскую империю от
империи аваров и объясняет гораздо большую продолжительность ее жизни.
Оттоманские падишахи поддерживали свою империю, воспитывая рабов в качестве человеческих
помощников для поддержания порядка среди «человеческого скота»[394].
Этот замечательный институт по созданию солдат и
администраторов из рабов – идея, столь близкая по духу гению кочевников и столь
чуждая другим, – не был оттоманским изобретением. Мы находим его и в других
кочевнических империях, властвовавших над оседлыми народами, – и как раз в тех,
что отличались наибольшим долгожительством.
Мы видим намеки на военное рабство в Парфянской империи,
поскольку одна из армий, сорвавшая честолюбивые амбиции Марка Антония[395] сравняться с Александром Великим, как
сообщают, состояла только из 400 свободных людей на общее количество 50 000
воинов. Таким же способом и на той же земле тысячу лет спустя аббасидские
халифы поддерживали свою власть, покупая тюркских рабов из степи и воспитывая
их солдатами и администраторами[396]. Омейядские
халифы Кордовы держали рабов‑телохранителей, ряды которых пополняли их
франкские соседи. Франки обеспечивали кордовский рабский рынок, совершая набеги
в поисках рабов через противоположную границу франкских владений. Варварами,
плененными таким образом, оказывались славяне; и отсюда происходит слово
«slave» («раб») в английском языке.
Однако более знаменитый пример того же явления представляет
собой мамлюкский режим в Египте. Слово «мамлюк» означает по‑арабски то, чем
обладают, или то, что принадлежит, и мамлюки первоначально были рабами‑воинами
основанной Саладином[397] династии Айюбидов. В 1250 г., однако, эти рабы
освободились из‑под власти своих господ и сами переняли рабскую систему
Айюбидов, набирая свой корпус не из потомства, но покупая смену рабов за
границей. За фасадом марионеточного халифата эти самостоятельные рабы‑гвардейцы
управляли Египтом и Сирией и сдерживали грозных монголов на линии Евфрата с
1250 по 1517 г., когда встретились с более достойными противниками в лице рабов‑гвардейцев
османов. Но даже это не стало их концом, ибо при оттоманском режиме в Египте им
разрешалось сохранять себя, как и раньше, при помощи того же самого способа
воспитания и пополнять свои ряды из тех же самых источников. С упадком
Оттоманской державы держава мамлюков снова заявила о себе, и в XVIII столетии
оттоманский паша Египта фактически стал официальным узником мамлюков, каковыми
перед турецким завоеванием являлись и каирские халифы из династии Аббасидов. К
рубежу XVIII и XIX столетий христианской эры вопрос о том, перейдет ли
оттоманское наследие в Египте вновь к мамлюкам или достанется одной из
европейских держав – наполеоновской Франции или Англии, казался открытым.
Фактически обеим этим альтернативам воспрепятствовал гений албанского
мусульманского авантюриста Мухаммеда Али[398], но,
успокаивая мамлюков, он столкнулся с большими трудностями, чем когда отчаянно
защищался от англичан и французов. Потребовались все его способности и
безжалостность, чтобы уничтожить этот самосохраняющийся рабский корпус после
того, как он продолжал поддерживать себя на чуждой египетской почве при помощи
постоянного притока евразийской и кавказской живой силы более пятисот лет.
По дисциплине и организации, тем не менее, мамлюкскую
рабскую гвардию далеко превзошла несколько более молодая рабская гвардия,
созданная оттоманской династией для утверждения и поддержания своего господства
над православно‑христианским миром. Осуществление власти над всей социальной
системой чуждой цивилизации, несомненно, является самой трудной задачей,
которую может поставить перед собой завоеватель‑кочевник, и это отважное
предприятие вызвало у Османа и его наследников вплоть до Сулеймана
Великолепного[399] высшее проявление социальных способностей
кочевников.
Общий характер оттоманской рабской гвардии выражен в
следующем отрывке из блестящего исследования одного американского ученого:
«Оттоманский правящий институт включал в себя султана и его
семью, придворных, чиновников правительства, постоянную армию, состоящую из
кавалерии и пехоты, и большую группу молодых людей, обученных для службы в
постоянной армии, при дворе и в правительстве. Эти молодые люди владели мечом,
пером и скипетром. Они выполняли все функции правительства, за исключением
функций правосудия, дела которого были подконтрольны Священному Закону, а также
тех ограниченных функций, которые оставались в руках подвластных и иностранных
групп немусульман. Наиболее живучими и характерными чертами этого института
было, во‑первых, то, что его личный состав пополнялся, за немногими
исключениями, из людей, рожденных от родителей‑христиан, или из их рода; а во‑вторых,
то, что почти каждый член этого института входил в него как раб султана и
оставался рабом султана в течение всей своей жизни, несмотря на те вершины
богатства, власти и величия, которых он мог достичь…
Царская семья… могла справедливо считаться семьей рабов,
[потому что] матери султанских детей были рабынями; сам султан был сыном
рабыни… Задолго до эпохи Сулеймана султаны практически перестали получать
невест царского происхождения, а также называть женами матерей своих детей…
Оттоманская система умышленно отбирала рабов и делала их министрами
государства. Она брала мальчиков с пастбищ или от сохи и делала их придворными
и супругами принцесс; она брала молодых людей, чьи предки столетиями носили
христианские имена, и делала их правителями величайших магометанских
государств, солдатами и генералами непобедимых армий, главным удовольствием
которых было сбить Крест и водрузить Полумесяц… Совершенно игнорируя устройство
фундаментальных привычек, называемых “человеческой природой”, и тех религиозных
и социальных предрассудков, которые, как полагают, почти настолько же глубоки,
насколько сама жизнь, оттоманская система навсегда забирала детей от родителей,
лишала их семейной заботы в наиболее активные годы, не позволяла им иметь
никакой собственности, не давала им определенных обещаний, что их сыновья и
дочери воспользуются их успехом и жертвами, возвышала и унижала их, не обращая
внимания на их происхождение или же прежние заслуги, обучала их чужому закону,
этике и религии и всегда напоминала о том, что над их головами висит меч,
который в любой момент может положить конец их блестяще начатому продвижению по
неповторимому пути человеческой славы»{66}.
Исключение свободнорожденной оттоманской аристократии из
правительства, кажущееся нам самой странной частью этой системы, оправдывалось
своими результатами, ибо, когда свободные мусульмане наконец сделали усилие
войти в придворные круги в последние годы правления Сулеймана, система начала
надламываться, а Оттоманская империя клониться к упадку.
Пока система оставалась нетронутой, новобранцы поставлялись
из различных источников среди неверных: за пределами империи – из
военнопленных, путем покупки на рабском рынке или добровольного поступления на
военную службу; внутри империи – путем периодического набора рекрутов из детей
в соответствии с воинской повинностью. Новобранцы получали тщательно
продуманное воспитание с отбором и специализацией на каждой стадии. Дисциплина
была строгой, а наказание – беспощадным, в то время как, с другой стороны,
присутствовало намеренное и непрестанное обращение к честолюбию. Каждый
мальчик, входивший в рабскую гвардию оттоманского падишаха, сознавал, что
является потенциальным великим визирем и что его перспективы зависят от его
доблести, проявленной в обучении.
Мы располагаем ярким и детальным описанием этой системы
воспитания в период ее расцвета, описанием, принадлежащим непосредственному
наблюдателю, – фламандскому ученому и дипломату Ожье Эселину де Бусбеку,
который был послом габсбургского двора при Сулеймане Великолепном. Его выводы
являются настолько же лестными по отношению к османам, насколько они
противоположны методам современного западно‑христианского мира.
«Я завидовал, – говорит он, – туркам, что у них есть такая
система. В обычае турок всякий раз, когда они приобретают человека необычайно
хорошей комплекции, радоваться и быть безмерно счастливыми, как будто бы они
нашли жемчужину великой ценности. И выявляя все [задатки], которые у него есть,
они не оставляют незаконченным ничего, что могли бы закончить труд и мысль –
особенно там, где они видят способности к военному делу. Наш западный обычай
совершенно иной! На Западе, если мы приобретаем хорошую собаку, сокола или
лошадь, то восхищаемся и ничего не жалеем, пытаясь привести это живое существо
к высшему совершенству, на которое оно только способно. Однако в случае
человека (если, предположим, нам случилось натолкнуться на человека выдающегося
дарования) мы не предпринимаем ничего похожего на эти усилия и не считаем, что
его воспитание является нашим личным делом. Так, мы, западные люди, получаем
множество удовольствия и услуг от хорошо выученной лошади, собаки или сокола,
тогда как турки все это получают от человека, чей характер был взращен
воспитанием, притом с гораздо большей прибылью, которую приносит огромное
превосходство и преимущество человеческой природы над остальными представителями
животного царства»{67}.
В конечном счете система погибла из‑за того, что каждый
пытался протиснуться в нее, чтобы получить соответствующие привилегии. К концу
XVI столетия христианской эры доступ в янычарский корпус получили все свободные
мусульмане, за исключением негров. Численность [янычар] увеличивалась,
дисциплина и подготовка падали. К середине XVII в. эти человеческие сторожевые
псы «вернулись к природе», превратившись в волков, разорявших человеческое
стадо падишаха, вместо того чтобы смотреть за ним и наводить в нем порядок.
Подвластное православно‑христианское население, которое первоначально
согласилось нести оттоманское иго, теперь оказалось обманутым Pax
Ottomanica. В великой войне 1682‑1699 гг. между Оттоманской империей и
западно‑христианскими державами, войне, которая завершилась первой серией
потерь оттоманской территории, продолжавшихся вплоть до 1922 г., превосходство
в сфере дисциплины и подготовки явно перешло от оттоманского лагеря к
западному.
Дальнейшее распространение этого упадка оттоманской рабской
гвардии выявило на свет непоколебимую твердость, которая явилась ее фатальным
недостатком. Однажды дезорганизованная, она впоследствии не могла быть ни
восстановлена, ни переделана. Система стала инкубом, и турецкие правители
позднего времени были вынуждены подражать методам своих западных врагов –
политика, долгое время проводившаяся нерешительно и безуспешно, но наконец в
наше время со всей решительностью завершенная Мустафой Кемалем[400]. Эта
метаморфоза – такой же чудесный tour cie force, как и создание рабской
гвардии ранними оттоманскими государственными деятелями. Однако сравнение
результатов двух этих свершений показывает относительную тривиальность второго.
Создатели оттоманской рабской гвардии выковали инструмент, который дал
возможность отряду кочевников, выброшенному из своей родной степи, не просто
удержаться в незнакомом мире, но и установить мир и порядок в великом
христианском обществе, которое вошло в стадию распада, и угрожать жизни еще
более великого христианского общества, которое с тех пор бросило тень на все
человечество. Турецкие государственные деятели недавнего времени просто
попытались заполнить вакуум, образовавшийся на Ближнем Востоке вследствие
исчезновения бесподобной структуры старой Оттоманской империи, установив на
заброшенном месте готовую западную модель в форме турецкого национального государства.
В этой банальной загородной резиденции сегодняшние турецкие наследники
задержанной оттоманской цивилизации (подобно сионистским наследникам
окаменевшей сирийской цивилизации в соседнем доме и ирландским наследникам
недоразвившейся дальнезападной цивилизации на соседней улице) с тех пор
согласились жить в условиях комфортабельной банальности, совершив долгожданный
побег из долее нетерпимого положения «избранного народа».
Что касается самой рабской гвардии, то она была беспощадно
«вырезана» (судьба, достойная сторожевого пса, сбившегося с истинного пути и
ставшего трепать овец) Махмудом II в 1826 г. в разгар греко‑турецкой войны –
через пятнадцать лет после того, как аналогичный институт мамлюков был
уничтожен номинальным подданным Махмуда – временами союзником, временами
противником – Мухаммедом Али Египетским.
3. Спартанцы
Оттоманский институт подошел, возможно, ближе всего в
реальной жизни к осуществлению платоновского идеала государства, но несомненно,
сам Платон, когда задумывал свою утопию, держал в голове современные ему
спартанские институты; и, несмотря на разницу в масштабе между оттоманскими и
спартанскими действиями, существует близкое сходство между «избранными
институтами», которыми каждый из этих народов обеспечил себя для совершения tour
de force.
Как мы уже заметили в самом первом приведенном в данном
«Исследовании» примере (см. с. 41), спартанцы дали специфический ответ на общий
вызов, брошенный эллинским государствам в VIII в. до н. э., когда население
Эллады стало слишком многочисленным, чтобы можно было обеспечить для него
достаточное количество средств к существованию. Обычным решением этой проблемы
оказывалась колонизация: расширение эллинской территории путем открытия новых
заморских земель и их завоевания и заселения за счет местных «варваров». Это
оказывалось довольно простым делом ввиду неэффективности варварского
сопротивления. Тем не менее спартанцы, почти единственные среди значительных
греческих общин не имевшие морского побережья, избрали вместо этого завоевание
своих греческих соседей, мессенцев[401]. Это действие
поставило их перед вызовом необычайной суровости. Первая Мессенская война
(около 736‑720 гг. до н. э.) была детской забавой по сравнению со Второй
Мессенской войной (около 650‑620 гг. до н. э.), в которой подчиненные мессенцы,
доведенные своим бедственным положением до отчаяния, восстали против своих
господ с оружием в руках. Хотя им и не удалось добиться свободы, мессенцы
преуспели в том, что отклонили в сторону весь ход спартанского развития.
Мессенский бунт был столь ужасающим опытом, что оставил спартанское общество
«крепко скованным нуждой и железом». С этого времени спартанцы никогда более не
могли ни расслабиться, ни выйти из состояния послевоенной реакции. Их
завоевание привело к пленению завоевателей, так же как эскимосы были порабощены
своим завоеванием арктического окружения. Подобно тому как эскимосы были
скованы суровостью годового жизненного цикла, спартанцы были скованы задачей
удержания в подчинении мессенских илотов[402].
Спартанцы для совершения своего tour de force
готовили себя тем же способом, что и османы, приспосабливая существующие
институты к удовлетворению новых потребностей. Но тогда как османы могли
черпать средства из богатого социального наследия кочевого образа жизни,
спартанские институты явились приспособлением самой примитивной социальной
системы дорийских варваров, вторгшихся в Грецию во время постминойского
Völkerwanderung'a. Эллинская традиция приписала это достижение Ликургу[403]. Но Ликург
был не человеком, но богом; и настоящими авторами этого достижения, возможно,
был целый ряд государственных деятелей, живших в VI в. до н. э.
В спартанской системе, равно как и в оттоманской, выдающейся
особенностью, объясняющей как ее эффективность, так и фатальную косность и
окончательный надлом, было грандиозное пренебрежение человеческой природой.
[Однако] спартанская άγωγή[404] не заходила столь далеко, сколь заходила
оттоманская рабская гвардия, в пренебрежении требованиями происхождения и
наследования; и свободные граждане‑землевладельцы Спарты находились в прямо
противоположной ситуации, нежели ситуация, в которой находились свободные
мусульманские землевладельцы Оттоманской империи. Фактически все обязанности по
утверждению спартанского господства над Мессенией легли на них. В то же время
внутри самой спартиатской гражданской организации строго насаждался принцип
равенства. Каждый спартиат получал от государства земельный надел одинаковой
величины и одинаковой производительности, и каждого из этих наделов,
обрабатывавшихся мессенскими рабами (илотами), было достаточно, чтобы
обеспечить содержание спартиата и его семьи и тем самым предоставить ему
возможность посвятить всю свою энергию военному искусству. Каждый спартиатский
ребенок, если ему не «давали отсрочку» по слабости здоровья и не оставляли на
произвол судьбы, начиная с семи лет был обречен на прохождение спартанского
курса военного обучения. Никаких поблажек не существовало, и девочки занимались
атлетикой наравне с мальчиками. Девочки, как и мальчики, обнаженными
участвовали в состязаниях на глазах у мужской публики, и спартанцы, по‑видимому,
достигли здесь сексуального самоконтроля или безразличия наподобие современных
японцев. Производство спартиатских детей контролировалось на жестких
евгенических принципах, и слабого мужа поощряли обращаться к лучшему самцу, чем
он сам, чтобы тот стал производителем детей для его семьи. Согласно Плутарху,
«в касающихся брака установлениях других законодателей он (Ликург. – К. К.)
усматривал глупость и пустую спесь. Те самые люди, рассуждал он, что стараются
случить сук и кобылиц с лучшими припускными самцами, суля их хозяевам и
благодарность, и деньги, жен своих караулят и держат под замком, требуя, чтобы
те рожали только от них самих, хотя бы сами они были безмозглы, ветхи годами,
недужны!»{68}.
Читатель заметит любопытную параллель между заметками о
спартанской системе Плутарха и уже цитированными отзывами Бусбека о рабской
гвардии османов.
Характерными чертами спартанской системы были те же, что и
оттоманской: надзор, отбор, специализация и дух соперничества; и в обоих
случаях эти черты не ограничивались стадией воспитания. В действующей армии
спартиат служил пятьдесят три года. В некоторых отношениях требования,
предъявляемые к нему, были более суровыми, чем требования, предъявляемые к
янычарам. Янычар отговаривали жениться, но если они все‑таки женились, им
разрешалось жить в кварталах для женатых. Спартиату, хотя его и заставляли
жениться, запрещали жить семейной жизнью. Даже после женитьбы он продолжал есть
и спать в своих казармах. Результатом явился почти невероятный и, несомненно,
мощный общественный дух, который англичанин находит неприятным и отталкивающим даже
под давлением военного времени и совершенно нетерпимым в другие периоды, дух,
благодаря которому слово «спартанский» с тех пор стало поговоркой. Иллюстрацией
одной стороны этого духа может служить история «трехсот» при Фермопилах[405] или история мальчика с лисенком[406]. С другой
стороны, мы должны помнить о том, что в течение последних двух лет спартиатские
мальчики, как правило, проходили обучение в секретной службе, которая была
просто официальной бандой убийц, по ночам патрулировавшей сельскую местность в
целях уничтожения всякого илота, проявлявшего признаки неповиновения или же, в
самом деле, беспокойный характер и инициативу в любом виде или форме.
«Одноколейный путь» развития гения спартанской системы
бросается в глаза всякому посетителю нынешнего Спартанского музея; ибо этот
музей совершенно не похож на любое другое собрание эллинских произведений
искусства. В подобных собраниях глаз посетителя ищет, находит и задерживается
на шедеврах классической эпохи, которая почти совпадает с V‑1V вв. до н. э.
Однако в Спартанском музее классическое искусство блистает своим отсутствием.
До‑классические экспонаты удивительно многообещающи, но если попытаться искать
продолжения, это окажется напрасным. Впоследствии идет полный провал, а за ним
– масса стандартизованных и невдохновенных произведений эллинистического и
римского периодов. Период, к которому раннее спартанское искусство внезапно
обрывается, относится приблизительно ко времени эфорства Хилона[407] в середине VI в. до н. э., и по этой причине
данного государственного деятеля часто считают одним из авторов [спартанской]
системы. Почти столь же внезапное возвращение художественных произведений в век
упадка последовало к 189‑188 гг. до н. э., когда система была насильственным
образом упразднена иноземными завоевателями. Любопытной иллюстрацией косности
системы является то, что она просуществовала еще на протяжении двух столетий
после того, как ее raison d'etre[408] исчез, – после того, как Мессения была
безвозвратно утеряна. Но еще до этой даты Аристотель написал эпитафию Спарте в
форме общего утверждения.
«О военных упражнениях граждан нужно заботиться не ради
того, чтобы они поработили тех, кто этого не заслуживает [то есть соотечественников‑греков,
а не “низшую породу без закона”, которую греки называли варварами]…
Законодатель должен преимущественно прилагать старания к тому, чтобы его
законодательство, касающееся и военного дела, и всего прочего, имело в виду
досуг и мир»{69}.
4. Общие черты
Две характерные черты, общие всем этим задержанным
обществам, сразу бросаются в глаза – это кастовость и специализация; и оба эти
явления можно выразить одной формулой: отдельные живые существа, составляющие
каждое из этих обществ, вовсе не являются единым типом, но распределяются между
двумя‑тремя резко различающимися категориями. В эскимосском обществе существуют
две касты: люди‑охотники и их собаки‑помощники, а в кочевническом обществе –
три: люди‑пастухи, их помощники‑животные и их скот. В оттоманском обществе мы
находим эквиваленты этих трех каст кочевнического общества, однако животные
заменены человеческими существами. Тогда как полиморфная социальная система
кочевников образовывала сочетание в едином обществе человеческих существ и животных,
которые бы не смогли выжить в степи без партнеров, оттоманская полиморфная
социальная система основывалась на противоположном процессе дифференциации
однородного от рождения человечества на человеческие касты, к которым
относились так, как будто это были различные виды животных; но для наших
нынешних целей это различие можно игнорировать. Эскимосская собака, лошадь и
верблюд кочевника наполовину очеловечены благодаря своему сотрудничеству с
человеком, тогда как подвластное население Оттоманской империи, райя
(что означает «стадо»), и лаконские илоты были наполовину дегуманизированы,
поскольку к ним относились как к скоту. Другие человеческие партнеры в этих
связях становятся «чудовищами». Совершенным спартиатом является марсианин,
совершенным янычаром – монах, совершенным кочевником – кентавр, совершенным
эскимосом – тритон. Вся суть различий между Афинами и их врагами, как заключает
Перикл в своей «Погребальной речи», состоит в том, что афинянин – это человек,
созданный по образу Бога, тогда как спартанец – военный робот. Что касается
эскимосов и кочевников, то описания, сделанные наблюдателями, сходятся в том,
что эти специалисты довели свое умение до такой точки, что человек‑лодка, в
одном случае, и человек‑лошадь – в другом, маневрируют как органическое целое.
Таким образом, эскимосы, кочевники, османы и спартиаты
достигли своего состояния, отказавшись, насколько это возможно, от бесконечного
разнообразия человеческой природы и приняв вместо нее негибкую животную
природу. Тем самым они вступили на путь регресса. Биологи говорят нам, что
животные виды, слишком хорошо адаптировавшиеся к чрезмерно специализированным
условиям окружающей среды, находятся в тупике и не имеют будущего в процессе
эволюции. В точности такой же является и судьба задержанных цивилизаций.
Аналогии с подобной судьбой предоставляют нам как
воображаемые человеческие общества, называемые утопиями, так и действительные
общества, созданные социальными насекомыми. Если мы углубимся в сравнение, то
обнаружим в муравейнике и пчелином улье, так же как в платоновском
«Государстве» или в «Прекрасном новом мире» Олдоса Хаксли, те же отличительные
черты, какие обнаружили во всех задержанных цивилизациях – наличие каст и
специализацию.
Социальные насекомые поднялись на свои нынешние социальные
вершины и оказались на этой высоте в тупике за много миллионов лет до того, как
Homo Sapiens начал подниматься выше среднего уровня и выбиваться из
разряда позвоночных. Что касается утопий, то они статичны ex hypothesi[409].
Ибо эти произведения всегда являются программами действия, маскирующимися под
личиной воображаемой описательной социологии; и действие, которое они
намереваются вызвать к жизни, почти всегда в определенной степени есть
«вбивание кольев» под современное общество, приходящее в упадок, который должен
привести к окончательному падению, если регрессирующее движение нельзя будет
задержать искусственно. Задержка регрессирующего движения является самым
большим, к чему стремится большинство утопий, поскольку утопии редко начинают
писать в том обществе, члены которого еще не утратили надежду на будущий
прогресс. Следовательно, почти во всех утопиях – за исключением
достопримечательного произведения английского гения, давшего всему
литературному жанру его название[410], – неодолимо
устойчивое равновесие является той целью, которой все остальные социальные цели
подчинены и, если требуется, принесены в жертву.
Это истинно по отношению к эллинским утопиям, которые
задумывались в Афинах в философских школах, возникших в эпоху, непосредственно
последовавшую за катастрофой Пелопоннесской войны[411].
Отрицательное вдохновение этих произведений глубоко враждебно афинской
демократии. Ибо после смерти Перикла демократия расторгла свой блистательный
союз с афинской культурой; она развивала безумный милитаризм, принесший
опустошение в тот мир, где процветала афинская культура; и она потерпела
неудачу в войне, вынеся смертный приговор невинному Сократу.
Первой заботой афинских философов послевоенного времени было
отказаться от всего, что в течение предыдущих двух столетий сделало Афины
великими в политическом отношении. Эллада, считали они, может сохраниться лишь
благодаря альянсу между афинской философией и спартанской социальной системой.
Приспосабливая спартанскую систему к своим собственным идеям, они стремились
усовершенствовать ее двумя способами: во‑первых, доводя ее разработку до
логических крайностей и, во‑вторых, накладывая высшую интеллектуальную касту
(платоновские «попечители»), созданную по подобию самих афинских философов, на
спартанскую военную касту, которую нужно было приучить играть вторую скрипку в
утопическом оркестре.
В своей терпимости к касте, в своем penchant[412] к специализации и в страсти к установлению
равновесия любой ценой афинские философы IV в. до н. э. показали себя
способными учениками спартанских государственных деятелей VI в. до н. э. В
вопросе о касте мысль Платона и Аристотеля заражена тем расизмом, который стал
одним из преобладающих пороков западного общества в последнее время.
Платоновская концепция «благородной лжи» – изощренное средство для внушения
мысли о том, что между одним человеческим существом и другим могут существовать
настолько же глубокие различия, как между одним животным видом и другим.
Аристотелевская защита рабства проводится на тех же основаниях. Аристотель
считает, что некоторым людям «от природы» предназначено быть рабами, хотя и
признает, что в действительности многим рабам следовало бы быть свободными, а
многим свободным – рабами.
В платоновской и аристотелевской утопиях («Государство» и
«Законы» Платона и последние две книги «Политики» Аристотеля) целью является не
счастье индивида, но стабильность общины. Платон объявляет об изгнании [из
государства] поэтов – мнение, которое могло бы выйти из уст спартанского
надзирателя, и оправдывает всеобщую цензуру над «опасной мыслью», имеющую
современные аналогии в директивах коммунистической России, национал‑социалистской
Германии, фашистской Италии и синтоистской Японии.
Утопическая программа оказалась безнадежным предприятием для
спасения Эллады, и ее бесплодие было продемонстрировано экспериментально еще до
того, как эллинская история прошла своим чередом, при помощи массовой продукции
искусственно созданных республик, в которых основные утопические правила должным
образом были осуществлены на практике. Одна‑единственная республика,
учрежденная на клочке пустынной земли на Крите, существование которой
постулировали платоновские «Законы», была действительно размножена тысячекратно
в городах‑государствах, основанных Александром и Селевкидами in partibus
Orientalium[413] и римлянами in partibus Barbarorum[414] в течение следующих четырех столетий. В этих
«утопиях в реальной жизни» небольшие группы греков и италийцев, достаточно
удачливых, чтобы попасть в списки колонистов, освобождались для решения
культурной задачи просвещения внешней тьмы светом эллинизма, поручая
многочисленной рабочей силе «туземцев» выполнять всю грязную работу. Римской
колонии в Галлии могла быть подарена вся территория и все жители варварского
племени. Во II столетии по Рождестве Христове, когда эллинский мир наслаждался
своим «бабьим летом», которое современники и даже последующие поколения долгое
время ошибочно принимали за золотой век, казалось, что наиболее дерзкие
платоновские надежды сбылись и даже превзойдены. С 96 по 180 г. ряд
философовцарей[415] занимали престол, господствовавший над всем
эллинским миром, и тысячи городов‑государств жили бок о бок в мире и согласии
под этой философско‑имперской эгидой. Однако прекращение бедствий было лишь
паузой, ибо за поверхностью не все было так хорошо. Неуловимая цензура,
вдохновляемая атмосферой социального окружения более эффективно, чем мог бы
навязать императорский декрет, уничтожала интеллектуальную и художественную
жизненность столь усиленно, что смутила бы и Платона, если бы он смог вернуться
и посмотреть, сколь буквально реализуются его причудливые предписания. И за
невдохновенным респектабельным процветанием II столетия последовала хаотическая
несдержанная нищета III столетия, когда феллахи обернулись и разорвали своих
хозяев. КIV столетию роли полностью переменились, ибо некогда привилегированный
правящий класс римских муниципалитетов, насколько он вообще сохранился, теперь
повсюду был посажен на цепь. В призванных членах городских муниципалитетов
Римской империи, привязанных цепями к своим конурам и с болтающимися между ног
хвостами, in extremis[416] с трудом можно узнать идеологических потомков
великолепных «человеческих сторожевых псов» Платона.
Если в заключение мы взглянем лишь на некоторые из
многочисленных современных утопий, то обнаружим те же самые, характерные для Платона,
черты. «Прекрасный новый мир» г‑на Олдоса Хаксли, написанный в сатирическом
ключе, – более отталкивающий, нежели привлекающий, – начинается с
предположения, что современный индустриализм может быть приемлем только при
жестком делении на «природные» касты. Это достигается с помощью сенсационного
развития биологии, дополненной психологическими техниками. Результатом
становится расслоение общества на альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны,
которые являют собой не что иное, как платоновскую выдумку или же реальные
достижения османов, доведенные до крайности, с той лишь разницей, что
алфавитные касты господина Хаксли улучшены до того, что реально становятся
множеством различных видов «животных», наподобие человеческих, собачьих и
травоядных видов, сотрудничающих в кочевническом обществе. Эпсилоны,
выполняющие грязную работу, действительно любят ее и не хотят ничего другого.
Они были созданы такими в лаборатории по произведению потомства. «Первые люди
на Луне» г‑на Уэллса изображают общество, в котором «каждый гражданин знает
свое место. Он рождается для него, и тщательная дисциплина воспитания,
образования, а также хирургическая операция, которой он подвергается,
приспосабливают его, в конце концов, столь полно для этого места, что у него
нет ни идей, ни органов для любой другой цели за его пределами».
Типичным и, кроме того, интересным с несколько иной точки
зрения является «Едгин» Сэмюеля Батлера[417]. За четыреста
лет до визита рассказчика едгинцы осознали, что порабощены своими механическими
изобретениями. Соединение человека и машины постепенно приводило к появлению
нечеловеческого существа наподобие человека‑лодки эскимосов и человека‑лошади
кочевников. Поэтому они превратили свои машины в лом и искусственно
поддерживали свое общество на уровне, достигнутом до начала индустриального
века.
* * *
Примечание. Море и степь как языковые проводники
В начале нашего исследования кочевого образа жизни мы
заметили, что степь, как и «бесплодное море», хотя и не обеспечивает места
отдыха для оседлого человечества, предоставляет большие возможности для
передвижения и перевозок, чем обрабатываемые земли. Это сходство между морем и
степью поясняется их функцией языковых проводников. Хорошо известно, что народ‑мореход
склонен распространять свой язык по берегам всякого моря или океана, который он
сам сделал своим домом. Древнегреческие моряки некогда ввели греческий язык в
обращение по всему Средиземноморью. Героизм малайского мореплавания
распространил малайскую языковую семью вплоть до Мадагаскара и Филиппин. В
Тихом океане на полинезийском языке еще говорят с необыкновенным единообразием
от Фиджи до острова Пасхи и от Новой Зеландии до Гавайских островов, хотя
прошло немало поколений с тех пор, когда полинезийские каноэ регулярно
пересекали огромные пространства, разделяющие эти острова. С другой стороны,
именно благодаря тому, что «Британия правит морями»[418], английский
язык стал за последнее время языком международного общения.
Соответствующее распространение языков вдоль возделываемых
берегов степи благодаря движению кочевых «моряков» степи подтверждается
географическим распределением четырех живых языков, или языковых групп:
берберской, арабской, тюркской и индоевропейской.
На берберских языках говорят сегодня кочевники Сахары, а
также оседлые народы северного и южного ее побережий. Естественно предположить,
что северные и южные ветви этой языковой семьи были распространены в пределах
их нынешних владений бербероязычными кочевниками, вторгшимися в прошлом из
пустыни в область возделываемых земель в обоих направлениях.
Подобным же образом на арабском сегодня говорят не только на
северном побережье Аравийской степи, в Сирии и Ираке, но также и на южном ее
побережье – в Хадрамауте[419] и Йемене и на западном – в долине Нила. Он был
также перенесен далее на запад из долины Нила в берберские владения, где на нем
сегодня говорят вплоть до североафриканского побережья Атлантики и северного
берега озера Чад.
Тюркский язык распространился по различным берегам
Евразийской степи, и на разных его диалектах сегодня говорят на солидной части
центральноазиатской территории, простирающейся от восточного побережья
Каспийского моря до озера Лобнор и от северного эскарпа Иранского нагорья до
западного фасада Алтайских гор.
Это нынешнее распространение тюркской языковой семьи дает
ключ к объяснению нынешнего распространения индоевропейской семьи, ныне столь
странным образом разделившейся (как подразумевает ее название) на две
изолированные географические группы, одна из которых поселилась в Европе, а
другая – в Иране и Индии. Нынешняя лингвистическая карта распространения
индоевропейских языков станет понятной, если мы предположим, что языки этой
семьи первоначально распространялись кочевниками, являвшимися жителями
Евразийской степи еще до того, как распространители тюркских языков устроили
там свой дом. И Европа, и Иран имеют свои «побережья» Евразийской степи, и этот
великий безводный океан является природным посредником сообщения между ними.
Единственная разница между этим и тремя другими прежде упоминавшимися случаями
заключается в том, что в данном случае языковая группа утратила свою власть над
промежуточным степным регионом, по которому некогда распространилась.
X.
Природа роста цивилизаций
1. Два ложных следа
В результате наблюдения мы обнаружили, что наиболее
стимулирующим является вызов средней степени между избытком суровости и ее
недостатком, поскольку недостаточный вызов совсем не сможет стимулировать
противоположную сторону, тогда как чрезмерный вызов может сломить ее дух. Но
что можно сказать о вызове, на который эта сторона способна ответить? На первый
взгляд, это наиболее стимулирующий вызов, какой только можно себе представить;
и на конкретных примерах полинезийцев, эскимосов, кочевников, османов и
спартанцев мы уже наблюдали, что подобные вызовы способны породить tour de
force. Вместе с тем мы наблюдали, что уже в следующей главе истории за эти tours
de force наступала (для тех, кто их осуществлял) неизбежная расплата в
форме задержки их развития. Поэтому при более внимательном рассмотрении мы
должны вынести решение, что непосредственный мощный ответ далеко не всегда
является окончательным критерием того, оптимален ли любой данный вызов, если
рассматривать его с точки зрения целого и с точки зрения конечного ответа.
Действительно оптимальным является тот вызов, который побуждает противоположную
сторону не только к достижению единого успешного ответа, но также к
приобретению импульса, который направит ее дальше: от достижения – к новой
борьбе, от решения одной проблемы – к постановке другой, от Инь – снова к Ян.
Одиночного ограниченного движения от беспокойства к восстановлению равновесия
недостаточно, чтобы за возникновением последовал рост. Чтобы задать движению
повторяющийся, периодический ритм, необходим elan vital[420],[421] (пользуясь термином Бергсона), который выведет
группу из состояния равновесия, бросив ей новый вызов и тем самым вдохновив на
новый ответ в форме дальнейшего равновесия, кончающегося дальнейшей его
потерей, и так далее в прогрессии, которая потенциально бесконечна.
Этот elan (порыв), прокладывая себе дорогу через ряд
неустойчивых состояний, можно обнаружить в ходе развития эллинской цивилизации
с момента ее возникновения вплоть до зенита в V в. до н. э.
Первым вызовом, брошенным новорожденной эллинской
цивилизации, явился вызов хаоса и древней ночи. Распад отеческого минойского
общества оставил после себя столпотворение социальных осколков – оставшихся на
необитаемом острове минойцев и сидящих на мели ахейцев и дорийцев. Суждено ли
осадку старой цивилизации быть похороненным под слоем гальки, которую новый
поток варварства принес вместе с собой? Будет ли над редкими в ахейском
ландшафте клочками низменностей господствовать дикость горной местности,
окружающей их кольцом? Окажутся ли мирные земледельцы равнин во власти горных
пастухов и разбойников?
На этот первый вызов был дан победоносный ответ; было
решено, что Эллада станет миром городов, а не деревень, земледелия, а не
пастушества, порядка, а не анархии. Однако сам успех этого ответа на первый
вызов поставил победителей перед вторым. Ибо победа, которая гарантировала
мирное занятие земледелием в низменностях, дала импульс росту населения, и этот
импульс едва не привел в тупик, когда население достигло максимальной
плотности, которую бы могло обеспечить земледелие на эллинской родине. Таким
образом, сам успех ответа на первый вызов поставил зарождающееся эллинское
общество перед вторым, и на этот мальтузианский вызов[422], был дан
столь же успешный ответ, как и на вызов хаоса.
Эллинский ответ на вызов перенаселения принял форму ряда
альтернативных экспериментов. Самое легкое и наиболее очевидное средство было
усвоено сразу и применялось до тех пор, пока не начало приводить к уменьшению
отдачи. Затем вместо первого было усвоено и применено более трудное и менее
очевидное средство, которое на этот раз привело к решению проблемы.
Первым методом явилось использование технических приемов и
институтов, которые эллинские жители низменностей создали у себя на родине в
процессе навязывания своей воли соседям, жившим на возвышенностях, чтобы
завоевать [впоследствии] новые владения для эллинизма за морем. Обладая таким
мощным военным инструментом, как фаланга гоплитов, и таким мощным политическим
инструментом, как город‑государство, толпы эллинских первопроходцев основали
Великую Грецию в южной части Италии за счет варваров‑италийцев и хонов, новый
Пелопоннес в Сицилии за счет варваров‑сикелов, новый эллинский Пентаполь в
Киренаике за счет варваров‑ливийцев и Халкидику на северном побережье Эгейского
моря за счет варваров‑фракийцев. Однако сам успех ответа еще раз навлек на
победителей новый вызов. Ибо то, что они совершили, само явилось вызовом
средиземноморским народам; и в конечном счете неэллинские народы получили
стимул для того, чтобы завести экспансию Эллады в тупик: частично благодаря
сопротивлению эллинской агрессии при помощи заимствованных у эллинов же
искусств и оружия, а частично благодаря взаимодействию своих собственных сил в
большем масштабе, чем могли достичь сами эллины. Таким образом, эллинская
экспансия, начавшаяся в VIII в. до н. э., зашла в тупик в ходе VI в. Однако
перед эллинским обществом все еще стоял вызов перенаселенности.
В этом новом кризисе эллинской истории необходимое открытие
сделали Афины, ставшие «школой Эллады» благодаря изучению и обучению тому, как
преобразовать экспансию эллинского общества из экстенсивного процесса в
интенсивный – значительное преобразование, о котором нам придется еще сказать
позднее в данной главе. Этот афинский ответ уже был описан выше (см. с. 41), и
в его описании здесь нет нужды.
Этот ритм роста ухватил Уолт Уитмен[423], когда писал:
«В природе вещей предусмотрено, что из всякого успешного осуществления, не
важно чего, выйдет нечто, что сделает необходимой еще большую борьбу», и в
более пессимистическом тоне – его викторианский современник Уильям Моррис[424], когда писал:
«Я размышлял о том… как люди сражаются и проигрывают сражение, о том, что,
несмотря на их поражение, то, за что они сражались, наступает, а когда оно
наступает, то оказывается совсем не тем, что они имели в виду, и другим людям
приходится сражаться за то, что они подразумевали под другим именем».
Цивилизации, казалось бы, растут благодаря elan
(порыву), который влечет их от вызова через ответ к дальнейшему вызову, и этот рост
имеет как внешний, так и внутренний аспекты. В макрокосме рост обнаруживает
себя как прогрессивное овладение внешним окружением; в микрокосме – как
прогрессивное самоопределение, или самовыражение. В обоих проявлениях мы имеем
вероятный критерий прогресса самого elan (порыва). Давайте исследуем по
очереди каждое из проявлений с этой точки зрения.
Рассмотрев сначала прогрессивное завоевание внешнего
окружения, мы обнаружим, что удобно будет подразделить внешнее окружение на
человеческое, состоящее для любого общества из других человеческих обществ, с
которыми оно находится в контакте, и на природное, устанавливаемое
нечеловеческой природой. Прогрессивное завоевание человеческого окружения
обычно будет выражаться в форме географического расширения данного общества,
тогда как прогрессивное завоевание нечеловеческого окружения – в форме
технических усовершенствований. Давайте начнем с первого, а именно с
географической экспансии, и посмотрим, насколько она заслуживает того, чтобы ее
рассматривать в качестве адекватного критерия настоящего роста цивилизации.
Наши читатели вряд ли поспорят с нами, если мы сразу же, не
заботясь о привлечении обширных неоспоримых фактов, скажем, что географическая
экспансия, или «закрашивание карты в красный цвет», не является критерием
какого бы то ни было реального роста цивилизации. Иногда мы обнаруживаем, что
период географической экспансии совпадает по времени с качественным прогрессом
и является его частичным проявлением (как в случае с ранней эллинской
экспансией, уже упоминавшемся в другой связи). Чаще географическая экспансия
сопутствует настоящему упадку и совпадает со «смутным временем» или
универсальным государством, которые являются стадиями упадка и распада. Причину
долго искать не приходится. «Смутное время» порождает милитаризм, который
является искаженным направлением человеческого духа по каналам взаимного
уничтожения, и наиболее успешный милитарист становится, как правило,
основателем универсального государства. Географическая экспансия – побочный
продукт этого милитаризма, появляющийся в промежутках, когда могущественные
герои прекращают нападения на своих противников внутри собственного общества,
чтобы совершать набеги на соседние общества.
Милитаризм, как мы увидим позднее в данном «Исследовании»,
был самой обычной причиной надломов цивилизаций на протяжении тех последних
четырех‑пяти тысячелетий, которые явились свидетелями нескольких десятков
надломов, зарегистрированных вплоть до настоящего времени. Милитаризм
надламывает цивилизацию, заставляя местные государства, в которые объединено
общество, вступать друг с другом в гибельные братоубийственные конфликты. В
этом самоубийственном процессе весь общественный строй становится топливом,
питающим пожирающее пламя в медной груди Молоха[425]. Это
единственное искусство войны развивается в ущерб иным, мирным искусствам; и еще
до того, как этот погребальный ритуал завершит уничтожение всех его адептов,
они могут стать столь опытными в применении орудий убийства, что если им
случится на мгновение остановиться в своей оргии взаимного уничтожения и на
некоторое время повернуть оружие против своих врагов, они, вероятно, сметут на
своем пути все.
Действительно, изучение эллинской истории могло бы
подтвердить вывод, прямо противоположный тому, который мы отвергли. Мы уже
отмечали, что на одной стадии своей истории эллинское общество ответило на
вызов перенаселенности географической экспансией и что примерно после двух
веков экспансии (приблизительно с 750 по 550 г. до н. э.) она была остановлена
окружающими неэллинскими силами. Впоследствии эллинское общество защищалось от
нападения персов с востока на своей родине и от нападения карфагенян на западе
в своих недавно приобретенных владениях. На протяжении этого периода, как видел
его Фукидид, «развитию Эллады долгое время мешали различные препятствия»{70},
и, как видел его Геродот, «Эллада испытала больше невзгод, чем за двадцать
поколений до Дария»{71}. Современный читатель с трудом может
осознать, что в этих меланхолических сентенциях два величайших греческих
историка описывают ту эпоху, которая, с точки зрения последующих поколений,
выделяется в ретроспективе как «акмэ» эллинской цивилизации, ту эпоху, в
которой эллинский гений обессмертил себя великими творческими свершениями во
всех сферах общественной жизни. Геродот и Фукидид ощущают творческую эпоху
именно таким образом, потому что это была эпоха, в которой, в противоположность
предшествующей, географическая экспансия Эллады сдерживалась. Однако не может
быть и речи о том, что в это столетие elan (порыв) роста эллинской
цивилизации был большим, чем до или после. А если бы эти историки были одарены
сверхчеловеческой продолжительностью жизни и могли бы увидеть последующие
события, то они изумились бы, наблюдая, что за надломом, отмеченным
Пелопоннесской войной, последовал новый взрыв географической экспансии –
экспансии эллинизма на суше, начатой Александром и далеко превосходящей по
своему физическому масштабу предшествующую по времени морскую экспансию Эллады.
В течение двух столетий, последовавших за переправой Александра через
Геллеспонт, эллинизм получил распространение в Азии и долине Нила за счет всех
других цивилизаций, с которыми он здесь встретился, – сирийской, египетской,
вавилонской и индской. И примерно через два столетия после этого он продолжал
распространяться под эгидой Рима во внутренних варварских районах Европы и
Северо‑Западной Африки. Однако это были столетия, в течение которых эллинская
цивилизация явным образом вошла в процесс распада.
История почти каждой цивилизации предоставляет примеры
географической экспансии, совпадающей с ухудшением качества. Мы остановимся
лишь на двух.
Минойская культура достигла наибольшего радиуса своего
излучения в той фазе, которую наши современные археологи относят к
«позднеминойской III». Эта фаза начинается не позднее разграбления Кносса около
1425 г. до н. э., т. е. не позднее катастрофы, в которой минойское
универсальное государство, «талассократия Миноса», распалось и уступило место
междуцарствию, во время которого минойское общество обанкротилось. На всех
материальных продуктах минойской культуры, датируемых начиная с третьей фазы
позднеминойского периода, стоит столь явное клеймо декаданса, что складывается
впечатление, будто по географическому распространению эти продукты перегнали
все предшествующие минойские продукты. Это выглядит так, словно бы ухудшение
качества ремесла было той ценой, которую пришлось заплатить за расширение
производства.
В истории древнекитайского общества, предшественника
общества дальневосточного, мы встречаем почти то же самое. В течение эпохи
роста владения древнекитайской цивилизации не распространялись далее бассейна
Хуанхэ. И как раз в «смутное время» – в «период борющихся царств», как называют
его китайцы, – древнекитайский мир включил в свой состав бассейн реки Янцзы на
юге и равнины по ту сторону Пейхо[426] – с противоположной стороны. Цинь Шихуанди,
основатель древнекитайского универсального государства, распространил свои
политические границы вплоть до линии, отмеченной Великой Китайской стеной;
династия Хань, продолжившая труды императора Цинь Шихуанди, продвинула границы
дальше на юг. Таким образом, и в древнекитайской истории периоды географической
экспансии и социального распада совпадают.
Наконец, если мы обратимся к еще незавершенной истории нашей
собственной западной цивилизации и рассмотрим ее начальную экспансию за счет
недоразвившихся дальнезападной и скандинавской цивилизаций, ее экспансию от
Рейна до Вислы за счет североевропейского варварства и от Альп до Карпат за
счет венгерского авангарда евразийских кочевников, а также последующую
заморскую экспансию во все уголки Средиземноморского бассейна от Гибралтарского
пролива до устий Нила и Дона в ходе широко распространившегося, хотя и
мимолетного движения завоевания и торговли, для которого наиболее подходящим и
кратким названием будет «крестовые походы» («the Crusades»), то мы можем
согласиться, что все эти процессы, как и начальная заморская экспансия Эллады,
являются примерами географического расширения, которое ни сопровождалось, ни
повлекло за собой какую‑либо задержку в увеличении подлинного роста
цивилизации. Но когда мы исследуем возобновившуюся и продолжающуюся до сих пор
всемирную экспансию последних столетий, то можем лишь останавливаться и
удивляться. Вопрос, который нас так беспокоит, это вопрос, на который в наше
время ни один мудрый человек не может дать уверенного ответа.
Теперь мы перейдем к следующему разделу нашей темы и
рассмотрим, может ли прогрессивное завоевание природного окружения при помощи
технических усовершенствований быть адекватным критерием подлинного роста
цивилизации. Существуют ли факты положительной взаимозависимости между
техническими усовершенствованиями и прогрессом социального роста?
Эта взаимозависимость считается доказанной в классификации,
введенной современными археологами, где предполагаемый ряд стадий в
усовершенствовании материальной техники берется в качестве показателя
соответствующей последовательности глав в прогрессе цивилизации. В этой
мыслительной схеме человеческий прогресс представлен в качестве ряда «эпох»,
различающихся по технологическим ярлыкам: эпоха палеолита, эпоха неолита, медно‑каменный
век, медный век, бронзовый век, железный век, к которым можно добавить машинный
век, в котором сами мы имеем честь жить. Несмотря на широкое распространение
этой классификации, неплохо было бы критически пересмотреть ее претензию на
[истинное] представление стадий в прогрессе цивилизаций; ибо даже не прибегая к
какой бы то ни было серьезной эмпирической проверке, мы можем указать на
несколько оснований, по которым она является подозрительной a priori.
В первую очередь она подозрительна по причине самой своей
популярности, ибо апеллирует к предрассудкам общества, очарованного своими
собственными недавними техническими победами. Ее популярность является
иллюстрацией того несомненного факта (взятого в качестве отправной точки для
первой главы данного «Исследования»), что каждое поколение склонно
конструировать свою историю прошлого в соответствии с собственной эфемерной
мыслительной схемой.
Вторая причина для критического отношения к технологической
классификации социального прогресса заключается в том, что эта классификация
является очевидным примером склонности исследователя становиться рабом
отдельных материалов исследования, случайно оказавшихся в его руках. С научной
точки зрения может оказаться чистой случайностью то, что материальные орудия,
созданные для себя «доисторическим» человеком, сохранились, тогда как
произведения его душевной жизни, его институты и идеи, погибли. Действительно,
если этот умственный аппарат задействован, он играет в жизни людей гораздо
более важную роль, чем любой материальный аппарат; однако поскольку отброшенный
за ненадобностью материальный аппарат оставляет, а душевный – не оставляет
материальных обломков, и поскольку занятием археолога является именно изучение
оставленных человеком обломков в надежде извлечь из них знание [обо всей]
человеческой истории, ум археолога имеет тенденцию изображать Homo Sapiens
лишь в его второстепенной роли Homo Faber. Обращаясь к фактам, мы
находим примеры технических усовершенствований и в тех случаях, когда
цивилизации остаются статичными или же склоняются к упадку, равно как и примеры
противоположной ситуации, когда техника остается статичной, а цивилизации
находятся в движении, которое может быть как прогрессирующим, так и
регрессирующим.
Например, каждая из задержанных цивилизаций достигла
высокого уровня развития техники. Полинезийцы были выдающимися мореплавателями,
эскимосы – рыбаками, спартанцы – воинами, кочевники – дрессировщиками лошадей,
османы – дрессировщиками людей. Все это случаи, в которых цивилизации
оставались статичными, в то время как техника совершенствовалась.
Примером усовершенствования техники и одновременного упадка
цивилизации является контраст между верхним палеолитом в Европе и нижним
неолитом, непосредственно предшествовавшим ему в технологическом ряду.
Верхнепалеолитическое общество довольствовалось грубыми орудиями труда, но
развивало тонкое эстетическое чувство и не пренебрегало открытием некоторых
простых средств художественного выражения. Искусные и живые наброски углем
животных, сохранившиеся на стенах пещерных жилищ палеолитического человека, вызывают
в нас восхищение. Общество нижнего неолита прилагало бесчисленные усилия, чтобы
обеспечить себя тонко отшлифованными орудиями и, возможно, использовало их в
борьбе за существование с палеолитическим человеком, в которой Homo Pictor[427] был побежден и оставил поле битвы за Homo
Faber. Во всяком случае, изменение, открывшее замечательный прогресс в
области техники, является определенной неудачей в области цивилизации, ибо
искусство верхнепалеолитического человека умерло вместе с ним.
Майянская цивилизация в технологическом отношении тоже
никогда не продвинулась за пределы каменного века, тогда как аффилированные
мексиканская и юкатанская цивилизации сделали выдающиеся успехи в обработке
различных металлов в течение пяти столетий, предшествовавших испанскому
завоеванию. Однако не может быть никакого сомнения в том, что майянское
общество достигло гораздо более утонченного уровня развития цивилизации, нежели
два самых посредственных общества, являющихся дочерними по отношению к нему.
Прокопий Кесарийский[428], последний из
великих греческих историков, начинает свою историю войн императора Юстиниана[429] – войн, которые фактически прозвучали
похоронным звоном по эллинскому обществу, – с заявления о том, что его тема
является гораздо интереснее по сравнению с теми, что выбирали его
предшественники, поскольку современная ему военная техника далеко превосходит
технику, использовавшуюся во всех прежних войнах. Действительно, если бы мы
могли отделить историю военной техники от других нитей эллинской истории, то
обнаружили бы непрерывный прогресс от начала до конца – в течение периода роста
этой цивилизации и далее, в течение периода ее упадка; и мы обнаружили бы
также, что каждый шаг в ходе этого технического прогресса стимулировался
событиями, гибельными для цивилизации.
Начать с того, что изобретение спартанской фаланги[430], первого
зарегистрированного выдающегося усовершенствования эллинов в военной технике,
явилось итогом Второй Мессенской войны, которая привела развитие эллинской
цивилизации в Спарте к преждевременной остановке. Следующим выдающимся
усовершенствованием было разделение эллинских пехотинцев на два крайних типа:
македонского фалангиста и афинского пелтаста[431]. Македонская
фаланга, вооруженная длинными двуручными пиками вместо коротких одноручных
копий, была более грозной в нападении, чем ее спартанская предшественница, но
вместе с тем и более неповоротливой и уязвимой, если вдруг теряла строй. Она не
могла начинать действовать безопасно, пока ее фланги не были защищены
пелтастами, новым типом легких пехотинцев, которых выбирали из строя и обучали
в качестве застрельщиков. Это второе усовершенствование явилось результатом
столетия смертельной войны – от вспышки Пелопоннесской войны до македонской
победы над фиванцами и афинянами при Херонее (431‑338 гг. до н. э.)[432] – столетия, ставшего свидетелем первого
надлома эллинской цивилизации. Следующее выдающееся усовершенствование было
сделано римлянами, когда им удалось соединить достоинства и избежать
недостатков пелтастов и фалангистов в тактике и вооружении легионера.
Легионеры были вооружены парой копий и колющим мечом и шли в
атаку открытым строем двумя волнами, в то время как третья волна, вооруженная и
построенная в стиле старой фаланги, находилась в резерве. Это третье
усовершенствование явилось результатом нового приступа смертельной войны – от
вспышки в 220 г. до н. э. войны с Ганнибалом до окончания Третьей Македонской
войны в 168 г. до н. э.[433] Четвертым и последним достижением стало
усовершенствование легиона – процесс, начатый Марием и завершенный Цезарем[434], результат
столетия римских переворотов и гражданских войн, закончившегося установлением
Римской империи в качестве эллинского универсального государства.
Юстиниановский катафракт[435] – всадник в панцире на закованной в доспехи
лошади, которого Прокопий представляет читателям в качестве шедевра эллинской
военной техники, – не является дальнейшей ступенью в местной эллинской линии
развития. Катафракт был попыткой последних поколений эллинского общества,
находившихся в состоянии упадка, приспособить военный инструмент иранских
современников, соседей и противников, которые впервые заставили Рим осознать
свою отвагу, разбив Красса при Каррах в 55 г. до н. э.[436]
Но военное искусство является далеко не единственным видом
техники, прогрессирующим обратно пропорционально общему прогрессу социальной
системы. Давайте рассмотрим технику, которая весьма удалена от военного
искусства: технику земледелия, рассматриваемую обычно в качестве высшего
мирного искусства par excellence. Если мы вернемся к эллинской истории,
то обнаружим, что технические усовершенствования в этом искусстве были
аккомпанементом к упадку цивилизации.
Вначале мы, возможно, натолкнемся на иное развитие сюжета.
Если за первое усовершенствование в эллинском военном искусстве отдельной,
открывшей его общине пришлось заплатить задержкой своего роста, то первое
сравнимое с ним усовершенствование в эллинском земледелии имело более
счастливое продолжение. Когда по инициативе Солона[437] Аттика показала пример перехода от режима
смешанного сельского хозяйства к режиму специализированного земледелия,
ориентированного на экспорт, за этим техническим улучшением последовал взрыв
энергии и роста во всех сферах аттической жизни. Следующей ступенью в техническом
прогрессе стало расширение масштабов работ через организацию массового
производства, основанного на рабском труде. Этот шаг, по‑видимому, был сделан в
колониальных эллинских общинах на Сицилии и впервые, возможно, в Агригенте,
поскольку именно сицилийские греки нашли расширяющийся рынок сбыта для своего
вина и масла среди соседних варваров. Однако здесь технический прогресс был
компенсирован тяжелым социальным спадом, ибо новое плантационное рабство
явилось гораздо более серьезным социальным злом, чем старое домашнее рабство.
Оно было хуже как морально, так и статистически. Оно было безлично и
бесчеловечно и получило массовый характер. Со временем оно распространилось из
греческих общин на Сицилии на огромное пространство Южной Италии, заброшенной и
опустошенной в результате войны с Ганнибалом. Где бы оно ни утверждалось, оно
значительно увеличивало производительность земли и доходы капиталиста, однако
делало землю социально бесплодной; ибо где бы ни распространялись рабские
плантации, они вытесняли и доводили до нищеты крестьян так же неумолимо, как
фальшивые деньги вытесняют настоящие. Социальным следствием явилось уменьшение
населения сельской местности и создание паразитического городского пролетариата
в городах, и в особенности в самом Риме. Все попытки последующих поколений
римских реформаторов, начиная с братьев Гракхов, не могли помочь римскому миру
избавиться от этого социального упадка, который вызвали последние успехи в
сельскохозяйственной технике. Система плантационного рабства сохранялась до тех
пор, пока не была неожиданно разрушена в результате кризиса денежной экономики,
от которой зависели ее прибыли. Этот финансовый кризис явился частью общего
социального debacle (разгрома) III столетия после Рождества Христова, а
этот debacle отчасти, несомненно, – результатом той аграрной болезни,
которая разъедала ткани римской социальной системы на протяжении предшествующих
четырех веков. Таким образом, социальная раковая опухоль в конце концов
уничтожила себя, явившись причиной смерти того общества, на котором произросла.
Развитие плантационного рабства в хлопковых штатах
Американского Союза в результате усовершенствования техники производства
хлопковых изделий в Англии является еще одним, самым известным примером того же
порядка. Гражданская война в Америке вырезала раковую опухоль, насколько это
касается самого факта рабства, однако никоим образом не искоренила социальные
пороки, подразумевающие существование расы свободных людей негритянского
племени среди американского общества, имеющего иное, европейское происхождение.
Отсутствие взаимосвязи между прогрессом в технике и
прогрессом цивилизации очевидно во всех тех случаях, где техника
совершенствовалась, а цивилизация оставалась неизменной или же терпела неудачу.
Однако это же отсутствие взаимосвязи очевидно и в тех случаях, которые нам
придется рассмотреть далее, где техника остается неизменной, а цивилизация
движется или вперед, или назад.
Например, огромный шаг вперед в человеческом прогрессе был
сделан в Европе между периодами нижнего и верхнего палеолита.
«Верхнепалеолитическая культура связана с концом четвертого
ледникового периода. На местах стоянок неандертальского человека мы находим
остатки нескольких типов, ни один из которых не имеет ничего общего с
неандертальским человеком. Напротив, все они более или менее приближаются к
современному человеку. Когда мы глядим на окаменевшие останки этого века в
Европе, нам кажется, что мы переходим в современность, если судить по формам
человеческого тела»{72}.
Это преображение человеческого типа в середине палеолита
является, возможно, самым эпохальным событием, когда‑либо происходившим в ходе
человеческой истории; ибо к этому времени недочеловеку удалось превратиться в
человека, тогда как человеку за все время, что прошло с момента достижения
недочеловеком человеческого уровня, никогда еще не удавалось достичь уровня
сверхчеловеческого. Это сравнение позволяет оценить произведенный психический
прогресс, когда был превзойден Homo Neanderthalensis[438] и появился Homo Sapiens. Однако эта
колоссальная психическая революция не сопровождалась соответствующей революцией
в технике; так что придерживаясь технологической классификации, чувствительных
художников, писавших в верхнепалеолитических пещерах картины, которыми мы все
еще продолжаем восхищаться, приходится смешивать с «недостающим звеном», тогда
как в действительности этого Homo Palaeolithicus Superior[439] отделяет от Homo Palaeolithicus Inferior[440] такая же огромная пропасть, как и от нашего
современного Homo Mechanicus[441].
Этот пример, в котором техника оставалась неизменной, а
общество двигалось вперед, находит свою противоположность в тех случаях, когда
техника оставалась неизменной, а общество деградировало. Например, техника
производства железа, первоначально введенная в употребление в эгейском мире в
момент великого социального спада, когда минойское общество приближалось к
распаду, оставалась неизменной – ни совершенствуясь, ни ухудшаясь – вплоть до
следующего великого социального спада, когда эллинская цивилизация последовала
за своей минойской предшественницей. Западный мир унаследовал технику
производства железа от римского мира в нетронутом виде, так же как латинский
алфавит и греческую математику. В социальном плане произошел катаклизм.
Эллинская цивилизация распалась на части, и последовало междуцарствие, из
которого в конце концов возникла новая западная цивилизация. Однако
соответствующего разрыва в преемственности трех этих техник не наблюдается.
2. Движение к самоопределению
История развития техники, подобно истории географической
экспансии, не смогла обеспечить критерий роста цивилизаций, но зато открыла для
нас принцип, согласно которому управляется технический прогресс и который можно
описать как закон прогрессирующего упрощения. На смену тяжелому и громоздкому
паровому двигателю с его тщательно разработанным «постоянным путем» пришел
легкий и компактный двигатель внутреннего сгорания, который может перемещаться
по дорогам со скоростью железнодорожного поезда и обладает почти такой же
свободой передвижения, как пешеход. Проволочный телеграф заменяется
беспроволочным. На смену немыслимо сложной письменности древнекитайского и
египетского обществ приходит легкий и компактный латинский алфавит. Сам язык
демонстрирует эту же тенденцию к упрощению, отказываясь от флексий в пользу
вспомогательных слов, что может быть проиллюстрировано сравнительным обзором
истории языков индоевропейской семьи. Санскрит, древнейший из сохранившихся
представителей этой семьи, демонстрирует поразительное богатство флексий рядом
с удивительной бедностью частиц. Современный английский, находящийся на другом
конце шкалы, почти совсем освободился от флексий, зато компенсировал эту потерю
расширением предлогов и вспомогательных глаголов. Классический греческий
представляет собой средний член между двумя этими крайностями. В современном
западном мире одежда упростилась от варварской сложности елизаветинского
костюма до простых мод сегодняшнего дня. Коперниканская астрономия, заменившая
Птолемееву систему, представляет собой в гораздо более простых геометрических
понятиях в равной степени логичное объяснение крайне широкого диапазона
движущихся небесных тел.
Возможно, «упрощение» – не вполне точный или, по крайней
мере, не вполне адекватный термин для описания этих перемен. Слово «упрощение»
носит отрицательный оттенок и имеет дополнительное значение «упущения» и
«исключения», тогда как происходившее во всех указанных случаях было не
уменьшением, а увеличением практической эффективности, эстетической
удовлетворительности или интеллектуального понимания. Результатом является не
потеря, а приобретение; и это приобретение – итог процесса упрощения, поскольку
данный процесс высвобождает силы, заточенные в более грубом материале, и тем
самым предоставляет им свободу действия в более бесплотном материале с большей
эффективностью. Это подразумевает не просто упрощение аппарата, но
последовательное перемещение энергии, или перенос акцента, из некоей низшей
сферы бытия или действия – в высшую. Возможно, мы опишем этот процесс точнее,
если назовем его не упрощением, а этерофикацией.[442]
В сфере контроля человека над физической природой этот
процесс развития был описан в прекрасной образной манере одним из современных
антропологов:
«Мы отрываемся от почвы, мы теряем связь, наши следы
становятся незаметнее. Кремень сохраняется вечно, медь – на время существования
цивилизации, железо – на время существования нескольких поколений, сталь – на
время человеческой жизни. Кто сможет нанести на карту маршрут воздушного
экспресса Лондон – Пекин, когда Век Движения пройдет, или сказать сегодня,
каким путем распространяются и доставляются послания через эфир? Но границы
незначительного исчезнувшего царства икенов[443] все еще защищают южную границу Восточной
Англии, от осушенного болота до вырубленного леса»{73}.
Наши примеры подтверждают, что критерий роста, который мы
искали и который нам не удалось найти в завоевании внешнего окружения –
человеческого или же природного, находится, скорее, в прогрессивной
перестановке акцента, или переносе сцены действия из одной сферы в другую, где
закон вызова‑и‑ответа может найти для себя альтернативную арену. В этой другой
сфере вызовы не вторгаются извне, но возникают изнутри, и успешные ответы не
принимают форму преодоления внешних обстоятельств или же побед над внешним
противником, но проявляются во внутреннем самовыражении и самоопределении.
Когда мы наблюдаем за отдельным человеческим существом или за отдельным
обществом, дающим успешные ответы на непрерывный ряд вызовов, и когда мы
задаемся вопросом, можно ли этот отдельный ряд рассматривать в качестве
проявления роста, то получаем ответ на наш вопрос, исследуя (по мере того как
данный ряд продолжается), стремится или не стремится действие переместиться из
первой во вторую из двух вышеуказанных сфер.
Эта истина обнаруживается весьма ясно в тех представлениях
об истории, где делается попытка описать процессы роста от начала до конца
исключительно в понятиях внешней сферы. Давайте возьмем в качестве примеров два
выдающихся произведения этого рода, каждое из которых является созданием гения:
«Как путь создает социальный тип» Эдмона Демолена[444] и «Краткий очерк истории» Г. Дж. Уэллса.
Тезис о первоочередной роли окружения утверждается Демоленом
в предисловии с бескомпромиссным лаконизмом:
«На земной поверхности существует бесконечное множество
народов; в чем причина возникновения такого многообразия?.. Первой и решающей
причиной различия рас является путь, которому следовали эти народы. Именно путь
создает как расу, так и социальный тип»{74}.
Когда этот вызывающий манифест достигает своей цели,
побуждая нас к чтению книги, где разрабатывается данный авторский тезис, мы
обнаруживаем, что автор вполне справляется с поставленной задачей, пока
приводит примеры из жизни примитивных народов. В этих случаях характер общества
можно объяснить достаточно полно в одних понятиях ответов на вызовы внешнего
окружения; но это, конечно же, не объяснение роста, поскольку подобные общества
ныне являются статичными. Равно успешно Демолен объясняет состояние задержанных
обществ. Но когда автор пытается приложить свою формулу к патриархальным
сельским общинам, читатель начинает чувствовать некоторое неудобство. В главах,
посвященных Карфагену и Венеции, всякий может быть уверенным, что нечто
упустил, не вполне осознавая, в чем же именно состоит это упущение. Когда автор
пытается объяснить пифагорейскую философию в терминах колониальной торговли с
югом Италии, невольно улыбаешься. Но глава под названием «Путь нагорья – типы
албанцев и эллинов» совершенно не достигает цели. Албанское варварство и
эллинская цивилизация поставлены рядом лишь потому, что их представителям
случилось однажды прибыть в соответствующие географические места назначения
одним и тем же сухопутным путем! А великое человеческое приключение, известное
нам как эллинизм, сводится к своего рода эпифеноменальному побочному продукту –
Балканскому нагорью! В этой неудачной главе [основной] аргумент книги отрицает
сам себя через reductio ad absurdum[445].
Когда цивилизация существует столь долго, как эллинская, любая попытка описать
ее рост исключительно в терминах ответов на вызовы внешнего окружения
становится решительно нелепой.
Уэллс также утрачивает безошибочность своей манеры, когда
обращается к чему‑то зрелому, пренебрегая примитивным. Он находится в своей
стихии, когда проявляет свою способность воображения для того, чтобы
реконструировать какой‑нибудь драматический эпизод, относящийся к отдаленной
эре геологического времени. Его рассказ о том, как «эти маленькие тероморфы[446], эти
прародители млекопитающих» выжили, тогда как переросшие рептилии погибли, почти
достоин того, чтобы поставить его в один ряд с библейским сказанием о Давиде и
Голиафе. Когда маленькие тероморфы превращаются в палеолитических охотников или
евразийских кочевников, Уэллс, подобно Демолену, все еще оправдывает наши
ожидания. Но он терпит неудачу, описывая события из жизни западного общества,
когда ему приходится определить величину такого необыкновенно
этерифицированного тероморфа, как Уильям Юарт Гладстон. Он терпит здесь неудачу
просто потому, что не может перенести свое духовное сокровище, каковым является
его повествование, из макрокосма в микрокосм; и эта неудача вскрывает
ограниченность того великолепного интеллектуального достижения, какое
представляет собой «Краткий очерк истории».
Неудачу Уэллса можно сравнить с шекспировским успехом в
решении той же самой проблемы. Если мы выстроим выдающихся персонажей великой
шекспировской галереи в возрастающем порядке этерификации и примем во внимание,
что драматургическая техника заключается в раскрытии характеров через показ
персонажей в действии, то увидим, что Шекспир, двигаясь вверх от низшего к
высшему уровню на нашей шкале характеров, постоянно изменяет поле действия, в
котором заставляет героя каждой драмы играть свою роль, неизменно уделяя на
сцене большее внимание микрокосму и неизменно отодвигая макрокосм далее на
задний план. Мы можем проверить этот факт, проследив ряд [персонажей] от
Генриха V через Макбета до Гамлета. Относительно примитивный характер Генриха V
почти всецело раскрывается в его ответах на вызовы человеческого окружения: в
его отношениях со своими собутыльниками, с отцом, в его рассказе соратникам о
собственной храбрости на утро битвы при Азенкуре и в пылком ухаживании за
принцессой Кейт. Когда мы переходим к Макбету, то обнаруживаем, что сцена
действия переместилась, ибо отношения Макбета с Мальколмом, Макдуфом или даже с
леди Макбет равны по своей важности с отношениями героя к самому себе. Наконец,
когда мы подходим к Гамлету, то видим, что он позволяет макрокосму почти совсем
исчезнуть, пока отношения героя с убийцами отца, угасающая страсть к Офелии и
отношения с его воспитателем Горацио, которого он уже перерос, не поглощаются
во внутреннем конфликте, разыгрывающемся в собственной душе героя. В «Гамлете»
поле действия почти полностью перенесено из макрокосма в микрокосм; и в этом
шедевре шекспировского искусства, так же как в «Прометее» Эсхила или
драматических монологах Браунинга[447], единственный
актер фактически монополизирует сцену, чтобы оставить больший простор для
действия тех поднимающихся духовных сил, которые его личность сдерживает внутри
себя.
Подобное перемещение поля действия, которое мы распознаем в
шекспировском изображении героев, выстраивая их в возрастающем порядке
духовного роста, можно обнаружить и в истории цивилизаций. Когда ряд ответов на
вызовы постепенно складывается в рост, мы обнаруживаем здесь, что по мере
увеличения роста поле действия все время перемещается из внешней среды во
внутреннюю социальную систему самого общества.
Например, мы уже отмечали, что когда нашим западным предкам
удалось отразить скандинавское нападение, одним из средств, с помощью которого
им удалось добиться этой победы над своим человеческим окружением, было
создание могущественного военного и социального инструмента в виде феодальной
системы. Но уже на следующей стадии западной истории социальная, экономическая
и политическая дифференциация между классами, которую повлек за собой
феодализм, породила определенные стрессы и напряжения, в свою очередь
породившие следующий вызов, с которым столкнулось растущее общество. Западное
христианство едва успело отдохнуть после отражения викингов, как столкнулось с
новой задачей, требующей замены феодальной системы отношений между классами –
новой системой отношений между независимыми государствами и их гражданами. Это
пример двух последовательных вызовов вполне очевидно демонстрирует перемещение
сцены действия из внешнего поля во внутреннее.
Мы можем проследить ту же самую тенденцию и в других
исторических событиях, которые уже рассматривали в различных контекстах. В
эллинской истории, например, мы видели, что все начальные вызовы проистекали из
внешнего окружения: вызов горного варварства в самой Элладе и мальтузианский
вызов, ответом на который явилась заморская экспансия, следствием же – вызовы
со стороны туземных варваров и соперничающих цивилизаций, в свою очередь достигшие
своей кульминации в одновременных контратаках Карфагена и Персии в первой
четверти V в. до н. э. Однако впоследствии этот страшный вызов со стороны
человеческого окружения был успешно преодолен в течение четырех столетий,
начиная с переправы Александра через Геллеспонт и продолжаясь далее во время
побед Рима. Благодаря этим победам эллинское общество наслаждалось теперь
передышкой в течение примерно пяти или шести веков, в которые не последовало
никакого серьезного вызова со стороны внешнего окружения. Но это не означало,
что эллинское общество было вообще свободно от вызовов. Наоборот, как мы уже
замечали, эти столетия явились периодом упадка, т. е. периодом, когда эллинизм
столкнулся с вызовами, на которые ему не удалось ответить успешно. Мы уже видели,
что это были за вызовы, и если взглянуть на них еще раз, то можно заметить, что
все они являются внутренними вызовами, результатом победоносного ответа на
предыдущий внешний вызов, так же как вызов, брошенный феодализмом западному
обществу, явился результатом предшествующего развития феодализма как попытки
ответа на внешнее давление викингов.
Например, военное давление со стороны персов и карфагенян
побудило эллинское общество выковать в целях самозащиты два мощных социальных и
военных инструмента – афинский флот и сиракузскую тиранию. В следующем
поколении они породили внутренние стрессы и напряжения в эллинской социальной
системе, что привело к Пелопоннесской войне и к реакции против Сиракуз их
варварских подданных и греческих союзников. Эти потрясения, в свою очередь,
привели к первому надлому эллинского общества.
В следующих главах эллинской истории оружие, повернутое
вовне в ходе завоеваний Александра и Сципиона, вскоре было повернуто вовнутрь
во время гражданских войн соперничающих македонских диадохов и соперничающих
римских диктаторов. Подобным образом и экономическая конкуренция между
эллинским и сирийским обществами за господство над Западным Средиземноморьем
снова проявилась в недрах эллинского общества после победы над сирийским
конкурентом в еще более опустошительной борьбе между восточными плантационными
рабами и их сицилийскими или римскими хозяевами. Культурный конфликт между
эллинизмом и восточными цивилизациями – сирийской, египетской, вавилонской и
индской – подобным же образом проявился в недрах эллинского общества в качестве
внутреннего кризиса эллинской, или эллинизированной, души: кризис, заявивший о
себе в появлении культа Исиды, астрологии, митраизма, христианства и множества
других синкретических религий.
Восток и Запад не перестают
бороться
На границах моей души{75}.
В нашей собственной западной истории мы можем обнаружить
соответствующую тенденцию вплоть до настоящего времени. В ранний период
наиболее заметными вызовами, с которыми приходилось встречаться [западному
христианству], были вызовы человеческого окружения, начиная с вызова арабов в
Испании и вызова скандинавов и заканчивая вызовом османов. С тех пор
современная западная экспансия стала в буквальном смысле всемирной и, во всяком
случае, пока полностью освободила нас от старых забот, связанных с вызовами
враждебных человеческих обществ[448].
Единственным подобием эффективного внешнего вызова нашему
обществу со времен второй неудачной осады Вены османами явился вызов
большевизма, брошенный западному миру с тех пор, как Ленин и его сообщники
стали хозяевами Российской империи в 1917 г. Однако большевизм угрожает
доминирующему влиянию западной цивилизации пока что не далее границ СССР; и
даже если однажды коммунистической системе удастся осуществить упования русских
коммунистов, распространившись по всей поверхности земного шара, всемирная
победа коммунизма над капитализмом не будет означать победу чуждой культуры,
поскольку коммунизм в отличие от ислама сам имеет западное происхождение,
будучи противодействием и критикой западного капитализма, с которым борется.
Принятие данной экзотической западной доктрины в качестве революционного
вероучения России XX столетия совсем не означает, что западная культура
находится в опасности, но в действительности показывает, сколь мощным может
быть влияние этой культуры.
В природе большевизма есть глубокая двусмысленность,
проявившаяся в деятельности Ленина. Собирался ли он завершить или погубить дело
Петра Великого? Своим переносом столицы России из эксцентричной цитадели Петра
в центральную часть, во внутренние районы страны Ленин, по‑видимому,
провозглашает себя наследником протопопа Аввакума, старообрядцев и
славянофилов. Здесь, как нам может показаться, является пророк Святой Руси,
воплотивший в себе реакцию русской души против западной цивилизации. Однако
когда Ленин изыскивает средства для создания символа веры, он заимствует его у
европеизированного немецкого еврея Карла Маркса. Верно, что марксистское
вероучение подошло гораздо ближе к тотальному отрицанию западного общественного
строя, чем любое другое западное учение, которое мог бы принять русский пророк
XX столетия. Как раз негативные, а не позитивные элементы в марксистском
вероучении сделали его конгениальным русскому революционному сознанию; и это
объясняет, почему в 1917 г. еще достаточно экзотичный аппарат западного
капитализма в России был ниспровергнут в не меньшей степени экзотичным
антикапиталистическим учением. Это объяснение подтверждается той метаморфозой,
которой марксистская философия, по‑видимому, подвергается в русской атмосфере,
где мы наблюдаем, как марксизм превращается в эмоциональный и интеллектуальный
заменитель православного христианства с Марксом вместо Моисея и Лениным вместо
Мессии и с собранием их сочинений в качестве священных писаний этой новой
церкви воинствующих атеистов. Но данное явление приобретает иной вид, когда мы
переключаем наше внимание с веры на дела и пытаемся исследовать, что же Ленин и
его наследники сделали для русского народа в действительности.
Когда мы задаемся вопросом, в чем значение сталинского
пятилетнего плана, то можем лишь ответить, что он явился попыткой
механизировать сельское хозяйство, равно как промышленность и транспорт, чтобы
превратить нацию крестьян в нацию механиков, старую Россию – в новую Америку.
Другими словами, эта современная попытка вестернизации была столь
претенциозной, радикальной и безжалостной, что затмила деятельность Петра
Великого. Нынешние правители России работают с демонической энергией, чтобы
обеспечить победу в России той самой цивилизации, которую они осуждают во всем
мире. Несомненно, они мечтают о создании нового общества, которое было бы
американским по оборудованию и русским в душе – хотя это и весьма странная
мечта для государственных деятелей, исповедующих в качестве символа веры
материалистическое понимание истории! Согласно марксистским принципам, мы
должны были бы ожидать, что если русский крестьянин научится жить, как
американский механик, то он научится и думать в точности как он, чувствовать,
как он чувствует, и желать того, чего желает он. В этой упорной конкурентной
борьбе между идеалами Ленина и методами Форда, которая происходит в наши дни в
России, мы можем с нетерпением ожидать того, что доминирующее влияние западной
цивилизации на русскую парадоксальным образом подтвердится.
Подобная же двусмысленность обнаруживается и в деятельности
Ганди[449], чья
невольная поддержка того же повсеместного процесса вестернизации оказывается
еще более ироничной. Индусский пророк намеревается разорвать хлопковые нити,
опутавшие Индию в сетях западного мира. «Прядите и тките из нашего индийского
хлопка собственными руками, – проповедует он. – Не одевайтесь в одежду,
вытканную на западных ткацких станках; и не стремитесь, заклинаю вас, вытеснить
эти чуждые продукты, устанавливая на индийской земле новые индийские ткацкие
станки, созданные по западной модели». Это послание, являющееся подлинным
посланием Ганди, не принимается его соотечественниками. Они почитают его как
святого, но следуют его наставлениям лишь постольку, поскольку он отказывается
их вести по пути вестернизации. И таким образом, мы видим, что Ганди сегодня
содействует развитию политического движения с западной программой – программой
превращения Индии в независимое суверенное парламентское государство со всем
западным политическим аппаратом собраний, выборов, платформ, газет и гласности.
В этой кампании наиболее действенными – хотя и не самыми выдающимися – адептами
пророка выступают сами индийские промышленники, которые сделали все, чтобы
провалить истинную миссию пророка, люди, которые «акклиматизировали»
промышленную технику в самой Индии[450].
Соответствующие превращения внешних вызовов во внутренние последовали за
победой западной цивилизации над своим материальным окружением. Победы так
называемой промышленной революции в технической сфере, как известно, создали
множество проблем в сферах экономической и социальной – тема одновременно столь
сложная и столь знакомая, что нет нужды распространяться о ней здесь. Давайте
теперь вспомним хорошо забытую картину дороги домеханического века. Эта старая
дорога была заполнена всякого рода колесными средствами передвижения: тележками
и рикшами, повозками, запряженными волами, и собачьими упряжками, дилижансом
как шедевром мускульной силы, а кое‑где и велосипедом – предвестником грядущих
изменений. Поскольку дорога уже достаточно загружена, происходит определенное
количество столкновений; но никто не думает об их незначительном вреде, и
дорожное движение почти не прерывается. Ибо, по правде говоря, эти столкновения
несерьезны. Они не могут быть серьезными, поскольку дорожное движение слишком
медленно, а сила, движущая транспорт, слишком мала. «Транспортная проблема» на
подобной дороге заключается не в том, как избежать столкновений, а в том, как
вообще совершить путешествие по таким дорогам, какими они являлись в прежние
дни. Соответственно, не было никаких правил дорожного движения: ни полисмена‑регулировщика,
ни светофоров.
А теперь давайте взглянем на сегодняшнюю дорогу, где гудит и
ревет механический транспорт. На этой дороге проблемы скорости и
транспортировки решены, о чем свидетельствуют грузовики с прицепами, с грохотом
переносящие в мгновение ока груз, посильный слону, и спортивные автомобили, со
свистом проносящиеся мимо со скоростью пчелы или пули. Однако, кроме того,
проблема столкновений стала транспортной проблемой par excellence. С тех
пор на этой современной дороге проблема является уже не технологической, но
психологической. Старый вызов физического расстояния превратился в новый вызов
человеческих отношений между водителями, которые, будучи обучены тому, как
«уничтожать пространство», сами теперь оказались перед лицом постоянной опасности
уничтожения друг друга.
Эта перемена в природе транспортной проблемы имеет, конечно
же, не только буквальное, но и символическое значение. Она служит типичным
примером той великой перемены, которая произошла на всех уровнях жизни
современного западного общества с момента появления двух доминирующих
социальных сил эпохи: индустриализма и демократии. Благодаря необычайному
прогрессу, который произвели современные западные изобретатели в сфере
использования природных энергий и организации согласованного действия миллионов
человеческих существ, все, что ныне создано в нашем обществе, создано – во
благо или во зло – с потрясающей напористостью (drive). И это сделало
материальные последствия действий и моральную ответственность деятелей гораздо
более тяжкими, чем когда‑либо прежде. Возможно, в каждую эпоху в каждом
обществе неким моральным итогом всегда является вызов, гибельный для будущего
данного общества; однако как бы там ни было, нет никакого сомнения в том, что
сегодня нашему обществу брошен именно моральный, а не природный вызов.
«В отношении сегодняшнего мыслителя к тому, что называется
механическим прогрессом, мы ощущаем изменение в духе. Восхищение умеряется
критическим отношением; самодовольство уступает место сомнению; сомнение
переходит в тревогу. Присутствует чувство растерянности и разочарования, как в
человеке, проделавшем долгий путь и обнаружившем, что он выбрал ложное
направление. Вернуться назад невозможно; как он поступит? Где он окажется, если
пойдет по тому или иному пути? [Выбор] прежнего направления прикладной механики
может быть прощен, если человек распрощается с теми иллюзиями, с которыми он
теперь пассивно наблюдает за стремительным карнавальным шествием открытий и
изобретений, от которых привык получать безграничное удовольствие. Невозможно
не задаться вопросом: куда стремится эта жуткая процессия? Что же все‑таки
является ее конечной целью? Каким будет ее возможное влияние на будущее
человеческого рода?»
Эти волнующие слова предлагают на обсуждение вопрос, который
стремился найти выражение во всех наших сердцах; и это очень веские слова,
поскольку произнесены они президентом Британской ассоциации развития наук в его
вступительной речи на сто первом ежегодном заседании этой исторической
организации[451]. Будет ли
новая социальная движущая сила индустриализма и демократии задействована в
решении великой созидательной задачи по превращению западного мира в
экуменическое общество, или мы обратим нашу новую энергию на наше же
собственное уничтожение?
Возможно, в гораздо более простой форме та же самая дилемма
некогда стояла перед правителями Древнего Египта. Когда египетские
первопроходцы победоносно ответили на свой первый природный вызов, когда вода,
почва и растительность долины Нижнего Нила подчинились волям человеческих
существ, возник вопрос, как сделать так, чтобы чудесная человеческая
организация находилась под рукой господина и хозяина Египта и египтян и
подчинялась его воле. Это был моральный вызов. Задействует ли он материальную и
человеческую силу, находящуюся в его распоряжении, чтобы улучшить судьбу своих
подданных? Поведет он их назад или же вперед, к уровню благосостояния, уже
достигнутого самим царем и горсткой его приближенных? Сыграет ли он роль
благородного Прометея из Эсхиловой драмы или деспотическую роль Зевса? Ответ
нам известен. Он строил пирамиды; и пирамиды обессмертили этих самодержцев – не
как вечно живых богов, но как жестоких угнетателей бедняков[452]. Их дурная
репутация передавалась из уст в уста в египетском фольклоре, пока не попала на
бессмертные страницы Геродота. В качестве возмездия за неправильно сделанный
выбор смерть наложила свою ледяную руку на эту растущую цивилизацию как раз в
тот момент, когда вызов, послуживший стимулом к ее росту, перемещался из
внешнего поля во внутреннее. В несколько схожей ситуации нашего современного
мира, когда вызов индустриализма перемещается из сферы техники в сферу морали,
исход еще неизвестен, поскольку наша реакция на новую ситуацию еще
неокончательна.
Тем не менее мы достигли конечного пункта в аргументации
настоящей главы. Мы заключаем, что данный ряд успешных ответов на
последовательные вызовы следует интерпретировать как проявление роста, если
действие стремится переместиться из поля внешнего окружения, физического или
человеческого, внутрь растущей личности или цивилизации. Поскольку данный рост
увеличивается и продолжает увеличиваться, личности или цивилизации приходится все
меньше и меньше считаться с вызовами, бросаемыми внешними силами и требующими
ответов на внешнем поле сражения, и все больше и больше считаться с вызовами,
которые она бросает самой себе на внутренней арене. Рост означает, что растущая
личность или цивилизация стремится стать своим собственным окружением, бросать
вызов самой себе и стать собственным полем действия. Другими словами, критерием
роста является поступательное движение к самоопределению; и это движение к
самоопределению – прозаическая формула для описания того чуда, благодаря
которому Жизнь вступает в свое Царство.
XI.
Анализ роста
1. Общество и индивид
Если, как мы выяснили в ходе наших размышлений,
самоопределение является критерием роста и если оно означает самовыражение, то
мы проанализируем процесс, в ходе которого растущие цивилизации действительно
растут, исследуя тот способ, каким они постепенно себя выражают. В общих чертах
очевидно, что общество, находящееся в процессе цивилизации, выражает себя через
индивидов, которые «принадлежат» к нему или которым оно само «принадлежит». Мы
можем выразить отношение между обществом и индивидом при помощи одной из этих
формул, безразлично какой, хотя они и противоречат друг другу. Эта
двусмысленность, по‑видимому, показывает, что обе формулы недостаточны и что
перед тем, как приступить к новому нашему исследованию, нам придется
рассмотреть, в каком отношении находятся общества и индивиды друг к другу.
Это, конечно же, один из главных вопросов социологии, и на
него существует два основных ответа. Один заключается в том, что индивид – это
реальность, способная существовать и быть познаваемой сама по себе, а общество
– только совокупность атомарных индивидов. Другой ответ состоит в том, что
реальность – это общество, являющееся совершенным и умопостигаемым целым, тогда
как индивид – просто часть этого целого, которая не может ни существовать, ни
быть понятой в любом другом положении или окружении. Мы обнаружим, что ни один
из этих взглядов не выдерживает критики.
Классической иллюстрацией воображаемого атомарного индивида
является гомеровское описание циклопов, процитированное Платоном с той же
целью, с какой цитируем теперь его мы:
Нет между ними ни сходбищ
народных, ни общих советов;
В темных пещерах они иль на горных
вершинах высоких
Вольно живут; над женой и детьми
безотчетно там каждый
Властвует, зная себя одного, о
других не заботясь{76}.
Знаменательно, что этот атомарный образ жизни приписывается
не обычным человеческим существам, а фактически существам нечеловеческим,
жившим подобно циклопам, ибо человек по сути своей – общественное животное,
ввиду того что общественная жизнь является тем условием, которое необходимо для
процесса эволюции человека из дочеловека и без которого эта эволюция не смогла
бы, предположительно, принять законченную форму. А что же можно сказать
относительно альтернативного ответа, который рассматривает человека всего лишь
как часть социального целого?
«Есть сообщества, например сообщества пчел и муравьев, где
хотя и не существует непрерывной вещественной целостности между членами, однако
же все работают на целое, а не на самих себя, и каждый обречен на смерть, если
отделится от остального общества.
Есть колонии, например колонии кораллов или гидроидных
полипов, где множество животных, каждое из которых само по себе без колебания
можно назвать индивидом, оказываются органически связанными до такой степени,
что живое вещество одного является продолжением вещества остальных… Что же
тогда такое индивид?
Гистология продолжает рассказ и показывает, что большинство
животных, включая человека, – главный наш тип индивидуальности – образовано
множеством единиц, так называемых клеток. Некоторые из них достаточно
независимы, так что напрашивается мысль, не состоят ли они в таком же отношении
ко всей массе, в каком индивиды колонии коралловых полипов, или, лучше,
сифонофора, состоят к целой колонии. Этот вывод подтверждается, когда мы
обнаруживаем, что существует огромное множество свободно живущих животных,
простейших, включающих в себя все простейшие известные формы, которые, сохраняя
отдельное, независимое существование, аналогичны в своих существенных частях
единицам, образующим тело человека…
В известном смысле… весь органический мир составляет одного
огромного индивида, некое неопределенное и плохо согласованное, однако не в
меньшей степени непрерывное целое с взаимозависимыми частями: если в результате
какого‑либо несчастного случая исчезнет вся зеленая растительность или все
бактерии, оставшаяся Жизнь окажется неспособной продолжать свое дальнейшее
существование»{77}.
Останутся ли эти наблюдения за органической природой в силе
по отношению к человеческому роду? Действительно ли индивидуальное человеческое
существо до такой степени далеко от независимости, которой обладают циклопы,
что фактически является не более чем клеткой в социальном организме или, если
посмотреть шире, клеточкой в еще более обширном «одном огромном индивиде», тело
которого составляет «весь органический мир»? Хорошо известный первоначальный
фронтиспис «Левиафана» Гоббса изображает человеческий социальный организм в
качестве организма, состоящего из массы Анаксагоровых гомеомерий[453],
являющихся индивидуальными человеческими существами, – как будто общественный
договор мог произвести магический эффект, низведя циклопов до уровня клетки.
Герберт Спенсер в XIX столетии и Освальд Шпенглер в XX совершенно серьезно
описывали человеческие общества как социальные организмы. Достаточно лишь
процитировать последнего:
«Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно‑душевного
состояния вечнодетского человечества пробуждается и выделяется великая душа,
некий образ из безобразного, ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего.
Она расцветает на почве строго ограниченной местности, к которой она и остается
привязанной, наподобие растения. Культура умирает после того, как эта душа
осуществит полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений,
искусств, государств и наук и, таким образом, вновь возвратится в первичную
душевную стихию»{78}.
Эффективную критику основного тезиса данного отрывка можно
найти в работе английского автора, которая появилась в один год с книгой
Шпенглера.
«Снова и снова теоретики общества, вместо того чтобы
находить и постепенно использовать методы и терминологию, подходящие к их
предмету, пытаются выразить факты и ценности общества в терминах какой‑либо
другой теории или науки. Опираясь на аналогии, заимствованные из
естествознания, они стремятся проанализировать и объяснить общество как механизм,
опираясь на аналогии, заимствованные из биологии, они настаивают на
рассмотрении его как организма, опираясь на аналогии, заимствованные из
психологии или философии, они настойчиво требуют относиться к нему как к личности,
иногда, опираясь на религиозные аналогии, они близки к тому, чтобы смешивать
его с Богом»{79}.
Биологическая и психологическая аналогии являются, возможно,
в наименьшей степени пагубными и вводящими в заблуждение, когда их применяют к
примитивным обществам или задержанным цивилизациям, но они явно непригодны для
выражения тех отношений, которые существуют между растущими цивилизациями и
индивидами. Склонность проводить подобные аналогии – всего лишь пример той
мифотворческой или беллетристической немощи исторического сознания, о которой
мы уже упоминали: тенденции персонифицировать группы или институты и навешивать
на них ярлыки – «Британия», «Франция», «Церковь», «Пресса», «Скачки» и так
далее, относясь к этим абстракциям как к людям. Достаточно очевидно, что
представление об обществе как о личности или организме не дает нам адекватного
выражения отношения между обществом и индивидом.
Как же тогда правильно описать отношение между человеческими
обществами и индивидами? Истина, по‑видимому, заключается в том, что общество
само по себе – система отношений между человеческими существами, которые
являются не только индивидами, но также и общественными животными в том смысле,
что совсем не могут существовать, не состоя друг с другом в отношениях. Мы
можем сказать, что общество есть продукт отношений между индивидами, и эти
отношения возникают из‑за совпадения их индивидуальных полей действия. Это
совпадение объединяет индивидуальные поля в едином общем интересе, и этот общий
интерес является тем, что мы называем обществом.
Если принять это определение, то возникает важное, хотя и
очевидное, следствие. Общество – это «поле действия», однако источником
этого действия являются составляющие его индивиды. На этом особенно настаивает
Бергсон:
«Мы не верим в бессознательное в истории; великие подспудные
течения мысли, о которых столько было сказано, были вызваны тем, что массы
людей были увлечены одним или несколькими индивидами… Бесполезно утверждать,
что [социальный прогресс] происходит постепенно, благодаря духовному состоянию
общества на определенном этапе его истории. В действительности он является
рывком, который имеет место лишь тогда, когда общество решает поставить
эксперимент; это означает, что общество должно позволить убедить себя или, по
меньшей мере, позволить встряхнуть себя; и эта встряска всегда производится кем‑то»{80}.
Эти индивиды, обеспечивающие процесс роста в обществах, к
которым «принадлежат», больше, чем просто люди. Они могут делать то, что
простым смертным кажется чудесами, поскольку сами они являются сверхчеловеками
в буквальном, а не просто в переносном смысле.
«Дав человеку моральное устройство, необходимое ему для
жизни в группе, природа, вероятно, сделала для биологического вида все, что
могла. Но, подобно тому как находились гениальные люди, раздвигавшие границы
ума,… так появлялись и особо одаренные души, которые чувствовали себя
родственными всем душам, и вместо того чтобы оставаться в границах группы и
ограничиваться солидарностью, установленной природой, в любовном порыве
устремлялись к человечеству в целом. Появление каждой из них было как бы
творением нового вида, состоящего из одного‑единственного индивида»{81}.
Новый специфический характер этих редких сверхчеловеческих
душ, разрывающих порочный круг примитивной общественной жизни и возобновляющих
творческую активность, может быть описан как личность. Именно благодаря
внутреннему развитию личности индивидуальные человеческие существа способны
совершать те творческие акты на внешнем поле действия, которые являются
причиной роста человеческих обществ. По Бергсону, сверхчеловеческими творцами par
excellence являются мистики, а сущность творческого акта – в высшей точке
мистического опыта. Продолжим анализ собственными его словами:
«Душа великого мистика не останавливается на экстазе как на
конечной цели путешествия. Это отдых, если угодно, но как при остановке, когда
машина остается под парами; движение продолжается в сотрясении на месте и в
ожидании нового рывка вперед… Великий мистик почувствовал, что истина течет в
него из своего источника как действующая сила… [Его любовь] стремится с помощью
Бога завершить творение человеческого рода… Путь ее тот же, что и у жизненного
порыва; она есть сам этот порыв, полностью переданный особо одаренным людям,
которые, в свою очередь, хотели бы сообщить его всему человечеству и
посредством реализованного противоречия превратить в творческое усилие ту же
сотворенную вещь, каковой является биологический вид, обратить в движение то,
что, по определению, является остановкой»{82}.[454]
Это противоречие является сутью тех динамических
общественных отношений, которые возникают между человеческими существами в
связи с появлением мистически вдохновенных личностей. Творческая личность
побуждаема к тому, чтобы преобразить своих сотоварищей в сотворцов, пересоздав
их по своему образу. Творческая мутация, происходящая в микрокосме мистика,
требует адаптивного видоизменения в макрокосме перед тем, как она сможет или
завершиться, или быть гарантированной. Однако ex hypothesi макрокосм
преображенной личности является также и макрокосмом ее еще не преображенных товарищей,
и это усилие преобразить макрокосм в согласии с изменением, произошедшим в ней
самой, встретится с сопротивлением их инерции, которая будет стремиться
сохранить макрокосм в гармонии со своими устоявшимися личностями, оставляя их
такими, каковы они есть.
Эта социальная ситуация выдвигает дилемму. Если творческому
гению не удастся произвести в своем окружении мутацию, которой он достиг в
самом себе, то его творческая сила окажется для него гибельной. Он должен выйти
из своего поля действия; и, утратив силу действия, он утратит и волю к жизни –
даже если его бывшие собратья не приговорят его к смерти, как рядовые члены
приговаривают к смерти ненормальных членов роя, улья, стада или стаи в
статичной социальной жизни стадных животных или насекомых. С другой стороны,
если нашему гению удается преодолеть инертность или открытую враждебность своих
бывших собратьев и успешно преобразовать свое социальное окружение, установив
новый строй, гармонирующий с его преображенной личностью, то он, таким образом,
делает жизнь обыкновенных мужчин и женщин невыносимой до тех пор, пока им не
удастся приспособить свои личности уже к новому социальному окружению, которое
уверенно навязала им творческая воля победоносного гения.
Это и означают слова, приписываемые Евангелием Иисусу:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь
с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его»{83}.
Как возможно восстановить социальное равновесие, некогда
нарушенное разрушительным порывом гения?
Простейшее решение состояло бы в том, чтобы все члены
общества самостоятельно осуществили одинаковые порывы – одинаковые как по силе,
так и по направленности. В подобном случае имел бы место рост без следа какой‑либо
напряженности. Однако вряд ли нужно говорить о том, что подобные стопроцентные
ответы на призыв творческого гения фактически не встречаются. История,
несомненно, полна таких примеров, когда идея – религиозная или научная – как мы
говорим, «носится в воздухе» и оформляется в умах сразу нескольких вдохновенных
личностей независимо друг от друга и почти одновременно. Но даже в наиболее
выдающихся из подобных случаев множество независимо и одновременно вдохновляемых
умов следует причислять к одиночным фигурам, противостоящим тысячам и миллионам
не реагирующих на призыв. Истина, по‑видимому, состоит в том, что присущим
любому творческому акту уникальности и индивидуальности никогда не препятствует
в более чем незначительной степени тенденция к единообразию, основывающаяся на
том, что каждый индивид является потенциальным творцом и что все эти индивиды
живут в одной атмосфере. Так что творец, когда он появляется, всегда
обнаруживает, что инертная нетворческая масса превосходит его своим подавляющим
большинством, даже когда ему посчастливится наслаждаться обществом немногих
родственных душ. Все акты социального творчества являются созданием или
индивидуальных творцов, или по большей мере творческих меньшинств. С каждой
последующей ступенью развития подавляющее большинство членов общества остается
позади. Если мы взглянем на великие религиозные организации, существующие в
сегодняшнем мире, христианскую, исламскую и индусскую, то обнаружим, что
огромная масса их номинальных приверженцев, какими бы экзальтированными ни
казались убеждения, которые они неискренне исповедуют, все еще живут в той
интеллектуальной атмосфере, которая, насколько это касается религии, ушла не
так далеко от язычества. То же самое верно и относительно недавних достижений
нашей материальной цивилизации. Западное научное знание и основанная на его
использовании техника обладают опасной эзотеричностью. Новые великие силы
Демократии и Индустриализма были вызваны крошечным творческим меньшинством, а
огромная масса человечества все еще остается в основном на том же
интеллектуальном и моральном уровне, на котором пребывало до того, как начали
появляться эти новые титанические социальные силы. Фактически основная причина,
по которой эта возможная «соль земли» стоит сегодня перед опасностью утратить
свой вкус, заключается в том, что огромная масса западной социальной системы
остается еще «не просоленной».
Сам факт, что рост цивилизаций является произведением
творческих индивидов или творческих меньшинств, подразумевает то, что
нетворческое большинство будет оставаться позади, пока первопроходцы не смогут
придумать какое‑нибудь средство для того, чтобы подтянуть этот инертный
арьергард до своего собственного уровня. А это соображение требует от нас определить
ту разницу между цивилизациями и примитивными обществами, которую мы пытались
установить до сих пор. Ранее в настоящем «Исследовании» мы обнаружили, что
примитивные общества, какими мы их знаем, находятся в статическом состоянии,
тогда как цивилизации – за исключением задержанных – в динамике. Теперь точнее
было бы сказать, что растущие цивилизации отличаются от статичных примитивных
обществ динамическим движением, происходящим в их социальных системах за счет
индивидуальных творческих личностей. Следовало бы также добавить, что эти
творческие личности даже при самой максимальной своей численности всегда
составляют немногочисленное меньшинство. В каждой растущей цивилизации
большинство индивидуальных ее участников находится в том же застойном, неподвижном
состоянии, что и члены статичного примитивного общества. Более того,
подавляющее большинство участников растущей цивилизации являются, не считая
поверхностного слоя, наложенного на них образованием, людьми с такими же
страстями, как и у примитивного человека. Здесь мы находим элемент истины в
словах о том, что человеческая природа никогда не меняется. Высшие личности,
гении, мистики или сверхчеловеки – назовите их, как хотите – не более чем
дрожжи в массе обычного человечества.
Сейчас мы должны еще рассмотреть, каким образом этим
динамическим личностям, разбившим то, что Беджгот назвал «кристаллом обычая»,
внутри себя, удается фактически закрепить свою индивидуальную победу и избежать
социального поражения, продолжив разбивать «кристалл обычая» и в своем
социальном окружении. Чтобы решить эту проблему, «требуется двоякое усилие:
усилие некоторых к тому, чтобы найти новое, и усилие всех остальных к тому,
чтобы его принять и к нему приспособиться. Общество может называться
цивилизованным с того момента, как в нем обнаруживаются одновременно эти
инициативы и эта податливость. Второе условие, впрочем, выполнить труднее, чем
первое. Чего не хватало цивилизованным людям, так это, вероятно, не выдающегося
человека (неясно, почему бы природе всегда и везде не предаваться этим
счастливым развлечениям), а, скорее, случая, предоставляемого такому человеку,
показать свое превосходство, скорее, готовности других за ним следовать»{84}.
Проблема того, как заставить нетворческое большинство
следовать примеру творческого меньшинства, по‑видимому, имеет два решения: одно
практическое, а другое – идеальное.
«Один [путь] – это путь дрессировки… другой – это путь
мистичности… Посредством первого метода внедряется мораль, состоящая из
безличных привычек; посредством второго достигается подражание личности и даже
духовное единство, более или менее полное совпадение с ней»{85}.
Непосредственная передача творческой энергии от одной души к
другой является, несомненно, идеальным путем, но надеяться только на нее можно
лишь в пожелании. Проблема подтягивания нетворческих рядовых членов до уровня
творческих первопроходцев в масштабе общества может быть решена практически
лишь благодаря способности абсолютного мимесиса – одной из наименее возвышенных
способностей человеческой природы, имеющей больше от обучения, чем от
вдохновения.
Привести в действие механизм мимесиса необходимо, поскольку
мимесис является, по меньшей мере, одной из обычных способностей примитивного
человека. Выше мы уже отмечали{86}, что мимесис является общей
чертой социальной жизни как примитивных обществ, так и цивилизаций, однако в
двух этих видах общества он действует различными путями. В статичных
примитивных обществах мимесис направлен на старшее поколение живых членов и на
мертвых, в ком воплощен «кристалл обычая», тогда как в растущих обществах та же
способность направлена на творческих личностей, прокладывающих новый путь.
Способность одна и та же, но сориентирована она в противоположных направлениях.
Может ли эта переработанная версия примитивной социальной
дрессировки, этот поверхностный и почти автоматический «правый или левый уклон»
реально послужить эффективным заменителем того «напряженного интеллектуального
союза и близкого личного общения», которое, по мнению Платона, является
единственным средством передачи философии от одного индивида другому? На это
можно ответить лишь то, что инерцию человечества в его массе фактически никогда
не удавалось преодолеть исключительным использованием платоновского метода.
Чтобы подтянуть инертное большинство до уровня активного меньшинства, этот
идеальный метод непосредственного индивидуального вдохновения всегда
приходилось подкреплять практическим методом массового социального воспитания –
обычной дрессировкой примитивного человечества, которое можно заставить служить
делу прогресса, когда новые вожди возьмут на себя командование и отдадут приказ
о новом походе.
Мимесис может привести к приобретению социальных «активов» –
в виде способностей, эмоций или идей, – которыми приобретающие их не обладали и
которыми бы никогда не овладели, если бы не встретились с теми, кто этими
«активами» обладал, и не стали им подражать. Фактически это кратчайший путь.
Однако позднее в настоящем «Исследовании» мы обнаружим, что этот кратчайший
путь, хотя, быть может, и неизбежен для достижения нужной цели, тем не менее
является средством весьма сомнительным, которое не с меньшей неизбежностью
приводит к тому, что растущая цивилизация подвергается опасности надлома.
Однако было бы преждевременным обсуждать эту опасность сейчас.
2. Уход‑и‑возврат: индивиды
В предшествующем параграфе мы исследовали направление,
которому следуют творческие личности, когда они выбирают мистический путь,
являющийся их высочайшей духовной ступенью. Мы увидели, что сначала они уходят
от действия в экстаз, а затем – из экстаза к действию в новом. более высоком
плане. Используя подобный язык, мы описываем творческое движение в терминах
психического опыта личности. В терминах внешних отношений личности и общества,
к которому она принадлежит, мы опишем ту же самую двойственность движения, если
назовем ее «уходом‑и‑возвратом». Уход дает возможность личности реализовать
находящиеся внутри нее силы, которые бы остались неза‑действованными, если бы
она не была на время избавлена от опутавших ее социальных сетей и неводов.
Подобный уход мог быть добровольным действием со стороны личности или же мог
быть навязан неподконтрольными ей обстоятельствами. В любом случае уход – это
возможность, а, быть может, и необходимое условие для преображения анахорета.
«Анахорет» в греческом оригинале буквально означает «тот, кто удаляется».
Однако преображение в уединении не будет иметь никакой цели, а возможно, даже и
смысла, если не послужит прелюдией к возврату преображенной личности в
социальное окружение, из которого она первоначально ушла, – в родную окружающую
среду, от которой человеческое общественное животное не может надолго себя
отделить, не утратив своей человечности и не став, по словам Аристотеля, «или
животным, или богом». Возврат является сущностью всего движения, равно как и
его конечной целью.
Это видно в сирийском мифе об уединенном восхождении Моисея
на гору Синай. Моисей восходит на гору по призыву Яхве, чтобы беседовать с Ним,
причем призыв этот относится к одному Моисею, в то время как остальным сынам
Израилевым было предписано соблюдать дистанцию. Однако конечная цель призыва
Моисея состоит в том, чтобы послать его снова вниз в качестве подателя нового
закона, который Моисей должен сообщить остальным людям, поскольку они не имеют
возможности подняться и получить сообщение сами.
«Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с
горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым… И когда
[Бог] перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали
откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим»{87}.
Особое значение возврата в равной мере характерно и для
оценки пророческого опыта и пророческой миссии, данной арабским философом Ибн
Хальдуном в XIV столетии христианской эры:
«Человеческая душа обладает врожденной склонностью бежать
своего человеческого естества, чтобы облачаться в одежду ангелов и
действительно становиться на один миг ангелом – момент, который проходит как
мгновение ока. Вслед за этим душа получает свое человеческое естество обратно,
после того как получила в мире ангелов весть, которую должна принести
человеческому роду»{88}.
В этой философской интерпретации исламского учения о
пророчестве нам слышится отголосок известного отрывка из философии эллинской:
платоновского мифа о пещере. В этом отрывке Платон уподобляет обыкновенных
людей узникам в пещере, стоящим спиной к свету и глядящим на тени,
отбрасываемые на стену реальными существами, проходящими позади них. Узники
уверены, что тени, которые они видят на стене пещеры, и есть высшая реальность,
поскольку это единственное, что они способны видеть. Далее Платон воображает,
что одного узника неожиданно освобождают, заставляют повернуться лицом к свету
и выйти наружу. В первый момент переориентации своего зрения освобожденный
узник ослеплен и смущен. Однако ненадолго, ибо обретенная им зрительная
способность уже постепенно сообщает ему о природе реального мира. Затем его
посылают обратно в пещеру. Здесь он вновь ослеплен и смущен мраком, как ранее –
солнечным светом. Как прежде он сожалел о своем перемещении на свет, также
теперь он сожалеет о своем новом перемещении во мрак, причем с большими
основаниями, ибо, вернувшись в пещеру к своим старым товарищам, которые никогда
не видели солнечного света, он рискует быть встреченным враждебно.
«[Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут – а на
это потребовалось бы немалое время], разве не казался бы он смешон? О нем стали
бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а
значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать
узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в
руки?»{89}
Читатели поэзии Роберта Браунинга могли бы вспомнить в этой
связи его фантазию о Лазаре. Поэт представляет, будто Лазарь, воскрешенный из
мертвых через четыре дня после смерти, должен вернуться в «пещеру» совершенно
другим человеком, чем он был до ухода из нее. Браунинг дает описание этого
самого Лазаря из Вифании в старости, через сорок лет после его неповторимого
опыта, в «Послании» некоего Каршиша, путешествующего арабского врача, который
пишет периодические отчеты для осведомления главы своей фирмы. Согласно
Каршишу, жители Вифании ничего не знают о бедном Лазаре. К нему начали
относиться как к вполне безобидному деревенскому идиоту. Однако Каршиш слышал
историю Лазаря и совершенно в таком отношении не уверен.
Браунинговскому Лазарю не удалось придать своему «возврату»
какую‑либо эффективную форму. Он не стал ни пророком, ни мучеником, но по
сравнению с вернувшимся философом Платона претерпел судьбу менее суровую,
поскольку к нему относились терпимо, хотя и игнорировали. Сам Платон изобразил
испытание возвратом в таких непривлекательных красках, что кажется почти
неожиданным, сколь безжалостно он накладывает это испытание на своих избранных
философов. Но если существенной частью платоновской системы является то, что
избранные должны овладеть философией, то не менее существенно и то, что они не
должны оставаться лишь философами. Цель и смысл их образования состоит в том,
что они должны стать философами‑царями. Путь, который устанавливает для них
Платон, явным образом идентичен пути, проторенному христианскими мистиками.
Однако, хотя пути и идентичны, суть эллинской и христианской
душ различна. Платон уверен, что личный интерес, так же как и личное желание,
освобожденного и просвещенного философа должны находиться в оппозиции к
интересам массы его собратьев, которые еще сидят «во тьме и тени смертной,
окованные скорбью и железом»{90}. Какими бы ни были интересы
узников, философ, по мнению Платона, не может служить потребностям
человечества, не пожертвовав собственным счастьем и собственным совершенством.
Ибо, раз философ достиг просветления, лучшая вещь для него – оставаться в свете
за пределами пещеры и жить там с тех пор счастливо. Фундаментальным принципом
эллинской философии было то, что лучшее состояние – это состояние созерцания,
греческое обозначение которого стало нашим словом «теория» (theory), которое
обычно употребляется в противоположность «практике». Жизнь созерцательная
ставилась выше деятельной еще пифагорейцами, и это учение проходит через всю
эллинскую философскую традицию вплоть до неоплатоников, живших в последнюю
эпоху эллинского общества, в период его распада. Платон предпочитает считать,
что его философы согласятся принять участие в мирских делах из подлинного
чувства долга, однако в реальности они этого не сделали, и их отказ частично
может объяснить, почему надлом, который эллинская цивилизация пережила в
доплатоновском поколении, так никогда и не удалось преодолеть. Причина, по
которой эллинскими философами был выбран «великий отказ», также ясна. Их
нравственная ограниченность была следствием заблуждения в их вере. Веря в то,
что экстаз, а не возврат, является самым важным моментом той духовной одиссеи,
в которую они отправились, в болезненном переходе от экстаза к возврату они
видели всего лишь жертвоприношение на алтаре долга. В действительности же
именно возврат являлся целью и кульминацией того движения, в которое они были
вовлечены. Их мистическому опыту недоставало главной христианской добродетели –
любви, вдохновлявшей христианских мистиков спускаться с вершин общения прямо в
моральные и физические трущобы не снившегося повседневного мира.
Это движение ухода‑и‑возврата не является специфической
особенностью человеческой жизни, наблюдаемой исключительно в отношениях
человеческих существ со своими собратьями. Оно характерно для жизни вообще и
становится очевидным для человека в жизни растений, как только он начинает
проявлять интерес к этой растительной жизни, занимаясь земледелием, – явление,
заставившее человеческое воображение выражать свои надежды и страхи в
сельскохозяйственных терминах. Годовой уход и возврат зерна, переведенный на
язык антропоморфных понятий в ритуале и мифологии (о чем свидетельствует
похищение и возвращение Коры, или Персефоны[455], смерть и
воскресение Диониса, Адониса, Осириса[456] или носящего любое другое местное имя
универсального духа зерна или годового бога, чьи ритуал и миф с одними и теми
же стандартными персонажами играют одну и ту же трагическую драму под
различными именами), распространен столь же широко, сколь и сама
земледельческая практика.
Подобным образом человеческое воображение нашло аллегорию
для жизни людей в очевидном для жизни растений явлении ухода и возврата, и на
языке этой аллегории боролось с проблемой смерти, проблемой, которая стала
тревожить человеческое сознание с того момента, как в растущих цивилизациях
высшие личности начали отрываться от человеческой массы.
«Но скажет кто‑нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком
теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда
ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное
или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело…
Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело
душевное, восстает тело духовное… Так и написано: первый человек Адам стал душею
живущею; а последний Адам есть дух животворящий… Первый человек – из земли,
перстный; второй человек – Господь с неба»{91}.
В этом отрывке из Первого послания апостола Павла к
Коринфянам в нарастающей последовательности представлены четыре идеи. Первая идея
состоит в том, что мы являемся свидетелями воскресения, когда созерцаем
«возврат» зерна весной после его «ухода» осенью. Вторая идея состоит в том, что
воскресение зерна – залог воскресения умерших человеческих существ: новое
утверждение учения, проповедовавшегося задолго до этого времени в эллинских
мистериях. Третья идея состоит в том, что воскресение человеческих существ
возможно и мыслимо благодаря своего рода преображению, которому подвергается их
естество по воле Божией в течение времени ожидания, которое должно пройти между
их смертью и [новым] возвращением к жизни. Залогом этого преображения умерших
человеческих существ является очевидное преображение семян в цветы и плоды. Это
изменение в человеческой природе должно быть изменением в сторону большей
выносливости, красоты, силы и духовности. Четвертая идея отрывка – последняя и
наиболее возвышенная. В понятии Первого и Второго человека проблема смерти
позабыта, а забота о воскресении индивидуального человеческого существа на
мгновение превзойдена. В приходе «второго человека, который есть Господь с
неба», апостол Павел провозглашает создание нового вида, состоящего из одного‑единственного
индивида – Adjutor Dei[457],[458] , чья миссия состоит в том, чтобы поднять
остальное человечество до сверхчеловеческого уровня, вдохновив своих собратьев
собственным вдохновением, исходящим от Бога.
Таким образом, тот же мотив ухода и преображения, постепенно
подготавливающего к возврату в силе и славе, можно различить в духовном опыте
мистицизма и в физической жизни растительного мира, в размышлениях человека о
смерти и бессмертии и в создании высших видов из низших. Это, несомненно, тема
космического масштаба. Она представляет собой один из изначальных образов
мифологии, которая есть интуитивная форма понимания и выражения универсальных
истин.
Одним из мифических вариантов этого мотива является история
подкидыша. Новорожденный царский наследник отвергнут в младенчестве – иногда
(как в рассказе об Эдипе или Персее) собственным отцом или дедом,
предупрежденным во сне или через оракула о том, что ребенку суждено занять его
место[459]; иногда (как
в рассказе о Ромуле) узурпатором, который занял место отца младенца и боится,
как бы младенец не вырос и не отомстил ему[460]; а иногда
(как в рассказах о Ясоне, Оресте, Зевсе, Горе, Моисее и Кире) дружественной
рукой, которая заботится о спасении младенца от кровожадных замыслов злодея[461]. На следующем
этапе истории отвергнутый младенец чудесным образом остается в живых, а в
третьей и последней главе дитя судьбы, достигшее теперь мужества и приобретшее
героический нрав благодаря испытаниям, через которые оно прошло, возвращается в
силе и славе, чтобы войти в свое царство.
В истории Иисуса мотив ухода‑и‑возврата возникает постоянно.
Иисус – дитя, происходящее из царского рода, потомок Давида или Сын Самого
Бога, отвергнутый в младенчестве. Он нисходит с Небес, чтобы родиться на Земле.
Он рождается в родном городе Давида Вифлееме, однако для Него не находится
места в гостинице и Его приходится положить в ясли, как Моисея – в корзину или
Персея – в ящик. В хлеву о Нем заботятся дружественные животные, как о Ромуле
заботилась волчица, а о Кире – собака. Он также получает помощь от пастухов и
воспитывается приемным отцом простого происхождения, как Ромул, Кир и Эдип.
Затем Его спасают от кровожадного замысла Ирода, тайно увезя в Египет, как
Моисея спасают от кровожадного замысла фараона, спрятав в камышах, а Ясона –
спрятав на горе Пелион вне досягаемости царя Пелия. А затем, в конце истории
Иисус возвращается, как возвращаются другие герои, чтобы войти в Свое царство.
Он возвращается в царство Иудейское, когда при въезде в Иерусалим толпы
приветствуют Его как Сына Давидова. Своим Вознесением Он входит в Царствие
Небесное.
Во всем этом история Иисуса согласуется с общей моделью
рассказа о подкинутом младенце, однако в Евангелиях основной мотив ухода‑и‑возврата
представлен также и в других формах. Он присутствует в каждом последующем
духовном акте, в котором постепенно раскрывается божественная сущность Иисуса.
Когда Иисус узнает о Своей миссии во время Его крещения Иоанном, Он уходит в
пустыню на сорок дней и возвращается после Своего искушения в силе духа. Затем,
когда Иисус осознает, что Его миссия приведет Его к смерти, Он снова удаляется
«на гору высокую»{92}, которая становится местом Его Преображения, и
возвращается из этого испытания смирившимся и готовым умереть. Затем, должным
образом претерпев смерть земного человека в Распятии, Он сходит в могилу, чтобы
восстать бессмертным в Воскресении. И, наконец, в Вознесении Он уходит с Земли
на Небеса, чтобы «паки грясти со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию
несть конца»[462].
Эти решающие повторения мотива ухода‑и‑возврата в истории
Иисуса также имеют свои параллели. Уход в пустыню воспроизводит бегство Моисея
в землю Мадиамскую, Преображение на «горе высокой» воспроизводит преображение
Моисея на горе Синай, смерть и воскресение божественного существа
предвосхищается в эллинских мистериях, грозная фигура, долженствующая появиться
и господствовать на сцене в момент катастрофы, которая приведет к концу
нынешнего земного порядка, предвосхищена в зороастрийской мифологии фигурой
Спасителя, а в иудейской мифологии – фигурами Мессии и «Сына Человеческого».
Однако есть одна особенность в христианской мифологии, которая, по‑видимому, не
имеет прецедента. Это интерпретация грядущего пришествия Спасителя, или Мессии,
как будущее возвращение на Землю исторической личности, уже прожившей на Земле
как человеческое существо. В этом проблеске интуиции и вечное прошлое мифа о
подкидыше, и вечное настоящее земледельческого ритуала преобразованы в
историческом порыве человечества достичь конечной цели человеческих стремлений.
В понятии Второго Пришествия мотив ухода‑и‑возврата обретает свой глубочайший
духовный смысл.
Прозрение, в котором было постигнуто христианское понятие
Второго Пришествия, очевидным образом должно было явиться ответом на частный вызов
времени и пространства, и критик, делающий ошибку, предполагая, что в вещах нет
ничего, что не содержалось бы в их истоках, недооценит эту христианскую
доктрину, исходя из того соображения, что она была порождена разочарованием –
разочарованием первых христианских общин, осознавших, что их Учитель
действительно пришел и ушел без ожидаемого результата. Он был предан смерти, и,
насколько можно было видеть, Его смерть оставила Его последователей без надежд
на будущее. Если бы они нашли в себе мужество продолжить миссию своего Учителя,
то должны были бы испытывать боль от неудачи Его деятельности, проецируя эту
деятельность из прошлого в будущее. Они должны были проповедовать, что Он снова
грядет в силе и славе.
Совершенно верно, что это учение о Втором Пришествии с тех
пор было усвоено и другими общинами, пребывавшими в таком же разочарованном или
неудовлетворенном состоянии духа. Мифом о Втором Пришествии короля Артура,
например, побежденные бритты утешали себя в неудаче исторического Артура
предотвратить окончательную победу варварских завоевателей‑англов. Мифом о
Втором Пришествии императора Фридриха Барбароссы (1152‑1190) германцы позднего
средневековья утешали себя в неудаче утвердить свое господство над западно‑христианским
миром.
«К юго‑западу от зеленой равнины, опоясывающей Зальцбургскую
скалу, гигантская масса Унтерсберга хмуро нависает над дорогой, которая,
проходя подлинному узкому ущелью, заканчивается горной долиной и озером
Берхтесгаден. Там, среди известняковых скал, где едва ли ступала человеческая
нога, крестьяне долины показывают путешественнику черный вход в пещеру и
рассказывают, что внутри среди своих рыцарей спит волшебным сном Барбаросса,
ожидая часа, когда вороны перестанут парить вокруг и в долине зацветет грушевое
дерево, чтобы выйти со своими крестоносцами и вернуть Германии золотой век
мира, силы и единства»{93}.
Подобным же образом шиитская община в мусульманском мире,
когда проиграла сражение и превратилась в гонимую секту, решила, что
двенадцатый имам (двенадцатый прямой наследник Али[463], зятя пророка
Мухаммеда) не умер, но скрылся в пещере, из которой продолжает осуществлять
духовное и мирское руководство своим народом, и что однажды он появится вновь
как обещанный Махди[464] и положит конец долгому царству тирании.
Но если мы вновь обратим внимание на учение о Втором
Пришествии в его классическом христианском изложении, то увидим, что оно
действительно является выраженной в реальных образах мифологической проекцией в
будущее того духовного возврата, в котором побежденный Учитель апостолов
подтвердил Свое присутствие в их сердцах, когда они собрались с духом, чтобы
довести до конца, несмотря на физическое отсутствие своего Учителя, отважную
миссию, которую Он некогда на них возложил. Это творческое возрождение апостольской
храбрости и веры, последовавшее за минутой разочарования и отчаяния, описано в
Деяниях апостольских (опять‑таки на мифологическом языке) в образе нисхождения
Святого Духа в день Пятидесятницы.
После предпринятой нами попытки понять, что же действительно
означает движение ухода‑и‑возврата, мы теперь сможем лучше произвести
эмпирический обзор его действия в человеческой истории через взаимодействие
творческих личностей и творческих меньшинств со своими собратьями. Существует
множество известных исторических примеров этого движения в различных сферах
деятельности. Мы встретимся с ним в жизни мистиков и святых, государственных
деятелей и полководцев, историков, философов и поэтов, равно как и в истории
наций, государств и церквей. Уолтер Беджгот выразил истину, которую мы пытаемся
установить, в следующих словах: «Все великие нации формировались в уединении и
в тайне. Они были созданы вдалеке от всякого раздражения»{94}.
Теперь мы незамедлительно перейдем к обзору различных
примеров, начиная с творческих индивидов.
* * *
Апостол Павел
Павел Тарсийский родился в еврейской семье в то время, когда
эллинизм бросал сирийскому обществу вызов, от которого нельзя было уклониться.
В первый период своей деятельности он преследовал последователей Иисуса среди
своих соплеменников, которые в глазах еврейского зелота[465] были виновны в том, что внесли раскол в ряды
еврейской общины. Во второй период своей деятельности он повернул свою энергию
в противоположном направлении, проповедуя новое обетование, «где нет ни Еллина,
ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного»{95},
проповедуя это взаимодействие во имя той секты, которую некогда преследовал
сам. Эта последняя глава была наиболее творческой в деятельности апостола
Павла. Первая глава была ложным началом. А между двумя этими главами лежит
огромная пропасть. После своего неожиданного прозрения на пути в Дамаск Павел
«не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», но ушел в Аравийскую
пустыню. Спустя три года он посетил Иерусалим и встретил первых апостолов с
намерением возобновить практическую деятельность{96}.
Жизнь Бенедикта Нурсийского (ок. 480‑543) совпала с
предсмертной агонией эллинского общества. Посланный ребенком из родной Умбрии в
Рим, чтобы получить традиционное для высших классов гуманитарное образование,
он восстал против столичной жизни и удалился в раннем возрасте в пустыню. В
течение трех лет он жил в полном одиночестве. Но поворотной точкой в его
деятельности стал возврат к общественной жизни по достижении зрелости, когда он
согласился встать во главе монашеской общины: сначала в долине Субиако, а
впоследствии – в Монтекассино[466]. В этой
последней творческой главе своей деятельности святой создал новую систему
образования взамен устаревшей, отвергнутой им еще в детстве, а бенедиктинская
община Монте‑Кассино стала матерью монастырей, которые росли и умножались, пока
бенедиктинский устав не распространился до самых дальних уголков Запада.
Действительно, этот устав был одной из главных основ новой социальной структуры
западного христианства, которая восстала на руинах древнего эллинского мира.
Одной из наиболее важных особенностей бенедиктинского устава
было предписание ручного труда, под которым в первую очередь подразумевался
сельскохозяйственный труд в полях. Бенедиктинское движение в экономическом
плане явилось сельскохозяйственным возрождением – первым возрождением сельского
хозяйства в Италии со времен разорения италийской крестьянской экономики в ходе
войны с Ганнибалом. Бенедиктинскому уставу удалось достичь того, чего никогда
не удавалось ни аграрным законам Гракхов, ни имперским alimenta[467],
поскольку он действовал не сверху вниз, как действуют государственные
постановления, но снизу вверх, пробуждая личную инициативу через религиозный
энтузиазм. Благодаря этому духовному elan (порыву), бенедиктинский устав
не только изменил направление экономической жизни Италии, но и выполнил в
средневековой Трансальпийской Европе ту напряженную первопроходческую работу по
вырубке лесов, осушению болот и созданию полей и пастбищ, которую в Северной
Америке выполнили французские и английские переселенцы.
* * *
Святой Григорий Великий
Примерно через тридцать лет после смерти св. Бенедикта
Григорий, получив должность Praefectus Urbi[468] в Риме, оказался перед невыполнимой задачей.
Рим в 537 г. находился почти в таком же положении, что и Вена в 1920 г. Великий
город, заслуживший свою славу благодаря тому, что в течение веков являлся
столицей великой Империи, теперь оказался отрезанным от своих бывших провинций,
лишился своих исторических функций и был вынужден существовать за счет
собственных ресурсов. В год префектуры Григория Ager Romanus[469] ограничивался приблизительно той областью,
которую занимал девять веков назад, еще до того как римляне начали борьбу с
самнитами за господство в Италии. Но территория, которая прежде обеспечивала
небольшой торговый городок, теперь должна была обеспечивать огромную
паразитическую столицу. Римский магнат, ставший в это время префектом Рима,
должно быть, осознавал неспособность старого порядка справиться с новым
положением дел, и этот тягостный опыт полностью объясняет уход Григория из
мирской жизни двумя годами позднее.
Его уход, подобно уходу апостола Павла, длился три года. В
конце этого периода он решает взять на себя лично миссию по обращению язычников‑англов
в христианство, которую впоследствии получит по папскому благословению, будучи
призван в Рим. Здесь на различных церковных должностях и, наконец, на папском
престоле (590‑604) Григорий выполнил три большие задачи. Он реорганизовал
управление землями Римской церкви в Италии и за морем, устроил переговоры между
имперскими властями в Италии и лангобардскими захватчиками и заложил на месте
старой Империи, лежавшей теперь в руинах, основы новой Римской империи,
построенной на миссионерском рвении, а не на военной силе. Эта Империя
завоевала, в конце концов, новые миры, по земле которых никогда не ступала нога
легионера и о самом существовании которых никогда не подозревали Сципион и
Цезарь.
* * *
Будда
Сиддхартха Гаутама Будда родился в индском мире в период его
«смутного времени». Он дожил до того времени, когда его родной город‑государство
Капилавасту разграбили, а его родственников из племени шакьев истребили.
Небольшие аристократические республики древнего индского мира, одной из которых
была община шакьев, по‑видимому, во времена Гаутамы стали жертвой более крупных
растущих самодержавных монархий. Гаутама родился в аристократическом роду
племени шакьев как раз в тот момент, когда аристократическому порядку был
брошен вызов новыми социальными силами. Личным ответом Гаутамы на этот вызов
был отказ от мира, ставшего негостеприимным для наследственных аристократов. В
течение семи лет он искал просветления при помощи все более строгой аскезы. И
только когда на него снизошел свет, он предпринял первый шаг по возвращению в
мир, прервав свой пост. А затем, достигнув собственного просветления, он
потратил оставшуюся часть жизни на просветление своих собратьев. Чтобы передать
увиденный им свет, он разрешил группе учеников собраться вокруг себя и тем
самым стал центром и главой братства.
* * *
Мухаммед
Мухаммед родился в среде аравийского внешнего пролетариата
Римской империи в тот период, когда отношения между Империей и Аравией
близились к кризису. На рубеже VI и VII вв. христианской эры процесс
оплодотворения Аравии культурными влияниями, исходившими из Империи, достиг
своего предела. Должна была последовать какая‑то ответная реакция со стороны
Аравии в форме высвобождения энергии. Формой, которую приняла эта реакция,
стала деятельность Мухаммеда (время жизни – приблизительно 570‑632 гг.).
Движение ухода‑и‑возврата было прелюдией к каждой из двух отправных точек, от
которых зависела история жизни Мухаммеда.
В общественной жизни Римской империи времен Мухаммеда были
две особенности, которые могли произвести особенно глубокое впечатление на
сознание аравийского наблюдателя, поскольку в Аравии обе они явно
отсутствовали. Первой из особенностей был монотеизм в религии. Второй
особенностью были закон и порядок в управлении. Дело жизни Мухаммеда состояло в
переносе обоих этих элементов общественного устройства «Рума» на местную
аравийскую почву и в объединении арабизированного монотеизма и арабизированной
империи в едином институте – всеобъемлющем институте ислама. Мухаммед сумел
сообщить этому институту столь титанический импульс, что новое управление,
задуманное автором для удовлетворения нужд варваров Аравии, вырвалось за
пределы полуострова и покорило весь сирийский мир от побережья Атлантики до
границ Евразийской степи.
Эта деятельность, которую Мухаммед, по‑видимому, начал
примерно на сороковом году жизни (около 609 г.), делится на два этапа. На
первом этапе Мухаммед сосредоточился исключительно на своей религиозной миссии.
На втором этапе религиозная миссия была перекрыта и почти подавлена
политической деятельностью. Первоначальное обращение Мухаммеда к чисто
религиозной деятельности явилось результатом его возврата к родной аравийской
жизни после длившегося примерно пятнадцать лет частичного ухода в качестве
караванного торговца, кочевавшего между аравийскими оазисами и сирийскими
пустынными «портами» Римской империи вдоль северных окраин Аравийской степи.
Второй, политико‑религиозный этап деятельности Мухаммеда начался с ухода
пророка, или хиджры[470],
из родного оазиса Мекки во враждебный оазис Ятриб, известный с тех пор par
excellence как Медина – «Город Пророка». В хиджре, которая была
осознана мусульманами настолько решающим событием, что они приняли ее в
качестве начальной точки исламской эры, Мухаммед покинул Мекку, спасаясь от
преследований. После семи лет отсутствия (с 622 по 629 г.) он вернулся в Мекку
не как прощенный изгнанник, но как господин и хозяин половины Аравии.
* * *
Макиавелли
Флорентийскому гражданину Макиавелли (1469‑1527) было
двадцать пять лет, когда в 1494 г. французский король Карл VIII перешел через
Альпы и вступил со своей армией в Италию. Таким образом, Макиавелли принадлежал
к тому поколению, которое было достаточно взрослым, чтобы помнить Италию, какой
она была еще до «варварских вторжений». Он также уже достаточно долго прожил,
чтобы понимать, что полуостров стал международной ареной борьбы между
различными трансальпийскими или заморскими державами, которые обретали награды
и знаки своих переменных побед в перехватывании друг у друга деспотического
господства над независимыми итальянскими городами‑государствами. Этот удар по
Италии со стороны неитальянских держав явился вызовом, на который пришлось
отвечать поколению Макиавелли, и тем жизненным опытом, через который ему
пришлось пройти. Итальянцам данного поколения было особенно тяжело столкнуться
с этим опытом, поскольку его не испытывали ни они, ни их предки, по крайней
мере, в течение двух с половиной столетий.
Макиавелли был одарен от природы незаурядными политическими
способностями. Он обладал ненасытным стремлением прикладывать свои таланты.
Судьба сделала его гражданином Флоренции, одного из ведущих городов‑государств
полуострова, а заслуги принесли ему в возрасте двадцати девяти лет пост
секретаря правительства[471]. Назначенный
на эту важную должность в 1498 г., т. е. через четыре года после французского
вторжения, он приобрел из собственного опыта знание о новых «варварских»
державах, исполняя свои официальные обязанности. После четырнадцати лет
подобного опыта он стал, возможно, самым квалифицированным среди итальянцев
человеком, способным принять участие в решении настоятельной задачи по оказанию
помощи Италии в деле ее политического спасения, однако поворот колеса во
внутренней флорентийской политике неожиданно выбросил его из сферы практической
деятельности. В 1512 г. он был лишен поста государственного секретаря, а на
следующий год подвергся тюремному заключению и пыткам. И хотя он был достаточно
удачлив, чтобы выйти живым, ценой, которую пришлось заплатить за освобождение
из тюрьмы, стала пожизненная высылка в поместье близ Флоренции. Крах его
карьеры был полным. Однако, подвергнув его столь ужасному личному вызову,
Фортуна нашла, что у Макиавелли достаточно сил на эффективный ответ.
В письме, написанном вскоре после высылки в поместье своему
другу и бывшему коллеге, Макиавелли в деталях и с почти юмористической
беспристрастностью описывает тот распорядок дня, который теперь составляет для
себя. Вставая с восходом Солнца, он посвящает дневные часы скучным встречам и
занятиям гимнастикой, соответствующей навязанному ему ныне образу жизни. Но это
еще не конец его дня.
«Когда наступает вечер, я возвращаюсь в дом и приступаю к
моим занятиям. У двери я снимаю деревенские одежды, облепленные грязью и илом,
и надеваю придворное платье. Таким образом, переодевшись в приличную одежду, я
вхожу в старинные дворцы людей древности. Там я получаю от моих хозяев всю
преданную доброжелательность и пирую на этом пиршестве, являющемся моей
единственной истинной пищей, для которой я был рожден».
В эти часы ученых изысканий и размышлений был задуман и
написан «Государь». Заключительная глава этого знаменитого трактата, носящая
название «Призыв к освобождению Италии от варваров», открывает намерение,
которое было у Макиавелли, когда он брался за перо. Он еще раз направил все
свои силы на решение одной из жизненно важных проблем государственного
управления современной ему Италии в надежде, что, даже находясь в нынешнем его
положении, он, возможно, сможет помочь решить эту проблему, преобразовав в
творческую мысль ту энергию, которая была лишена практического выхода.
Фактически политическая надежда, воодушевлявшая «Государя»,
не оправдалась. Книге не удалось достичь непосредственной авторской цели.
Однако это не означает, что «Государь» был провалом, ибо занятие практической
политикой в буквальном смысле не составляло суть той деятельности, которой
предавался Макиавелли, когда вечер за вечером в своем удаленном поместье входил
во дворцы людей древности. Благодаря своим произведениям Макиавелли смог
вернуться в мир в духовном плане, в котором его воздействие на этот мир
оказалось гораздо более значительным, чем смогли бы достичь в тонкостях
практической политики высочайшие из возможных свершений на посту
государственного секретаря Флоренции. В эти волшебные часы катарсиса,
когда он поднимался над раздражением духа, Макиавелли удавалось преобразовать
свою практическую энергию в ряд мощных интеллектуальных произведений –
«Государь», «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия», «О военном искусстве» и
«История Флоренции», которые стали семенами современной западной политической
философии.
* * *
Данте
Двумя столетиями ранее в истории того же самого города
встречается удивительно похожий пример. Ибо и Данте не совершил еще дела своей
жизни, пока не был вынужден покинуть родной город. Во Флоренции Данте влюбился
в Беатриче, лишь для того, чтобы увидеть, что она умерла для него, став женой
другого человека. Во Флоренции он занялся политикой, лишь затем, чтобы его
приговорили к изгнанию, из которого он никогда не вернулся. Однако, утратив
флорентийское гражданство, Данте смог стать гражданином мира, ибо в изгнании
его гений, перечеркнутый в политике после того, как был перечеркнут в любви,
нашел дело своей жизни в создании «Божественной комедии».
3. Уход‑и‑возврат: творческое меньшинство
Афины в первой главе роста эллинского общества
Выдающимся примером ухода‑и‑возврата, уже не раз
приводившимся нами выше в другой связи, является поведение афинян в период
кризиса, в котором оказалось эллинское общество в результате брошенного ему
мальтузианского вызова VIII в. до н. э.
Мы отмечали, что первая реакция Афин на эту проблему
перенаселения была явно негативной. Они не отвечали на нее, подобно многим
своим соседям, основанием заморских колоний, не отвечали, подобно спартанцам,
захватом территорий сопредельных греческих городов‑государств и обращением их
жителей в своих рабов. В этот период, длившийся до тех пор, пока соседи
оставляли их в покое, Афины продолжали играть явно пассивную роль. Первый
проблеск их демонической скрытой энергии можно увидеть в яростной реакции на
попытку спартанского царя Клеомена I подчинить Афины лакедемонской гегемонии[472]. Благодаря
решительному противодействию лакедемонянам, послужившему причиной воздержания
от участия в колонизационном движении, Афины более или менее умышленно отделили
себя от остального эллинского мира больше чем на два столетия. Однако эти два
столетия не были для Афин периодом бездействия. Наоборот, у Афин было то
преимущество, что в столь долгом уединении они могли сконцентрировать свою
энергию и дать общеэллинской проблеме собственное оригинальное решение –
афинское решение, которое доказало свое превосходство, продолжая действовать и
в тех условиях, когда и решение за счет колонизации, и спартанское решение
стали приводить к уменьшению отдачи. Именно благодаря тому, что они
своевременно переделали традиционные институты в соответствии со своим новым
образом жизни, Афины наконец вернулись на арену. Но когда они вернулись, это
произошло с беспрецедентной для эллинской истории стремительностью.
Афины заявили о своем возврате поразительным жестом, бросив
вызов Персидской империи. Именно Афины ответили, в то время как Спарта на это
не решалась, на призыв восставших азиатских греков в 499 г. до н. э., и с этого
дня Афины выступали как главное действующее лицо в пятидесятилетней войне между
Элладой и сирийским универсальным государством. В течение более чем двух
столетий, начиная с V в. до н. э., роль Афин в эллинской истории была полной
противоположностью той роли, которую они играли в равный по времени
предшествующий период. В течение этого второго периода Афины постоянно
находились в гуще событий эллинской внутренней политики и до тех пор, пока не
обнаружили, что оставлены далеко позади новыми титанами, рожденными в ходе
восточной авантюры Александра, неохотно отказывались от статуса и бремени
великой эллинской державы. Но уход Афин после окончательного поражения в
схватке с Македонией в 262 г. до н. э.[473] не означал конец их активного участия в
эллинской истории. Ибо задолго до того, как они проиграли военное и
политическое состязание, они стали «школой Эллады» во всех других сферах. Афины
придали эллинской культуре неизгладимый аттический отпечаток, который до сих
пор еще сохраняется в глазах потомков.
* * *
Италия во второй главе роста западного общества
Мы уже отмечали, говоря о Макиавелли, что Италия в течение
более чем двухвекового периода – со времени падения Гогенштауффенов в середине
XIII столетия до французского вторжения в конце XV – обеспечила себе уход от
беспорядочного феодального полуварварского мира Трансальпийской Европы.
Величайшие достижения итальянского гения, на протяжении этих двух с половиной столетий
остававшегося неприкосновенным, были не экстенсивными, а интенсивными, не
материальными, а духовными. В архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и
культуре итальянцы создали творения, сравнимые с достижениями греков,
созданными в течение равного по протяженности периода в V‑IV вв. до н. э. В
самом деле, итальянцы искали вдохновения в древнегреческом гении, пытаясь
вызвать призрак умершей эллинской культуры, глядя на достижения греков как на
нечто абсолютное, образцовое и классическое, чему можно лишь подражать, но что
невозможно превзойти. Следуя по их стопам, и мы установили систему
«классического» образования, которая лишь в недавнее время уступила дорогу
требованиям современной техники. Наконец, итальянцы использовали свою с таким
трудом завоеванную свободу от чуждого владычества для создания в пределах
своего ненадежно укрытого полуострова итальянского мира, в котором уровень
западной цивилизации очень рано поднялся до такой вершины, что разница в
степени стала равносильна разнице в качестве. К концу XV столетия итальянцы
чувствовали себя настолько выше остальных европейцев, что (отчасти из
тщеславия, а отчасти из убежденности) возродили понятие «варвары» для описания
народов, обитавших по ту сторону Альп и Тирренского моря. И тогда эти современные
«варвары» начали играть свою роль, показывая себя и в политическом, и в военном
отношении мудрее итальянских «детей света».
По мере того как новая итальянская культура распространялась
с полуострова во всех направлениях, она ускоряла процесс культурного роста
окружавших ее народов. Прежде всего это касалось процесса роста более крупных
элементов культуры – таких, как политическая организация и военная техника, где
воздействие распространения обычно дает ощутить себя быстрее всего. Когда
«варвары» овладели этими итальянскими искусствами, они смогли применить их в
гораздо большем масштабе, чем масштаб итальянских городов‑государств.
Объяснение успеха «варваров» в достижении такого масштаба
организации, который для итальянцев оказался за пределами их возможностей,
содержится в том факте, что «варвары» применяли уроки, полученные у итальянцев,
в гораздо более легких обстоятельствах, чем те, которые были уделом их
учителей. Итальянскому государственному управлению препятствовало действие
одного из постоянных законов – закона «политического равновесия», в то время
как «варварскому» государственному управлению действие того же самого закона
способствовало.
«Политическое равновесие» – система политической динамики,
начинающая действовать всякий раз, когда общество расчленяется на множество
независимых друг от друга локальных государств. Итальянское общество,
отделившее себя от остального западно‑христианского мира, в то же время
расчленило себя именно таким образом. Движение за отделение Италии от Священной
Римской империи было доведено до конца множеством городов‑государств, каждое из
которых стремилось утвердить за собой право местного самоопределения. Таким
образом, создание обособленного итальянского мира и расчленение его на
множество государств явились событиями одновременными. В подобном мире закон
«политического равновесия» обычно действует таким образом, что сохраняет
средний размер государств небольшим с точки зрения всех критериев, в которых
можно было бы измерить их политическую силу: территории, населения и богатства.
Ибо на каждое государство, угрожающее увеличением своих размеров выше
преобладающего среднего уровня, почти автоматически начинает оказываться
давление со стороны всех других сопредельных государств. Один из законов
«политического равновесия» как раз в том и состоит, что это давление является
наиболее сильным в центре, а наиболее слабым – на периферии группы связанных
между собой государств.
В центре за всяким движением, предпринимаемым каким‑либо
отдельным государством в целях расширения собственных границ, ревниво наблюдают
все его соседи и ловко противятся этому расширению, а власть над несколькими
квадратными милями становится предметом самой упорной борьбы. На периферии,
наоборот, конкуренция ослаблена и малые усилия могут принести большие
результаты. Соединенные Штаты могли незаметно расширять свои владения от
Атлантики до Тихого океана, а Россия – от Балтики до Тихого океана, тогда как
все усилия Франции или Германии заполучить в бесспорное владение Эльзас или
Познань были недостаточны.
Тем, чем сегодня являются Россия и Соединенные Штаты по
отношению к старым, стиснутым в своих границах национальным государствам
Западной Европы, четыреста лет назад по отношению к таким итальянским городам‑государствам
того времени, как Флоренция, Венеция и Милан, выступали сами западноевропейские
общины – итальянизированная Людовиком ХI[474] Франция, Фердинандом Арагонским[475] Испания и первыми Тюдорами[476] Англия.
Произведя сравнение, мы можем увидеть, что афинский уход в
VIII–VI вв. до н. э. и итальянский уход в XIII–XV вв. христианской эры весьма
схожи друг с другом. В обоих случаях в политическом плане уход был полным и
непрерывным. В обоих случаях отделившее себя меньшинство посвятило свои силы
задаче найти какое‑то решение проблемы, поставленной перед всем обществом. И в
обоих случаях творческое меньшинство возвратилось в нужный момент, когда его
творение было завершено, в то общество, которое временно покинуло, и оставило
свой отпечаток на всей социальной системе. Кроме того, актуальные проблемы,
которые Афины и Италия решали во время своего ухода, были в основном проблемами
одного порядка. Подобно Аттике в Элладе, Ломбардия и Тоскана в западно‑христианском
мире служили изолированными социальными лабораториями, в которых был успешно
проведен эксперимент по превращению локального самодостаточного
земледельческого общества в независимое международное торгово‑промышленное
общество. В итальянском случае, как и в афинском, имела место радикальная
трансформация традиционных институтов с целью приведения их в соответствие с
новым образом жизни. Коммерциализованные и индустриализованные Афины в
политическом плане перешли от аристократического государственного устройства, основанного
на знатном происхождении, к буржуазному, основанному на собственности.
Коммерциализованные и индустриализованные Милан, Болонья, Флоренция или Сиена
перешли от преобладавшего в западно‑христианском мире феодализма к новой
системе непосредственных отношений между отдельными гражданами и независимыми
местными правительствами, чья независимость принадлежала самим же гражданам.
Эти конкретные политико‑экономические нововведения, так же как и неосязаемые и
неуловимые творения итальянского гения, передавались Италией Трансальпийской
Европе, начиная с конца XV столетия.
Однако на этой стадии пути развития западной и эллинской
истории расходятся в разные стороны вследствие одного существенного различия в
положении итальянских городов‑государств в западно‑христианском мире и Афин в
Элладе. Афины были городом‑государством, возвратившимся в мир городов‑государств.
Но та модель города‑государства, по которой в Средние века подобным же образом
стал организовываться итальянский «мир‑внутри‑мира», не была изначальной
основой общественного разделения в западно‑христианском мире. Первоначальным
основанием этого разделения был феодализм, и большая часть[государств] западно‑христианского
мира все еще организовывалась на феодальной основе вплоть до конца XV столетия,
когда итальянские города‑государства были вновь присоединены к основному ядру
западного общества.
Эта ситуация представляет собой проблему, которая
теоретически может быть решена двумя путями. Чтобы усвоить социальные
нововведения, которые выдвигала Италия, Трансальпийская Европа должна была или
порвать со своим феодальным прошлым и разделиться вновь, уже на основе деления
на города‑государства, или же модифицировать итальянские нововведения таким
образом, чтобы они были способны работать на феодальной основе и в
соответствующем масштабе королевских государств. Несмотря на то что система
городов‑государств достигла значительного успеха в Швейцарии, Швабии,
Франконии, Нидерландах и на Северо‑Германской низменности, где важными
стратегическими пунктами, контролировавшими речные и морские пути, являлись
города Ганзейского союза, в целом за Альпами было принято второе решение
проблемы. Это приводит нас к другой главе западной истории и к другому, равно
замечательному и плодотворному, уходу‑и‑возврату.
* * *
Англия в третьей главе роста западного общества
Проблема, вставшая перед западным обществом в это время,
заключалась в том, как перейти от сельскохозяйственного аристократического к
промышленному демократическому образу жизни, не принимая систему городов‑государств.
Этот вызов был принят в Швейцарии, Голландии и Англии, однако в конце концов
получил английский ответ. Во всех этих трех странах географическая среда
предоставляла до некоторой степени благоприятные условия для их ухода от
общеевропейской жизни. Швейцария [была отделена от остальной Европы] горами,
Голландия – дамбами, а Англия – Ламаншем. Швейцарцы успешно преодолели кризис
позднесредневекового городского космоса, установив федеративную форму правления
и сохранив свою независимость от посягательств сначала со стороны Габсбургов, а
затем – со стороны Бургундии[477]. Голландцы
утвердили свою независимость от Испании и объединились на федеративных началах
в составе семи Соединенных провинций[478].
Окончательное поражение в Столетней войне исцелило англичан от стремления
подчинить себе зависимые страны на континенте[479], и, подобно
голландцам, в правление Елизаветы I они уже отражали агрессию католической
Испании[480]. С этого
времени и вплоть до войны 1914‑1918 гг. уклонение от участия в континентальных
делах было принято без дальнейшего обсуждения в качестве одной из основных и
постоянных целей британской внешней политики.
Но три этих локальных меньшинства не все были в одинаковой
степени удачно расположены, чтобы осуществлять общую для них политику ухода.
Швейцарские горы и голландские дамбы – преграды менее эффективные, чем Ламанш.
Голландцы никогда полностью не оправились от войн с Людовиком XIV и наряду со
швейцарцами были даже на некоторое время поглощены наполеоновской империей.
Кроме того, швейцарцы и голландцы в качестве претендентов на решение уже
описанной нами выше проблемы оказались в затруднении и в другой связи. Они
никогда не представляли собой полностью централизованные национальные
государства, но были лишь добровольно объединившимися союзами кантонов и
городов. Таким образом, Англии (а затем, после союза 1707 г., англо‑шотландскому
Соединенному Королевству Великобритании) выпало сыграть в третьей главе истории
западно‑христианского мира ту роль, которую Италия сыграла во второй.
Следует заметить, что сама Италия начала осторожно
продвигаться по пути преодоления раздробленности. К концу периода ее ухода
число независимых городов‑государств, ранее составлявшее около семидесяти или
восьмидесяти, в результате завоеваний уменьшилось до восьми или десяти крупных
объединений. Однако результат был недостаточен в двух отношениях. Во‑первых,
хотя эти новые итальянские политические единицы и превосходили по своим
размерам те, что были раньше, они все же были еще достаточно небольшими, чтобы
противостоять «варварам», когда начался период их вторжения. Во‑вторых, формой правления,
развивавшейся в этих новых, более крупных единицах, всегда являлась тирания, а
политические достоинства прежней городской системы были со временем утрачены.
Именно эта новая итальянская система деспотии, оказавшись по ту сторону Альп,
была без труда приспособлена к более крупным трансальпийским политическим
единицам – Габсбургами в Испании и Австрии, Валуа[481] и Бурбонами во Франции и, наконец,
Гогенцоллернами[482] в Пруссии. Однако это казавшееся прогрессивным
направление явилось тупиком. Без достижения некоего рода политической
демократии трансальпийским государствам было трудно подражать прежним
экономическим достижениям итальянцев в процессе перехода от сельского хозяйства
к торговле и промышленности, произошедшем в Италии при распространении городов‑государств.
В Англии, в отличие от Франции и Испании, развитие
самодержавной монархии явилось вызовом, породившим эффективный ответ.
Английский ответ вдохнул новую жизнь и привнес новые функции в традиционное
устройство трансальпийских государств, являвшееся в такой же степени
английским, как французским и испанским наследием общего западно‑христианского
прошлого. Одним из традиционных трансальпийских институтов был периодический
созыв парламента или проведение совещаний между королевской властью и
представителями сословий с двойной целью: обсуждения жалоб и получения от
сословий вотума на ассигнования королевской власти – в качестве qui pro quo[483] благородного обязательства в том, что
обоснованные жалобы будут удовлетворены. В ходе постепенной эволюции этот
институт в трансальпийских королевствах открыл решение местной проблемы
материального характера – проблемы не поддающейся контролю численности
населения и проблемы непреодолимых расстояний, – придумав или открыв заново
юридическую фикцию «представительства». Обязанность и право каждой личности,
занятой в деятельности парламента, участвовать в его делах (обязанность и
право, самоочевидные в городах‑государствах) в громоздких феодальных
королевствах низводились до обязанности уполномоченных представителей прибыть
на место заседания парламента и до права быть представленным по доверенности.
Этот феодальный институт периодически созывавшегося
представительного и совещательного собрания прекрасно соответствовал своей
первоначальной цели служить связью между королевской властью и ее подданными. С
другой стороны, с самого начала он совершенно не был приспособлен для
выполнения задачи, успешно решенной в Англии XVII столетия, – задачи принятия
на себя функций самой королевской власти и постепенного вытеснения ее как
главной политической силы. Почему же получилось так, что англичане приняли и
успешно ответили на вызов, с которым не смогло справиться ни одно другое
современное им трансальпийское королевство? Ответ на этот вопрос можно найти в
том факте, что Англия, будучи по своей территории меньше континентальных
феодальных королевств и обладая четче очерченными границами, гораздо раньше
своих соседей достигла подлинно национального существования в противовес
феодальному. Будет не просто парадоксом сказать, что сила английской монархии
во второй, средневековой, главе истории западного христианства сделала
возможным вытеснение ее парламентской формой правления в третьей главе. Ни одна
другая страна во второй главе [европейской истории] не знала такого властного
дисциплинарного контроля, какой осуществлялся при Вильгельме Завоевателе,
Генрихе I, Генрихе II, Эдуарде I и Эдуарде III[484]. При этих
сильных правителях Англия сплотилась в национальное государство задолго до
того, как нечто подобное произошло во Франции, Испании или Германии. Другим
фактором, приведшим к данному результату, было господствующее положение
Лондона. Ни в каком другом западном королевстве за Альпами не было такого,
чтобы один какой‑то город столь сильно препятствовал росту других. К концу XVII
столетия, когда население Англии было еще незначительно по сравнению с Францией
или Германией и даже меньше, чем население Испании или Италии, Лондон, по всей
вероятности, уже был самым большим городом в Европе. Фактически можно
утверждать, что Англия успешно решила проблему приспособления итальянской
городской системы к общественной жизни в национальном масштабе, поскольку более
чем другие трансальпийские нации она уже достигла (благодаря своему небольшому
размеру, своим жестким границам, своим сильным королям и господствующему
положению одного города) той компактности и того [уровня] самосознания, которые
были ярко выражены в городах‑государствах.
Однако, несмотря даже на эти благоприятно сложившиеся
условия, удача англичан, сумевших разлить новое вино ренессансного итальянского
административного управления в старые мехи средневекового трансальпийского
парламентаризма, не позволив этим старым мехам лопнуть, явилась конституционной
победой, которую иначе как изумительный tour de force (рывок) нельзя и
рассматривать. И этот английский конституционный tour de force,
позволивший перенести парламент через пропасть, разделяющую критику
правительства от его руководства, был выполнен для западного общества
английским творческим меньшинством в первой фазе его ухода от связей с
континентом, в период, охватывающий елизаветинскую эпоху[485] и большую часть XVII столетия. Когда в ответ
на вызов, брошенный Людовиком XIV, англичане предприняли попытку частичного и
временного возврата на континентальную арену под блестящим руководством
Мальборо[486],
континентальные народы начали наблюдать за тем, что делали островные жители.
Началась эпоха англомании, как иногда называют это время французы. Монтескье
проповедовал неверно понятые им английские достижения. Англомания в форме
культа конституционной монархии была одной из огневых цепей, воспламенивших
Французскую революцию. Общеизвестно, как по мере перехода от XIX столетия к XX
у всех народов земли появилось стремление прикрыть свою политическую наготу
фиговыми листками парламентаризма. Этот широко распространившийся культ
английских политических институтов в конце третьей главы западной истории,
несомненно, перекликается с поклонением перед итальянской культурой в конце
второй фазы, на рубеже XV‑XVI столетий. Наиболее яркой иллюстрацией этого
культа Италии является для англичан то, что более трех четвертей шекспировских
пьес основано на итальянских повестях. Действительно, Шекспир в «Ричарде II»,
намекая на это, пародирует италоманию, примером которой является его
собственный выбор сюжетов. Старый достопочтенный герцог Йоркский создан лишь
для того, чтобы сказать, что глупого молодого короля ввели в заблуждение
Россказни о модах итальянских, –
Ведь нынче мы Италии кичливой
Во всем, как обезьяны, подражаем
И тащимся у ней на поводу{97}.
Драматург в своей обычной анахроничной манере приписывает
веку Чосера то, что было более характерно для его собственного века, хотя, если
говорить о данном предмете, Чосер и его век явились свидетелями начала данного
явления.
Открытие англичанами системы парламентского правления в
сфере политики обеспечило благоприятные социальные условия для последующего
открытия индустриализма. «Демократия» в смысле системы правления, при которой
исполнительная власть ответственна перед парламентом, представляющим народ, и
«индустриализм» в смысле системы машинного производства при помощи рабочих рук,
сконцентрированных на фабриках, являются двумя господствующими институтами
нашего века. Они начали господствовать, потому что дали наилучшее во всем
западном обществе решение проблемы переноса политических и экономических
достижений итальянской городской культуры из городов‑государств в королевства.
Оба эти решения были разработаны в Англии в ту эпоху, которую один из недавних
ее государственных деятелей назвал эпохой «олестящеи изоляции»[487].
* * *
Какую роль будет играть Россия в западной истории?
Можем ли мы в современной истории «мирового сообщества», в
которое развился западно‑христианский мир, различить симптомы той тенденции
одного века опережать следующий и какой‑то одной части всего общества решать в
изоляции проблемы будущего (в то время как остальные части еще бьются над
решением выводов прошлого), которая означает, что процесс роста все еще
продолжается? Теперь, когда проблемы, поставленные перед нами итальянскими
решениями более ранних проблем, получили свои английские решения, не вызовут ли,
в свою очередь, эти английские решения новые проблемы? В наше время мы уже
осознаем два новых вызова, перед которыми оказались вследствие победы
демократии и индустриализма. В частности, экономическая система индустриализма,
подразумевающая локальную специализацию производства искусной и дорогостоящей
продукции для мирового рынка, требует установления некоего рода мирового
порядка в качестве своей основы. А в целом как индустриализм, так и демократия
требуют от человеческой природы большего индивидуального самоконтроля, взаимной
терпимости и общественного взаимодействия, чем склонны применять на практике
человеческие социальные животные, поскольку эти новые институты придали
беспрецедентную по своей мощности энергию всем социальным действиям человека. Например,
все соглашаются с тем, что в тех социальных и технических обстоятельствах, в
которых мы оказались ныне, дальнейшее существование нашей цивилизации зависит
от уничтожения войны как метода урегулирования наших разногласий. Здесь нас
интересует только то, не привели ли эти вызовы к каким‑либо свежим примерам
ухода, за которым последует возврат.
Пока еще слишком рано делать какие‑либо определенные
заявления относительно той главы истории, которая явно находится в настоящее
время на своей начальной стадии. Однако мы можем рискнуть и поразмышлять о том,
не содержится ли здесь объяснение нынешнего положения русского православного
христианства. В русском коммунистическом движении мы уже обнаружили под
европейской маской «зелотскую» попытку избежать вестернизации, навязанной
России два века назад Петром Великим. В то же время мы видели, что этот
маскарад волей‑неволей становился серьезным. Мы сделали вывод, что западное
революционное движение, принятое не желавшей вестернизации Россией в качестве
антизападного жеста, оказалось более мощным проводником вестернизации в России,
чем любое традиционное изложение западного социального символа веры. Мы
постарались выразить этот позднейший результат общественных связей между
Россией и Западом в формуле, согласно которой отношение, некогда являвшееся
внешней связью между двумя отдельными обществами, превратилось во внутренний
опыт «мирового сообщества», в которое ныне была включена Россия. Можем ли мы
пойти дальше и сказать, что Россия, будучи включена в состав «мирового
сообщества», в то же время совершает уход от его общей жизни, чтобы сыграть
роль творческого меньшинства, стремящегося дать некое решение на текущие
проблемы «мирового сообщества»? По крайней мере, это возможно, и многие
поклонники нынешнего русского эксперимента верят в то, что Россия вернется в
«мировое сообщество» в этой созидательной роли.
XII.
Дифференциация в процессе роста
Теперь, завершив исследование процесса роста цивилизаций, мы
убедились, что в нескольких изученных примерах встречаемся, по‑видимому, с
тождественным процессом. Рост достигается, когда индивид, меньшинство или
общество в целом отвечает на вызов, причем не просто на него отвечает, но также
и становится ответственным за новый вызов, который, в свою очередь, требует
дальнейшего ответа. Однако, хотя процесс роста может быть единообразным, опыт
различных сторон, подвергающихся вызову, не один и тот же. Разнообразие опыта,
возникающего в этом противостоянии единому ряду общих вызовов, становится
очевидным, когда мы сравниваем опыт нескольких различных общин, на которые
разделяется любое единое общество. Некоторые общины становятся жертвами, в то
время как другие придумывают успешный ответ благодаря творческому движению
ухода‑и‑возврата. Третьи же не становятся жертвами и не достигают успеха, но
умудряются оставаться в живых до тех пор, пока добившийся успеха представитель
[этих общин] не показывает им новый путь, по которому они идут, покорно следуя
по стопам первопроходцев. Таким образом, каждый успешный вызов порождает в
обществе дифференциацию, и чем длиннее ряд вызовов, тем более резко выраженной
будет эта дифференциация. Кроме того, если процесс роста дает начало
дифференциации внутри единого растущего общества, где вызовы для всех одни и те
же, то a fortiori (тем более) этот же процесс должен отделять одно
растущее общество от другого, где сам характер вызовов различен.
Особенно яркими являются иллюстрации из области искусства,
поскольку общепризнанно, что каждая цивилизация творит свой художественный
стиль. Если мы попытаемся установить границы какой‑либо отдельной цивилизации в
пространстве или во времени, то обнаружим, что эстетическая проверка столь же
безошибочна, сколь тонка. Например, обзор художественных стилей,
господствовавших в Египте, выявляет тот факт, что искусство до‑династического
периода – еще не типично египетское, тогда как коптское искусство уже
отказалось от типично египетских черт. Опираясь на эти данные, мы можем
установить временные границы египетской цивилизации. Благодаря аналогичной
проверке мы можем установить даты, когда эллинская цивилизация появилась из‑под
толщи минойского общества и когда она распалась, уступив место православно‑христианскому
обществу. К тому же стиль минойских артефактов дает нам возможность определить
границы географического распространения минойской цивилизации на различных
этапах ее истории.
Если мы согласны с тем, что каждая цивилизация обладает
своим собственным стилем в области искусства, то нам следует выяснить, может ли
качественная неповторимость, составляющая сущность стиля, проявиться в этой
единственной области, не распространяясь на все части, органы, институты и виды
деятельности каждой отдельной цивилизации. Не приступая к какому‑либо
претенциозному исследованию в этом направлении, мы можем утверждать тот
общепризнанный факт, что различные цивилизации придают различное значение
отдельным видам деятельности. Эллинская цивилизация, например, демонстрирует
явно доминирующую тенденцию к эстетическому взгляду на жизнь в целом,
иллюстрируемую тем фактом, что греческое прилагательное κάλος, которое, в
частности, означает «эстетически прекрасное», употреблялось без различия и для
обозначения нравственно доброго. С другой стороны, индская цивилизация, так же
как и ее дочерняя, индусская цивилизация, демонстрирует столь же явно выраженную
тенденцию к преимущественно религиозному взгляду.
Когда мы дойдем до западной цивилизации, то без труда
определим и характерную для нее тенденцию. Она, несомненно, заключается в
склонности к машинному производству – в сосредоточении интересов, усилий и
способностей на практическом применении естественнонаучных открытий посредством
изобретательного конструирования материальных и социальных «часовых
механизмов». Это и материальные механизмы, такие как автомобили, наручные часы,
бомбы; и социальные механизмы, такие как парламентские учреждения, системы
государственного страхования и графики военных призывов. Данная склонность была
присуща нам дольше, чем мы предполагаем обычно. Образованная элита других
цивилизаций смотрела на западного человека как на отвратительного материалиста
задолго до начала так называемого машинного века. Анна Комнина[488], византийская
принцесса, ставшая историком, смотрит на наших предков, живших в XI в., именно
таким образом, как явствует из той смеси ужаса и презрения, которая была ее
реакцией на механическое изобретение крестоносцами арбалета. Это западное
новшество того времени – с характерным [для нашей цивилизации] ранним развитием
смертоносных изобретений – на несколько столетий опередило изобретение часового
механизма, явившегося шедевром средневекового европейца в области применения
его механической склонности к менее привлекательным мирным искусствам.
Некоторые современные западные писатели, в частности
Шпенглер, до того увлекались этой темой «характеров» различных цивилизаций, что
трезвая оценка начинала уступать место произвольному фантазированию. Возможно,
мы сказали уже достаточно, установив тот факт, что некоего рода дифференциация
действительно имеет место. [Однако] мы оказались бы перед опасностью утратить
чувство меры, если бы потеряли из виду в одинаковой степени несомненный и
гораздо более значительный факт, что разнообразие, проявляемое в человеческой
жизни и институтах, явление поверхностное, которое скрывает лежащее в основе и
нисколько его не умаляющее единство.
Мы сравнили наши цивилизации со скалолазами. В этом
сравнении различные альпинисты, хотя и являются в действительности отдельными
индивидами, все вовлечены в единое предприятие. Все они пытаются взобраться на
одну и ту же скалу с одной и той же отправной точки, расположенной на нижнем
уступе, до одной и той же цели, расположенной на верхнем уступе. Лежащее в
основе единство в этом случае очевидно. Но оно будет еще очевиднее, если мы
прибегнем к иному сравнению и представим рост цивилизаций в понятиях притчи о
сеятеле{98}. Посеянные семена – это отдельные общества, и каждое из
них имеет свою судьбу. Однако все они принадлежат к одному роду и посеяны одним
Сеятелем в надежде получить добрый урожай.
IV.
Надломы
цивилизаций
XIII.
Природа проблемы
Проблема надломов цивилизаций более очевидна, чем проблема
их роста. В самом деле, она почти так же очевидна, как и проблема их
возникновения. Возникновение цивилизаций нуждается в объяснении ввиду одного
того факта, что этот вид [обществ] появился и что мы можем перечислить двадцать
шесть его представителей (включив в это число пять задержанных цивилизаций и не
обращая внимания на недоразвившиеся). Теперь мы можем пойти дальше и увидеть,
что из этих двадцати шести не менее шестнадцати уже умерло и предано забвению.
Десять оставшихся – это западное общество, основной ствол православного
христианства на Ближнем Востоке, его ответвление в России, исламское общество,
индусское общество, основной ствол дальневосточного общества в Китае, его
ответвление в Японии и три задержанные цивилизации полинезийцев, эскимосов и
кочевников. Если мы более пристально рассмотрим эти десять уцелевших обществ,
то увидим, что полинезийское и кочевническое общества ныне пребывают на стадии
предсмертной агонии, а семь из восьми оставшихся – все в той или иной степени
подвергаются опасности уничтожения или ассимиляции восьмой, а именно
цивилизацией Запада. Кроме того, не менее шести из этих семи обществ (за
исключением эскимосской цивилизации, чей рост задержался в младенчестве) несут
на себе следы уже произошедшего надлома и перехода к стадии распада.
Одним из наиболее заметных признаков распада, как мы уже
отмечали, является то, что в своей последней стадии, несмотря на упадок и
потерю могущества, распадающаяся цивилизация добивается отсрочки благодаря
принудительному подчинению политической унификации в универсальном государстве.
Для западного ученого классическим примером этого является Римская империя, в
которую было насильственно втиснуто эллинское общество в предпоследней главе
его истории. Если мы взглянем теперь на каждую из живущих ныне цивилизаций, за
исключением нашей собственной, то увидим, что основной ствол православного
христианства уже прошел стадию универсального государства в виде Оттоманской
империи. Ответвление православного христианства в России вступило в фазу
универсального государства в конце XV столетия после политического объединения
Московии и Новгорода. Индусская цивилизация обрела свое универсальное
государство в империи Великих Моголов[489] и в сменившей ее Британской империи. Основной
ствол дальневосточной цивилизации – в Монгольской империи, реанимированной
впоследствии в руках маньчжуров. Японское ответвление дальневосточной
цивилизации – в виде сёгуната Токугава[490]. Что касается
исламского общества, то мы, по‑видимому, можем распознать идеологическое
предчувствие универсального государства в панисламском движении[491].
Если мы примем этот феномен универсального государства в
качестве признака упадка, то придем к выводу, что все шесть живущих поныне
незападных цивилизаций были надломлены изнутри еще до того, как их развитие
было прервано воздействием западной цивилизации извне. На дальнейшем этапе
данного «Исследования» мы найдем причину полагать, что цивилизация, ставшая
жертвой успешного вторжения, фактически уже была надломлена изнутри и более не
могла пребывать на стадии роста. Для той задачи, которая стоит перед нами
теперь, достаточно будет заметить, что каждая из живущих цивилизаций (за
исключением нашей собственной) уже надломлена и находится в процессе распада.
А что можно сказать по поводу западной цивилизации? Она явно
не достигла стадии универсального государства. Однако в. предыдущей главе мы
обнаружили, что универсальное государство не является первой стадией распада,
равно как и последней его стадией. За ним следует то, что мы назвали
«междуцарствием», а предшествует ему то, что мы назвали «смутным временем»,
которое, по всей видимости, обычно занимает несколько столетий. Если мы сегодня
можем позволить себе судить о своей эпохе по чисто субъективному критерию
нашего собственного ощущения, то лучшие судьи, возможно, признают, что «смутное
время», без всякого сомнения, уже обрушилось на нас. Но давайте пока оставим
этот вопрос открытым.
Мы уже определили природу подобных надломов цивилизаций. Они
представляют собой неудачи в дерзких попытках подняться с уровня примитивной
человеческой природы до высот некоего сверхчеловеческого образа жизни. Мы
описали потери, понесенные в этом великом предприятии, используя различные
сравнения. Например, мы сравнили их с альпинистами, разбившимися насмерть или
оказавшимися в постыдном состоянии «живых трупов» на уступе, с которого они
стартовали последними, перед тем как «взять высоту» и достичь нового места
отдыха на уступе сверху. Мы уже описывали природу этих надломов в
нематериальных понятиях как утрату творческой мощи в душах творческих индивидов
или меньшинств, утрату, которая лишает их магической силы влияния на души
нетворческих масс. Там, где нет творчества, нет мимесиса. Дудочник, утративший
свое умение, не может больше увлечь толпу в пляс. А если в состоянии ярости и
замешательства он попытается превратиться теперь в сержанта‑инструктора или
надсмотрщика над рабами и принуждать при помощи физической силы тех людей,
которых более не может вести за собой благодаря своему прежнему магнетическому
очарованию, то вернее и быстрее всего он потерпит в своем намерении крах. Ибо
тех его последователей, которые просто ослабли и выбились из ритма, едва
божественная музыка смолкла, удар бича может побудить к активному бунту.
Действительно, мы видели, что в истории любого общества
вырождение творческого меньшинства в меньшинство правящее, пытающееся удержать
при помощи силы то положение, которого перестало уже заслуживать, провоцирует,
с другой стороны, отделение [от общества] пролетариата, который более не
восхищается и не подражает своим правителям, а восстает против своей рабской
зависимости. Мы также видели, что этот пролетариат, когда он отстаивает свои
права, с самого начала разделяется на две особые части. Это внутренний
пролетариат, попранный и непокорный, и пролетариат внешний, пребывающий за
границами и жестоко сопротивляющийся включению его в состав общества.
Согласно этим показателям, можно обобщить природу надломов
цивилизаций в трех пунктах: недостаток творческой силы у меньшинства, в ответ
на это прекращение мимесиса среди части большинства и как результат – утрата
социального единства общества в целом. Запомнив эту картину природы надломов,
мы можем теперь продолжить выяснение их причин – выяснение, которое займет
оставшуюся часть данного раздела нашего «Исследования».
XIV.
Детерминистские решения
Что же в таком случае является причинами надлома
цивилизаций? Прежде чем применить наш собственный метод, который предполагает
размещение в определенном порядке соответствующих конкретных исторических
фактов, нам следует бегло рассмотреть некоторые решения данной проблемы,
воспарявшие выше в своем поиске доказательств и полагавшиеся на недоказуемые
догмы или же на некие факты вне сферы человеческой истории.
Одной из вечных слабостей человеческих существ является
приписывание ими своих собственных неудач тем силам, которые всецело находятся
вне человеческого контроля. Этот интеллектуальный маневр особенно привлекателен
для впечатлительных душ в периоды падения и упадка. В период падения и упадка
эллинской цивилизации среди философов различных школ общим местом было
объяснение распада общества, который они оплакивали, но остановить который не
могли, в качестве побочного и неизбежного следствия всепроникающего натиска
«космического старения». Такова была философия Лукреция[492] в последнем поколении эллинского смутного
времени (ср.: «De Rerum Natura», кн. II, стихи 1144‑1174). Эта же тема
появляется вновь в полемическом труде, написанном одним из отцов западной
Церкви св. Киприаном[493], когда
эллинское универсальное государство начало ослабевать триста лет спустя. Он
пишет:
«Ты должен знать, что мир уже устарел, что он не держится
теми силами, какими держался прежде, и нет уже в нем той крепости и
устойчивости, какими был он богат когда‑то… Нет уже зимою такого обилия дождей
для питания семян, – летом такого солнечного жара для созревания плодов… Таков
приговор дан миру, таков закон Бога: все взошедшее должно зайти, возросшее –
постареть»{99}.
Современная физика полностью опровергла эту теорию, во
всяком случае в той степени, в какой это касается любой из ныне существующих
цивилизаций. Да, современные физики предсказывают в невообразимо далеком
будущем «остановку» «часов Вселенной» как следствие неизбежного превращения
материи в энергию, однако это будущее, как мы уже сказали, невообразимо далеко.
Сэр Джеймс Джине[494] пишет:
«Окидывая предельно мрачным взглядом будущее человеческого
рода, допустим, что он сможет просуществовать, предположительно, еще два
миллиарда лет – период, приблизительно равный возрасту Земли. Тогда
человечество (если рассматривать его в качестве существа, которому суждено
прожить семьдесят лет), хотя и родилось в доме, существующем уже
семидесятилетие, имеет отроду всего три дня… Совершенно неопытные существа, мы
присутствуем при первых лучах рассвета цивилизации… В свое время утреннее
сияние должно разрастись в свет обычного дня, а он, в некоем весьма отдаленном
веке, уступит место вечерним сумеркам, предвещающим окончательную вечную ночь.
Но нам, детям рассвета, не стоит думать об этом далеком закате»{100}.
Тем не менее современные западные защитники предопределения
или детерминистского объяснения надломов цивилизаций не пытаются связать судьбы
этих человеческих институтов с судьбой физической Вселенной в целом. Вместо
этого они обращаются к закону старения и смерти с более короткой длиной волны и
заявляют о том, что действие данного закона распространяется на все живое на
этой планете. Шпенглер, чей метод начинается с метафоры, из которой он
впоследствии развивает свою аргументацию, как если бы она была законом,
основанным на наблюдаемых явлениях, заявляет, что каждая цивилизация проходит
через ту же последовательность возрастов, что и человеческие существа. Однако
все его красноречие на эту тему так нигде и не достигает уровня доказательства,
и мы уже отмечали, что общества ни в каком смысле не являются живыми
организмами. В субъективных понятиях это умопостигаемые поля исторического
исследования. В объективных понятиях общества представляют собой точки
пересечения соответствующих полей активности множества отдельных индивидуумов,
которые сами являются живыми организмами, но которые не могут превратиться,
словно по волшебству, в великана по своему собственному образу, вне пересечения
их собственных теней, и затем вдохнуть в это невещественное тело дыхание своей
жизни. Индивидуальная энергия всех людей, являющихся так называемыми членами
общества, и есть та жизненная сила, которая воздействует на историю данного общества,
в том числе и на продолжительность его жизни. Догматически заявлять о том, что
каждое общество имеет предопределенный срок жизни, так же глупо, как и заявлять
о том, что каждая пьеса непременно должна состоять из определенного количества
актов.
Мы можем отбросить теорию, утверждающую, что надломы
возникают, когда каждая цивилизация близится к завершению своего биологического
срока жизни, поскольку цивилизации – объекты такого рода, который не
подчиняется законам биологии. Однако существует и другая теория, утверждающая,
что (по какой‑то необъяснимой причине) биологическое качество индивидов, чьи
взаимоотношения образуют цивилизацию, таинственным образом ухудшается через
определенное или неопределенное число поколений. Фактически [утверждается], что
опыт цивилизации, в конце концов, существенным образом и необратимо ведет к
вырождению.
Отцы, что были хуже, чем деды, –
нас
Негодней вырастили; наше
Будет потомство еще порочней{101}.
Это означает, телегу запрягать впереди лошади и принимать
следствие социального упадка за его причину. Ибо хотя во время социального
упадка и может показаться, что члены пришедшего в упадок общества выродились в
пигмеев или превратились в несгибающихся калек по сравнению с царственным
ростом и величественной деятельностью их предков, живших в эпоху социального
роста, приписывание болезни вырождению будет ложным диагнозом. Биологическое
наследие эпигонов то же, что и наследие первопроходцев. Все старания и достижения
первопроходцев потенциально достижимы и для их потомков. Болезнью, которая
сдерживает детей упадка, является не паралич их природных способностей, но
надлом их социального наследия, который не дает простора для приведения в
эффективное и творческое социальное действие их неповрежденных способностей.
Эта несостоятельная гипотеза о расовом вырождении как о
причине социального надлома иногда подкрепляется тем наблюдением, что во время
междуцарствия, лежащего между окончательным распадом декадентского общества и
появлением новорожденного общества, родственно с ним связанного через
аффилиацию, зачастую имеет место Völkerwanderung [переселение народов], в ходе
которого население одной и той же родины двух следующих одно за другим обществ
подвергается вливанию «свежей крови». По логике post hoc propter hoc[495] предполагается, что свежий доступ творческой
силы, который проявляет новорожденная цивилизация в ходе своего роста, является
даром этой «свежей крови» из «чистого источника» «примитивной варварской расы».
Затем делается вывод, что и, наоборот, утрата творческой силы в жизни
предшествующей цивилизации должна была быть вызвана своего рода расовой анемией
или пиемией, которую ничем, кроме свежего вливания здоровой крови, излечить
нельзя.
В поддержку этого взгляда приводится характерный, голословно
утверждаемый случай из истории Италии. Указывается, что жители Италии
продемонстрировали выдающуюся творческую силу в последние четыре века до
Рождества Христова, а затем вновь – в течение приблизительно шестивекового
периода с XI по XVI столетия христианской эры. Два этих периода якобы отделены
друг от друга тысячелетием упадка, прострации и выздоровления, когда на время показалось,
что добродетель совершенно покинула итальянцев. Эти поразительные превратности
в итальянской истории были бы необъяснимы, говорят расисты, если бы не было
вливания в вены итальянцев новой крови вторгшихся готов и лангобардов в
промежуток между двумя великими эпохами итальянских достижений. Этот жизненный
эликсир породил со временем, после столетий инкубационного периода, итальянское
Возрождение, или Ренессанс. Именно из‑за недостатка свежей крови Италия ослабла
и пришла в упадок при Римской империи после демонического выхода энергии во
времена Римской республики. А эта энергия, которая бурно начала действовать с
появлением республики, несомненно, сама являлась продуктом более раннего
вливания свежей варварской крови во время Völkerwanderung, предшествовавшего
рождению эллинской цивилизации.
Данное расовое объяснение итальянской истории вплоть до XVI
столетия христианской эры обладает внешним правдоподобием, пока мы будем
довольствоваться остановкой в этой временной точке. Но как только мы позволим нашим
мыслям отправиться в путешествие из XVI столетия в нынешнее время, мы
обнаружим, что за дальнейшим периодом упадка в XVII и XVIII вв. Италия в XIX
столетии стала сценой еще одного воскрешения, столь драматического, что это
название (Рисорджименто[496]) теперь
прилагается без всякого уточнения исключительно к данному современному
повторению средневекового итальянского опыта. Какое же вливание чистой
«варварской» крови предшествовало этой последней вспышке итальянской энергии?
Конечно же, никакое. Историки, по‑видимому, согласны друг с другом в том, что
главной непосредственной причиной итальянского Рисорджименто XIX столетия была
всеобщая встряска и вызов, брошенный Италии опытом порабощения и временного
подчинения революционной и наполеоновской Франции.
Не более сложно найти нерасовые объяснения и для
предшествовавшего подъема Италии в начале II тысячелетия христианской эры, и
для ее еще более раннего упадка, заявившего о себе в течение последних двух
веков до Рождества Христова. Этот последний из упомянутых упадков, несомненно,
явился возмездием за римский милитаризм, принесший Италии целый ряд ужасающих
социальных зол, которые последовали после войны с Ганнибалом. Истоки
социального восстановления Италии в период постэллинского междуцарствия можно с
равной уверенностью установить в деятельности творческих личностей старой
италийской расы, особенно в деятельности св. Бенедикта и папы Григория
Великого, явившихся отцами не только омоложенной Италии периода Средних веков,
но и новой западной цивилизации, в которой средневековые итальянцы были
участниками. И наоборот, если мы станем осматривать те районы Италии, которые
были наводнены «чистокровными» лангобардами, то обнаружим, что в список не
входят ни Венеция и Романья, ни другие районы, сыгравшие в итальянском
Ренессансе роль столь же выдающуюся, сколь и они, и гораздо более выдающуюся,
чем та, которую сыграли города, известные как центры лангобардского господства,
– Павия, Беневенто и Сполето. Если мы хотим отполировать расовое объяснение
итальянской истории, то можем легко доказать, что лангобардская кровь
оказалась, скорее, болезнью, чем эликсиром.
Мы можем отбить у расистов единственный оставшийся у них
оплот в итальянской истории, предложив нерасовое объяснение возникновения
Римской республики. Его можно объяснить в качестве ответа на вызов греческой и
этрусской колонизации. Должны ли были туземные народы Италийского полуострова
подчиниться выбору между истреблением, завоеванием или ассимиляцией, которым со
стороны греков подверглись их родственники на Сицилии, а со стороны этрусков –
жители Умбрии? Или же они должны были противостоять захватчикам, усвоив
эллинскую цивилизацию добровольно и на своих условиях (как Япония усвоила
цивилизацию Западной Европы), а впоследствии поднявшись до греческого и
этрусского уровня умения? Римляне решили дать этот последний ответ и, приняв
такое решение, стали создателями своего собственного последующего величия.
Мы избавились от трех детерминистских объяснений надломов
цивилизаций. Во‑первых, от теории о том, что надломы обусловлены «остановкой»
«часового механизма» Вселенной или старением Земли. Во‑вторых, от теории,
утверждающей, что цивилизация, подобно живому организму, имеет свой срок жизни,
предопределенный биологическими законами его природы. И, в‑третьих, от теории,
утверждающей, что надломы обусловлены качественным ухудшением составляющих
цивилизацию индивидов как результатом накопления в их родословных слишком
большого числа «цивилизованных» предков. Нам придется рассмотреть еще одну
гипотезу, обычно называемую циклической теорией истории.
Применение теории циклов к истории человечества было
естественным следствием сенсационного астрономического открытия, сделанного в
вавилонском обществе в период между VIII и VI вв. до Рождества Христова. Это
открытие состояло в том, что три бросающихся в глаза, хорошо известных людям
цикла: смена дня и ночи, лунный месячный цикл и солнечный годовой – являются не
просто примерами периодического повторения в движении небесных тел, но что в
движениях звезд существует гораздо более широкая взаимосвязь, охватывающая не
только Землю, Солнце и Луну, но и все планеты. «Музыка сфер», создаваемая
гармонией этого небесного хора, совершает полный круг, аккорд за аккордом, в
великом цикле, по сравнению с которым солнечный год кажется незначительным.
Отсюда делался вывод, что ежегодное рождение и смерть растительности, явным
образом зависящие от солнечного цикла, имеют свой аналог в периодическом
рождении и смерти всех вещей во временном масштабе цикла космического.
Интерпретация человеческой истории в этих понятиях цикла,
несомненно, околдовала Платона («Тимей», 21е‑23с, и «Государство», 269с‑273е).
То же самое учение появляется вновь в наиболее известном отрывке из четвертой
эклоги у Вергилия:
Круг последний настал по вещанью
пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается
строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет
Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается
новое племя…
Явится новый Тифис и Арго, судно
героев
Избранных. Боле того: возникнут и
новые войны,
И на троянцев опять Ахилл будет
послан великий{102}.
Вергилий использует циклическую теорию для того, чтобы
приукрасить свой пеан оптимизмом, вдохновленным Августовым умирением эллинского
мира. Но может ли послужить поводом для поздравления то, что «возникнут и новые
войны»? Многие индивидуумы, чья жизнь была довольно успешна и счастлива, с
убежденностью заявляли, что они не хотели бы прожить ее еще раз. Неужели же
история заслуживает «вызова на бис» более, чем обыкновенная биография? На этот
вопрос, который не ставил перед собой Вергилий, ответил Шелли в заключительном
хоре своей «Эллады», который начинается с вергилиевской реминисценции и
заканчивается нотой, всецело принадлежащей Шелли:
Счастливый век нам снова дан,
Счастливый и великий!
Уже расходится туман
Империй и религий,
И мира дружная семья
Меняет кожу, как змея!..
И снова мученик Орфей
Поет и умирает,
И хитроумный Одиссей
Калипсо покидает,
И вновь Арго везет назад
Иной Колхиды новый клад.
Но пусть вовеки не сгорит
Разрушенная Троя,
И Лая гнев не омрачит
Счастливого покоя, –
Хотя бы сфинкс и стал опять
Свои загадки задавать…
Довольно крови и борьбы!
Довольно длилась схватка!
Из чаши горестной судьбы
Не пейте без остатка, –
Наш мир устал и только ждет –
Погибнет он иль отдохнет{103}.
Если законом Вселенной действительно является сардоническое «Plus
ga change plus с'est la тёте chose»[497],
то неудивительно, что поэт требует на буддийский манер освобождения от колеса
существования, которое может быть прекрасно, пока просто управляет движением
звезд, но становится невыносимым топтанием на одном месте для наших
человеческих ног.
Есть ли причина (совершенно отличная от любого мнимого
влияния звезд), которая бы заставляла нас верить в циклическое движение
человеческой истории? Не содействовали ли мы сами в ходе нашего «Исследования»
появлению подобного предположения? Что означают те движения Инь и Ян, вызова‑и‑ответа,
ухода‑и‑возврата, которые мы разъясняли? Не являются ли они вариациями на
избитую тему «История повторяется»? Конечно же, в движении всех этих сил,
ткущих паутину человеческой истории, есть очевидный элемент повторяемости.
Однако челнок, который постоянно проносится взад‑вперед вдоль ткацкого станка
Времени, во все это время порождает ткань, в которой явно присутствует
постепенно развертывающийся рисунок, а не просто бесконечное повторение одного
и того же образца. Это мы действительно видели неоднократно. Метафора колеса
сама по себе является иллюстрацией повторения, которое совместимо с
поступательным движением. Движение колеса, как все согласятся, повторяется без
конца относительно самой оси колеса. Но колесо сделано и прилажено к своей оси
единственно для того, чтобы придать движение повозке, простой частью которой
является колесо, и тот факт, что повозка, которая является raison d'etre[498] колеса, может двигаться только благодаря
круговому движению колеса вокруг своей оси, не заставляет саму повозку ехать
наподобие карусели по круговой траектории.
Эта гармония двух разных движений – большого необратимого
движения, которое несется на крыльях малого повторяемого, – возможно, является
сущностью того, что мы понимаем под ритмом. Мы можем разглядеть эту игру сил не
только в движении повозки и в действии современных машин, но равным образом и в
органическом ритме жизни. Ежегодный процесс смены времен года, который влечет
за собой ежегодный «уход и возврат» растительности, сделал возможной вековую
эволюцию растительного мира. Мрачный цикл рождения, воспроизводства и смерти
сделал возможной эволюцию всех высших животных, вплоть до человека. Чередование
пары ног дает человеку возможность ходить по земле. Ритмические движения легких
и сердца дают животному возможность жить. Музыкальные такты и поэтические стопы
и строфы дают возможность композитору и поэту изложить свою тему. Сам
планетарный «великий год», возможно, являющийся источником всей циклической
философии, нельзя более принимать за наивысшее и всеохватывающее движение
звездного космоса, в котором наша локальная солнечная система теперь
уменьшается до размеров пылинки под мощными увеличивающими линзами современной
западной астрономии. Повторяющаяся «музыка сфер» замирает, оставаясь на уровне
простого вспомогательного аккомпанемента, разновидности «Альбертиевых басов»[499], в
расширяющейся Вселенной звездных скоплений, которые явным образом удаляются
друг от друга с невероятной скоростью. В то же время относительность
пространственно‑временной структуры придает каждому последующему расположению
огромной звездной массы неповторимую историческую уникальность драматической
ситуации в некоей пьесе, где актерами выступают живые личности.
Таким образом, открытие периодически повторяющихся движений
в нашем анализе процесса роста цивилизации не предполагает, что сам этот
процесс принадлежит к тому же циклическому порядку, что и они. Наоборот, если и
можно сделать какой‑либо правильный вывод из периодичности этих малых движений,
то, скорее, тот, что большое движение, которое они на себе несут, является не
повторяющимся, но поступательным. Человечество – не Иксион[500], навечно
привязанный к своему колесу, и не Сизиф[501], вечно
вкатывающий свой камень на вершину горы и беспомощно наблюдающий за его
падением.
Это утешительное сообщение для нас, детей западной
цивилизации, плывущих ныне по течению в одиночестве и окруженных лишь разбитыми
цивилизациями. Быть может, смерть‑уравнительница положит свою ледяную руку и на
нашу цивилизацию. Но мы не стоим перед какой‑либо Saeva Necessitas[502].
Мертвые цивилизации не пали жертвами судьбы или «естественного порядка вещей».
А потому и наша, живая цивилизация не обречена неизбежным образом заранее
«присоединиться к большинству» представителей своего вида. Хотя шестнадцать
цивилизаций уже и погибли, по нашим сведениям, а девять других теперь находятся
при смерти, мы – двадцать шестая цивилизация – не должны подчинять загадку
своей судьбы слепому суду статистики. Божественная искра творческой силы еще
живет в нас, и если нам ниспослана благодать разжечь из нее пламя, то тогда
«звезды с путей своих»{104} не смогут помешать нам в достижении
вершины человеческих стремлений.
XV.
Потеря господства над окружающей средой
1. Природное окружение
Если мы доказали, к нашему удовлетворению, что надломы
цивилизаций не вызваны действием космических сил, находящихся за пределами
человеческого контроля, то нам лишь остается найти истинную причину этих
катастроф. В первую очередь рассмотрим возможность того, что надломы
обусловлены неким уменьшением господства над окружающей средой общества.
Пытаясь решить эту задачу, воспользуемся разделением, которое мы уже сделали
между двумя видами окружения: природным и человеческим.
Действительно ли цивилизации надламываются из‑за потери
господства над их природным окружением? Уровень господства над природным
окружением, которым обладает каждое общество, можно измерить. Мы уже выяснили,
когда исследовали проблему «роста», что если мы поставим перед собой цель
начертить семейство кривых: одно, представляющее стадийность развития
цивилизаций, а другое – стадийность развития техники, – то два семейства кривых
не только не совпадут, но и покажут широкие расхождения. Мы обнаружили случаи,
когда техника совершенствовалась, а цивилизация оставалась статичной или же
находилась в упадке, и случаи, когда техника оставалась статичной, а
цивилизация двигалась или вперед, или назад – в зависимости от обстоятельств[503]. Тем самым мы
уже значительно поспособствовали доказательству того, что потеря господства над
природным окружением не является критерием надлома цивилизации. Однако, чтобы
завершить наше доказательство, нам требуется продемонстрировать, что в тех
случаях, когда надлом цивилизации совпадал с упадком в технической сфере,
последний не был причиной первого. Фактически мы должны обнаружить, что упадок
в технике был не причиной, а следствием или же симптомом.
Когда цивилизация находится в состоянии упадка, иногда
случается, что отдельные технические достижения, которые были приемлемы и
выгодны в период роста, теперь начинают сталкиваться с социальными
препятствиями и приводить к уменьшению экономической отдачи. Если они становятся
явно неприбыльными, то от них могут осмотрительно отказаться. В подобном
случае, очевидно, было бы полным извращением истинной последовательности
причины и действия утверждать, что отказ от технических достижений в подобных
обстоятельствах обусловлен технической неспособностью применить их на практике
и что эта техническая неспособность и является причиной надлома цивилизации.
Наглядный пример – заброшенность римских дорог в Западной
Европе, явившаяся очевидно не причиной, а следствием надлома Римской империи.
Эти дороги оказались заброшенными не по причине недостатка технического
мастерства, но из‑за того, что общество, которому они требовались и которое
построило их в своих военных и коммерческих целях, развалилось. Также нельзя
объяснить происхождение упадка и падения эллинской цивилизации упадком техники,
просто перенеся наш взгляд с отдельной технической сферы строительства дорог на
весь технический аппарат экономической жизни.
«Экономическое объяснение упадка античного мира должно быть
полностью отвергнуто… Экономическое упрощение античной жизни не было причиной
того, что мы называем падением античного мира, но одним из аспектов более
общего явления»{105}.
Этим более общим явлением была «несостоятельность
правительства и разорение среднего класса».
Заброшенность римских дорог имела более или менее
современную параллель в частичной заброшенности весьма древней ирригационной
системы в аллювиальной дельте бассейна рек Тигра и Евфрата. В VII в.
христианской эры восстановление этих гидротехнических сооружений было
прекращено ввиду того, что на большей части Юго‑Западного Ирака сооружения были
выведены из строя наводнением, которое, возможно, принесло не более серьезный
ущерб, чем многие другие наводнения, имевшие место на протяжении четырех
тысячелетий. После этого в XIII столетии всей ирригационной системе Ирака
предоставили спокойно разрушиться. Почему же в этих обстоятельствах жители
Ирака отказались от сохранения системы, которую их предшественники с успехом
поддерживали беспрерывно в течение примерно тысячелетия, системы, от которой
зависела производительность сельского хозяйства и высокая плотность населения
страны? Эта ошибка в технической сфере в действительности была не причиной, а
следствием падения численности населения и благосостояния, обусловленного
социальными причинами. В VII в. христианской эры и впоследствии, в XIII,
сирийская цивилизация находилась в таком упадке в Ираке, а вытекавшее из него
общее состояние ненадежности было столь крайним, что ни у кого не было ни
средств для вложения капитала, ни мотива для направления своей энергии на
охрану реки и ирригационные работы. В VII в. истинными причинами технической
неудачи были великая Византийско‑персидская война 603‑628 гг. н. э.[504] и последующее завоевание Ирака примитивными
мусульманскими арабами, а в XIII в. – монгольское вторжение 1258 г., которое
нанесло сирийскому обществу coup de grace[505] .
Мы пришли к подобному выводу, осуществив ряд исследований,
на которые нас подтолкнули эмпирические наблюдения на острове Цейлон[506]. В настоящий
момент область на Цейлоне, в которой расположены разрушенные памятники индской
цивилизации, совпадает не только с областью, постоянно подверженной засухе, но
также и с областью, где в наше время свирепствует малярия. Это современное
состояние испорченной системы водоснабжения, достаточной для появления
малярийных комаров, хотя совершенно недостаточной для выращивания зерновых,
является, на первый взгляд, странным окружением для прежней цивилизации. Крайне
маловероятно, чтобы малярия была уже широко распространена в то время, когда
первопроходцы индского общества на Цейлоне создавали свою ошеломляющую систему
водоснабжения. Фактически можно показать, что малярия есть последствие
разрушения ирригационной системы и тем самым не может предшествовать ее
созданию. Эта часть Цейлона стала малярийной из‑за разрушения ирригационной
системы, превратившего искусственные каналы в цепь стоячих болот и
уничтожившего рыбу, которая жила в этих каналах и очищала их от малярийных
личинок.
Но почему индская ирригационная система была заброшена? Все
эти плотины были разрушены, а каналы засорены в ходе непрерывной
опустошительной войны. Работы умышленно саботировались захватчиками, чтобы
кратчайшим путем достичь своих военных целей. У истощенных войной людей руки не
поднимались продолжать восстановление того ущерба, который причиняли им столько
раз и, казалось, будут причинять снова. Таким образом, роль технического
фактора и в данном случае снижается до случайной и второстепенной связи в цепи
социальных причин и следствий, социальное происхождение которых еще придется
выяснить.
Эта глава в истории индской цивилизации имеет близкую
параллель в истории эллинской цивилизации. Здесь мы также находим, что
некоторые регионы, где эта ныне исчезнувшая цивилизация жила своей блестящей
жизнью и растрачивала свои высочайшие жизненные энергии, превратились с тех пор
в малярийные болота, осушенные на памяти нынешнего поколения. Копаидские болота[507], осушенные с
1887 года по инициативе британской компании, после того как на протяжении, по
крайней мере, двух тысячелетий они являлись источником распространения заразы,
некогда были полями, кормившими граждан богатого Орхомена[508]. На
Понтинских болотах[509], осушенных и
населенных при режиме Муссолини после столь долгого периода запустения, некогда
также были целые рои вольскских городов и латинских колоний. Действительно,
возникает мысль, что «потеря самообладания» (фраза профессора Джилберта
Мюррея), лежавшая в основе надлома эллинской цивилизации, была вызвана
проникновением малярии на ее родину. Однако есть причина полагать, что во всех
этих областях, равно как и на Цейлоне, царство малярии не устанавливалось до
тех пор, пока господствующая цивилизация не миновала своего зенита. Современный
специалист{106}, посвятивший свои труды этому предмету, приходит к
выводу, что для Греции малярия не была свойственна до Пелопоннесской войны, а в
Лации это заболевание, по‑видимому, не одерживало верх вплоть до войны с
Ганнибалом. Очевидно, было бы нелепо утверждать, что дальнейшему развитию
греков посталександрийской эпохи и римлян эпохи Сципионов и Цезарей
препятствовала некая техническая неспособность справиться с проблемой
водоснабжения Копаидских и Понтинских болот, которая прежде решалась их менее
квалифицированными предками. Объяснение этой противоположности следует искать
не в техническом, но в социальном плане. Война с Ганнибалом, а также
грабительские и гражданские войны Рима, следовавшие за ней на протяжении двух
столетий, имели глубоко разрушительное влияние на социальную жизнь Италии.
Крестьянская культура и экономика сначала были подорваны и в конце концов
уничтожены совокупным воздействием множества враждебных сил: Ганнибаловым
разорением, постоянной мобилизацией крестьянства на военную службу, аграрной
революцией, заменившей крупные рабовладельческие хозяйства мелкими
крестьянскими, основанными на самообеспечении, массовой миграцией из сельской
местности в паразитические города. Это соединение социальных зол во многом
отвечает за отступление людей и наступление малярийных комаров в течение семи
веков между поколением Ганнибала и поколением св. Бенедикта в Италии.
Что касается Греции, то подобное же соединение зол,
восходящих к Пелопоннесской войне, привело во времена Полибия (206‑128 гг. до
н. э.) к столь значительному уменьшению численности населения, что оно даже
превысило то, которое произошло позднее в Италии. В знаменитом отрывке Полибий
затрагивает практику ограничения численности семьи посредством абортов или
детоубийства в качестве главной причины социального и политического краха
Греции в его время. В таком случае, очевидно, что отнюдь не недостатком
инженерной техники нужно объяснять, почему Копаидской, равно как и Понтинской,
равнине позволили превратиться из житницы в гнездо малярийных комаров.
Мы придем к соответствующим выводам, если перейдем от
практической инженерной техники к художественной технике архитектуры, скульптуры,
живописи, каллиграфии и литературы. Почему, например, эллинский стиль в
архитектуре вышел из употребления между IV и VII вв. христианской эры? Почему
оттоманские турки отказались от арабского алфавита в 1928 г.? Почему почти все
незападные общества в мире теперь отвергают свой традиционный стиль в одежде и
ремеслах? А для начала мы можем с таким же успехом убедиться в существовании
данной проблемы, задавшись вопросом, почему наш собственный традиционный стиль
в музыке, танце, живописи и скульптуре отвергается большей частью подрастающего
поколения?
В нашем случае может ли служить объяснением потеря
художественной техники? Забыли ли мы правила ритма и контрапункта, перспективы
и пропорции, которые были открыты итальянцами и другими творческими меньшинствами
во второй и третьей главах нашей истории? Очевидно, нет. Господствующая
тенденция к отказу от наших художественных традиций не является результатом
технической некомпетентности. Это умышленный отказ от стиля, который утрачивает
свою притягательность для подрастающего поколения из‑за того, что это поколение
перестает развивать свою эстетическую восприимчивость в традиционном западном
духе. Мы умышленно изгоняем из наших душ великих мастеров, которые были добрыми
гениями наших предков. А пока мы находимся в самодовольном восторге от того
духовного вакуума, который сами же и создали, тропический африканский дух в
музыке, танце и скульптуре заключил нечестивый союз с псевдо‑византийским духом
в живописи и барельефе и поселился в доме, который нашел выметенным и
украшенным. Упадок имеет не техническое, а духовное происхождение. Отвергая
собственную западную традицию искусства и таким образом низводя свои
способности до состояния истощенности и бесплодия, в котором мы хватаемся за
экзотическое и примитивное искусство Дагомеи и Бенина как за манну небесную, мы
признаемся перед всеми людьми в том, что утратили наше право духовного
первородства. Наш отказ от традиционной художественной техники, несомненно,
является следствием некоего рода духовного надлома западной цивилизации. А
причина этого надлома, очевидно, не может быть найдена в том явлении, которое
само есть один из его результатов.
Недавний отказ турков от арабского алфавита в пользу
латинского можно объяснить в том же духе. Мустафа Кемаль Ататюрк и его ученики
были решительными западниками в своем исламском мире. Они утратили веру в
традиции своей собственной цивилизации, а следовательно, отвергли и
литературного посредника, через которого она передавалась. Подобное объяснение
дает понять, почему были отвергнуты другие традиционные системы письма другими
умирающими цивилизациями прежних дней, например иероглифическая письменность в
Египте и клинопись в Вавилонии. Движение за отмену китайской письменности ныне
заметно в Китае и Японии.
Интересным примером замены одной техники на другую является
отказ от эллинского стиля архитектуры в пользу новомодного византийского. В
этом случае архитекторы общества, бившегося в смертельной агонии, отказывались
от сравнительно простой схемы архитрава на колоннах, чтобы экспериментировать с
необычайно трудной задачей увенчания крестообразного здания круглым куполом,
так что не могло быть и речи о нехватке технического умения. Вероятно,
ионийские архитекторы, успешно решившие строительные задачи церкви Святой Софии
для императора Юстиниана, не могли построить классический греческий храм, если
бы на то была воля их самодержца и их собственная? Юстиниан и его архитекторы
приняли новый стиль, потому что старый стал неприятен для них из‑за его связи с
остатками умершего и загнивающего прошлого.
Результат нашего исследования, по‑видимому, следующий: отказ
от традиционного художественного стиля является признаком того, что
цивилизация, с этим стилем связанная, долгое время находилась в состоянии
надлома и теперь распадается. Так же как и неупотребление утвердившихся
технических средств, он является следствием надлома, а не его причиной.
2. Человеческое окружение
Когда мы рассматривали этот предмет ранее, в связи с
[проблемой] роста цивилизаций, то обнаружили, что та степень господства над
человеческим окружением, какой обладает любое данное общество в любой
исторический период, может быть приблизительно измерена на основе его
географической экспансии. На исследованных примерах мы обнаружили также, что
географическая экспансия зачастую сопровождалась социальным распадом. Если это
так, то представляется совершенно немыслимым искать причину этого же самого
надлома и распада в прямо противоположной тенденции – тенденции к уменьшению
господства над человеческим окружением, критерием чего может послужить успешное
вторжение чуждых человеческих сил. Тем не менее широко распространен взгляд,
будто цивилизации, равно как и примитивные общества, погибают в результате
успешных нападений на них со стороны внешних сил. Классическое изложение этой точки
зрения дано Эдуардом Гиббоном в «Истории упадка и разрушения Римской империи».
Эта тема заявлена в одном предложении, где Гиббон подводит итоги своей истории
в ретроспективе: «Я описал триумф варварства и религии». Эллинское общество,
которое воплощено в Римской империи, достигшей своего зенита в век Антонинов[510], Гиббон
представляет побежденным в результате одновременного нападения двух различных
врагов, атаковавших по двум фронтам: североевропейских варваров, вышедших из
«ничейных земель» по ту сторону Дуная и Рейна, и христианской Церкви, возникшей
в покоренных, но не ассимилированных восточных провинциях.
Гиббону ни разу не приходит на ум, что век Антонинов был не
летом, но «бабьим летом» эллинской истории. Степень его заблуждения выдает само
название его великого произведения. Упадок и разрушение Римской империи! Автор
истории, носящей подобный заголовок и начинающейся со II в. христианской эры,
уверенно начинает свое повествование в той точке, которая очень близка к концу
действительной истории. Ибо «умопостигаемым полем исторического исследования»,
интересующим Гиббона, является не Римская империя, а эллинская цивилизация.
Римская же империя сама была лишь монументальным симптомом прогрессирующего
распада этой цивилизации. Когда принимается во внимание вся история,
стремительный упадок Империи после века Антонинов совсем не кажется
неожиданным. Наоборот, было бы удивительно, если Римская империя продолжила бы
существовать, ибо эта Империя была обречена на гибель еще до своего основания[511]. Она была
обречена, потому что учреждение этого универсального государства было не чем
иным, как временным оживлением, которое могло лишь задержать, но не надолго
остановить уже неотвратимую гибель эллинского общества.
Если бы Гиббон взялся рассказывать эту более длинную историю
с начала, то он бы обнаружил, что «триумф варварства и религии» был не сюжетом
пьесы, а только ее эпилогом – не причиной надлома, а только неизбежным
аккомпанементом окончательного распада, которым долгий процесс разложения должен
был закончиться. Более того, он обнаружил бы, что победившие Церковь и варвары
являлись все‑таки не внешними силами, но в действительности детьми из эллинской
семьи, в моральном отношении отчужденными от правящего меньшинства в ходе
«смутного времени» между надломом при Перикле и временным оживлением при
Августе. Фактически, если бы Гиббон довел свое расследование до истинного
начала трагедии, то он вынес бы совершенно иной вердикт. Он вынужден был бы
заявить, что эллинское общество – самоубийца, попытавшийся, когда его жизнь
было уже поздно спасать, предотвратить фатальные последствия его нападения на
самого себя и в конце концов получивший coup de grace (смертельный удар)
от своих же собственных детей, с которыми плохо обращался и которых оттолкнул
от себя, в то время, когда временное оживление при Августе уже уступало место
спаду III в. и пациент, несомненно, умирал от последствий старых, нанесенных
самому себе ран.
В таких обстоятельствах историк‑следователь должен был бы не
сосредоточивать свое внимание на эпилоге, а постараться точно определить, когда
и как самоубийца впервые наложил на себя руки. В поисках даты он, вероятно,
наткнулся бы на начало Пелопоннесской войны в 431 г. до н. э. Эту социальную
катастрофу Фукидид, говоря устами одного из персонажей своей трагической драмы,
считал в свое время повинной в «начале великих бедствий для Эллады». Докладывая
о том, как члены эллинского общества совершили самоубийственное преступление,
историк‑следователь, вероятно, равным образом подчеркнул бы два составляющих
пару зла – войну между государствами и войну между классами. Следуя по стопам
Фукидида, он, возможно, отобрал бы в качестве особенно выдающихся примеров
каждого из этих зол страшное наказание, наложенное афинянами на завоеванных
мелийцев[512], и не менее
страшную борьбу группировок на Керкире[513]. В любом
случае он заявил бы, что смертельный удар был нанесен шестью столетиями ранее,
чем предполагал Гиббон, и что рука, нанесшая его, была собственной рукой жертвы.
Если мы распространим теперь результаты нашего следствия с
данного случая на иные цивилизации, которые ныне, несомненно, мертвы или явно
умирают, то обнаружим, что тот же самый вердикт должен будет повториться.
Например, в процессе упадка и разрушения шумерского общества
«золотой век Хаммурапи» (как он называется в «Кембриджской древней истории»)
представляет собой даже еще более позднюю фазу «бабьего лета», чем та, которую
являет собой век Антонинов. Хаммурапи – это, скорее, Диоклетиан, нежели Траян
шумерской истории[514].
Соответственно, мы не будем отождествлять убийц шумерской цивилизации с
варварами, пришедшими из‑за границы и обрушившимися на «царство четырех стран
света» в XVIII в. до н. э. Мы обнаружим роковые удары в событиях, происходивших
приблизительно девятью столетиями ранее: в классовой борьбе между Уруинимгиной
Лагашским и местным жречеством[515] и в милитаризме победителя Уруинимгины
Лугальзагеси[516]. Именно эти
давно прошедшие катастрофы явились подлинным началом шумерского «смутного
времени».
В процессе упадка и разрушения древнекитайского общества
«триумф варварства и религии» представлен в основании евразийских кочевнических
государств‑наследников древнекитайского универсального государства в бассейне
Хуанхэ около 300 г. н. э., а также в одновременном вторжении в китайский мир
буддизма в его махаянской форме. Буддизм стал одной из религий древнекитайского
внутреннего пролетариата в северо‑западных провинциях. Но эти триумфы, подобно
триумфам «варварства и религии» в Римской империи, явились лишь победами
внешнего и внутреннего пролетариата умирающего общества, и они составляют не
более чем последнюю главу во всей истории. Древнекитайское универсальное государство
само представляет собой восстановление сил после «смутного времени», в ходе
которого древнекитайская социальная система была разорвана на куски
братоубийственной войной между множеством удельных княжеств, прежде
составлявших единое древнекитайское общество. Роковой датой, соответствующей
эллинскому 431 г.дон. э., в древнекитайской традиции является 479 г. до н. э.
Это условная точка отсчета того, что традиция называет «периодом борющихся
царств». Однако вполне вероятно, что эта условная точка отсчета относится ко
времени примерно на двести пятьдесят лет позднее, чем действительное событие, и
она была принята за начало китайского «смутного времени» просто потому, что это
также и традиционная дата смерти Конфуция.
Что касается сирийского общества, наслаждавшегося своим
«бабьим летом» при Багдадском халифате Аббасидов и наблюдавшего за «триумфом
варварства и религии» во вторжениях тюрков‑кочевников и их обращении в местную
религию ислама, то мы должны вспомнить об одной особенности, которую уже
установили ранее в нашем «Исследовании». Мы должны вспомнить, что процесс
упадка и разрушения сирийского общества был временно приостановлен на
тысячелетие эллинским вторжением и что Аббасидский халифат просто подхватил
нить сирийской истории, когда империя Ахеменидов вынуждена была ее выронить в
IV в. до н. э.[517] Тем самым нам придется отодвинуть наши поиски
назад, в сирийское «смутное время», которое предшествовало Pax Achaemenia[518] , открывающемуся правлением Кира.
Что послужило причиной надлома цивилизации, которая в
течение короткого предшествующего периода роста доказала свою гениальность и
обнаружила свою жизненность в трех выдающихся открытиях – открытии монотеизма,
алфавита и Атлантики? На первый взгляд может показаться, будто мы натыкаемся
здесь наконец на подлинный пример цивилизации, пораженной ударом внешней
человеческой силы. Не была ли сирийская цивилизация разрушена целым градом
ударов, который наносила ей ассирийская агрессия в IX, VIII и VII вв. до н. э.?
Может показаться, что была. Однако более тщательное исследование показывает,
что когда «ассирийцы попали, словно волк в овчарню», в сирийский мир, он больше
не был единой овчарней с одним пастухом. Попытка объединить в X в. политически,
под гегемонией израильтян, группу иудейских, финикийских, арамейских и хеттских
кантонов, расположенных в фарватере между вавилонским и египетским мирами,
окончилась неудачей. Начавшаяся в результате этой попытки вспышка сирийской
братоубийственной войны предоставила ассирийцам счастливую возможность. Надлом
сирийской цивилизации должен быть датирован не первым переходом через Евфрат
Ашшурнасирпала[519] в 876 г. до н. э., а падением империи Соломона
после смерти ее основателя в 937 г. до н. э.
Другой пример. Часто говорят, что православно‑христианское
общество в его «византийском» политическом воплощении – та «Восточная Римская
империя», чьи затянувшиеся испытания стали сюжетом гиббоновского огромного
эпилога, была уничтожена оттоманскими турками. Как правило, добавляют, что
турки‑мусульмане лишь нанесли coup de grace обществу, которое уже и так
было смертельно искалечено западно‑христианским вторжением, нечестиво
замаскированным под именем Четвертого крестового похода и лишившим Византию
присутствия византийского императора более чем на полстолетия (1204‑1261). Но
нападение латинян, так же как и нападение их преемников – турков, исходило из
источника, отличного от того общества, к которому принадлежала жертва. И если
бы мы, удовольствовавшись этим, прервали здесь наш анализ, то должны были бы
вынести вердикт о настоящем «убийстве» в списке смертей, которые до сих пор
неизменно диагностировали как самоубийства. Тем не менее, как нам видится,
роковым поворотным пунктом в православно‑христианской истории не было ни
турецкое нападение в XIV и XV вв., ни латинское нападение в XIII в., ни даже
завоевание центральной части Анатолии более ранней волной тюркских захватчиков
(сельджуков) в XI в. Им явилось сугубо домашнее событие, предшествовавшее всем
этим нападениям: великая Византийско‑болгарская война 977‑1019 гг.[520] Этот братоубийственный конфликт между двумя
великими державами православно‑христианского мира не закончился до тех пор,
пока одна из них не лишилась своей политической независимости, а другая не
получила раны, от которых (как есть все основания полагать) так никогда и не
оправилась.
Когда оттоманский падишах Мехмед II завоевал Константинополь
в 1453 г., православно‑христианская цивилизация не перестала существовать. По
странному парадоксу, чуждый завоеватель дал завоеванному им обществу
универсальное государство. Хотя христианская церковь Святой Софии превратилась
в мусульманскую мечеть, православно‑христианская цивилизация продолжала
доживать отпущенный ей жизненный срок, точно так же как индусская цивилизация
продолжала существовать под властью другого универсального государства
тюркского происхождения, основанного Моголом Акбаром[521] на столетие позже, и продолжает свое
существование под властью не более чуждой ей Британской империи. Однако со
временем активизация разложения и начало Völkerwanderung дали о себе знать в
той части Оттоманской турецкой империи, которая соответствовала владениям православно‑христианского
общества. Греки, сербы и албанцы явно находились в движении перед концом XVIII
столетия. Почему же эти движения не привели к «триумфу варварства и религии»,
какой мы уже обнаруживали в конце эллинского, древнекитайского и других обществ?
Ответ заключается в том, что мощное развитие непреодолимо
расширяющейся западной цивилизации наступало на пятки этим недоразвитым
наследникам православно‑христианского общества. Процессом, который фактически
содействовал развалу Оттоманской империи, был не триумф варварства и религии,
но триумф вестернизации. Вместо того чтобы принять свою естественную форму
варварских княжеств в стиле «героического века», государства‑преемники
Оттоманской империи, как только они появились, были превращены под западным
прессом в подобия национальных государств, равноправных членов, признанных
западными государствами, которые как раз в это время находились в процессе
своей реорганизации на основе национализма. В некоторых случаях зарождающееся
варварское государство‑преемник прямо превращалось в одно из этих
новоиспеченных национальных государств по западной модели, например Сербия и
Греция. С другой стороны, те варвары, которые еще в настолько малой степени
подверглись излучению западной цивилизации, что были неспособны направить свою
деятельность в западное националистическое русло, поплатились, «опоздав на
автобус». Албанцы в XIX в. утратили в пользу греков, сербов и болгар то
наследие, которое в XVIII представлялось более блестящим, чем наследие
последних, а в XX в. им едва удалось войти в западное сообщество наций с
ничтожным наследием.
Таким образом, в истории православно‑христианского общества
последним актом был не «триумф варварства и религии», но триумф чуждой
цивилизации, которая поглощает умирающее общество целиком и включает его ткань
в собственную социальную паутину.
Здесь мы столкнулись с альтернативным способом, каким
цивилизация может утратить свою идентичность. «Триумф варварства и религии»
означает, что умирающее общество было выброшено за ненадобностью иконоборческим
восстанием его собственного внешнего и внутреннего пролетариата, чтобы одна или
другая из восставших сил могла завоевать поле для рождения нового общества. В
результате более старое общество погибает, однако в известном смысле все еще
продолжает существовать, замещенное другим, в жизни более молодой цивилизации
через отношение, которое мы назвали «усыновление и аффилиация». В случае
альтернативного исхода, когда старая цивилизация не выброшена за ненадобностью,
чтобы освободить дорогу своему отпрыску, но поглощена и ассимилирована одним из
своих современников, утрата идентичности является, несомненно, более полной в
одном смысле, хотя и менее полной – в другом. Общины, на которые расчленено
умирающее общество, могут быть избавлены от смертельной агонии социального
разложения. Они могут перейти из старой социальной системы в новую, не прерывая
полностью исторической преемственности. Так, например, современные греки
превратились в одну из наций вестернизированного мира после того, как в течение
четырех столетий жили жизнью оттоманского millet[522].
Однако, с другой точки зрения, потеря идентичности будет более полной. Ибо
общество, исчезающее в процессе слияния с другим обществом, сохраняет некоторую
непрерывность своего материального устройства ценой всецелой потери возможности
создавать аффилированное общество, которое бы могло представить его в следующем
поколении, как наше собственное общество, в самом настоящем смысле слова,
представляет эллинское общество, индусское представляет индское или
дальневосточное представляет древнекитайское.
Примером, в котором мы распознаем этот процесс угасания в
ходе ассимиляции, является поглощение основного ствола православно‑христианского
общества социальной системой западной цивилизации. Однако мы можем сразу же
увидеть, что все другие оставшиеся цивилизации идут по тому же пути. Это
современная история боковой ветви православного христианства в России,
исламского и индусского обществ, а также обеих ветвей дальневосточного
общества. Это одинаково верно и по отношению к трем задержанным обществам –
эскимосам, кочевникам и полинезийцам, которые также находятся в процессе
поглощения, в тех случаях, когда излучение западной цивилизации не уничтожает
их полностью. Мы можем также увидеть, что множество ныне исчезнувших
цивилизаций потеряло свою идентичность таким же образом. Процесс вестернизации,
который начал догонять православно‑христианский мир в конце XVII столетия,
повлиял на мексиканское и андское общества в Новом Свете приблизительно двумя
веками ранее, и в обоих этих случаях данный процесс, по‑видимому, ныне
фактически завершился. Вавилонское общество слилось с сирийским в последнем
столетии до нашей эры, а египетское было поглощено той же самой сирийской
социальной системой несколькими столетиями позднее. Эта ассимиляция сирийским
обществом египетского общества – наиболее долговечной, наиболее компактной и
цельной цивилизации из тех, которые когда‑либо были известны, – является,
возможно, самым выдающимся из известных до сих пор проявлений социальной
ассимиляции.
Если мы взглянем на группу живых цивилизаций, находящихся в
процессе поглощения западной цивилизацией, то обнаружим, что этот процесс
происходит с различной скоростью и в различных плоскостях.
В экономическом плане каждое из этих обществ было поймано в
сеть отношений, которую современный западный индустриализм раскинул на весь
обитаемый мир.
Их мудрецы
увидели
Электрический
свет на Западе и пришли поклониться{107}.
В политическом плане также дети этих явно умирающих
цивилизаций стремились быть принятыми в члены западного сообщества различными
путями. Тем не менее в культурном плане соответствующая тенденция к
единообразию отсутствует. В главном стволе православного христианства бывшие ra'īyeh
(человеческое стадо)[523] Оттоманской империи – греки, сербы, румыны и
болгары – явно приветствуют с распростертыми объятиями перспективу культурной
вестернизации, так же как политической и экономической. Нынешние лидеры их
бывших господ и хозяев – турков – следуют их примеру. Однако эти случаи, по‑видимому,
исключительны. Арабы, персы, индусы, китайцы и даже японцы принимают западную
культуру с определенными интеллектуальными и моральными оговорками, если они
вообще ее принимают. Что касается русских, то двусмысленный характер их ответа
на вызов Запада уже рассматривался нами ранее в другой связи (см. т. I, с. 328‑329).
Исходя из этих данных, можно сказать, что нынешняя тенденция
к унификации мира на западной основе как в плане экономическом и политическом,
так и в культурном, оказывается не столь уж далеко зашедшей, и ей не в такой
степени гарантирован окончательный успех, как может показаться на первый
взгляд. С другой стороны, четырех случаев с мексиканским, андским, вавилонским
и египетским обществами вполне достаточно для того, чтобы показать, что потеря
идентичности в ходе ассимиляции может быть настолько же полной, насколько и в
ходе альтернативного процесса разложения, в котором эллинское, индское,
древнекитайское, шумерское и минойское общества встретили свой конец.
Следовательно, мы можем теперь остановить наше внимание на том, что является
целью настоящей главы. Мы можем теперь обсудить, были ли судьбы, которые эти
общества претерпели или ныне претерпевают (а именно поглощение и ассимиляция
соседним обществом), действительными причинами их надломов или же (как мы
обнаружили в случае с другой группой, которую уже исследовали) надломы на самом
деле возникли до того, как начался процесс поглощения и ассимиляции. Если мы
придем к последнему заключению, то завершим наше настоящее исследование и будем
в состоянии заявить, что потеря обществом господства над своим окружением –
природным или же человеческим – не является той первопричиной надломов,
которую мы ищем.
Например, мы видели, что главный ствол православного
христианства не утрачивал своей идентичности в ходе поглощения до тех пор, пока
его универсальное государство не вылилось в междуцарствие. Действительный же
его надлом начался с Византийско‑болгарской войны, которая имела место за
восемь веков до того, как появились какие‑либо признаки вестернизации.
Промежуток между надломом и поглощением египетского общества гораздо
продолжительнее, поскольку у нас есть причина помещать этот надлом еще во
времена перехода от Пятой династии к Шестой[524],
приблизительно около 2424 г. до н. э., когда грехи строителей пирамид упали на
головы их наследников и неустойчивое политическое здание «Древнего царства»
обрушилось. В случае дальневосточного общества промежуток между надломом и
началом процесса поглощения не столь продолжителен, как в египетской истории,
но зато гораздо продолжительнее, чем в истории православного христианства.
Надлом дальневосточного общества можно отсчитывать с распада династии Тан[525] в последней четверти IX столетия христианской
эры и последующего наступления «смутного времени», вызвавшего ряд
последовательных воплощений универсального государства в Империях, основанных
варварами. Исход первого из этих воплощений – Pax Mongolica[526],
основанного ханом Хубилаем[527], был менее
счастливым, чем исход сравнимых с ним версий кочевнического мира, предоставленных
для индусского общества Акбаром, а для православно‑христианского – Мехмедом
Завоевателем. Китайцы, действуя по принципу «timeo Danaos et dona ferentes»
(«страшусь и дары приносящих данайцев»)[528], изгнали
монголов, как египтяне изгнали гиксосов. Перед тем как была подготовлена сцена
для действия вестернизации, еще должны были прийти и уйти маньчжуры.
В России и Японии воздействие западной цивилизации
происходило на гораздо более ранней стадии упадка этих цивилизаций,
представленных ныне двумя великими вестернизированными державами. Однако в
обоих случаях упадок уже начался, поскольку и царство Романовых, и сёгунат
Токугава, которые соответственно Петр Великий и японские авторы «реставрации
Мэйдзи»[529] взялись превратить в национальные государства
– члены европейского сообщества наций, были универсальными государствами. В
случае России универсальное государство существовало уже более двух столетий, в
случае Японии – более трех. В обоих случаях едва ли можно было утверждать, что
деяния Петра Великого и его японских двойников следует рассматривать в качестве
надломов. Наоборот, эти достижения, по всей видимости, были столь успешны, что
многие наблюдатели склонны были рассматривать их в качестве подтверждения того,
что общества, намеренно вступившие в столь радикальный процесс метаморфоза и
его пережившие (во всяком случае, до сих пор), не потерпев поражения, еще
должны будут войти в стадию своего полного роста. По меньшей мере, русский и
японский ответы представляли собой резкий контраст бездейственности османского,
индусского, китайского, ацтекского и инкского ответов, сталкивавшихся с
подобным же вызовом. Вместо того чтобы подвергнуться принудительному процессу
вестернизации через посредничество своих западных соседей – поляков, шведов,
немцев или американцев, русские и японцы самостоятельно довели до конца процесс
социального метаморфоза и таким образом смогли войти в западное сообщество
наций как равноправные великие державы, а не как зависимые колонии или же
«бедные родственники».
Стоит заметить, что в начале XVII столетия, приблизительно
за сто лет до Петра Великого и за два с половиной столетия до «реставрации
Мэйдзи», и Россия, и Япония испытали на себе и отразили западную попытку
поглощения на уже известных нам по другим местам основаниях. В случае России
воздействие приняло грубую форму обычного военного вторжения и временной
оккупации Москвы силами западного соседа России – объединенного Польско‑Литовского
королевства, под предлогом поддержки претендента на русский трон «Лжедмитрия»[530]. В случае с
Японией воздействие приняло более этерифицированную форму обращения нескольких
сот тысяч японских душ в католицизм испанскими и португальскими миссионерами.
Казалось вполне возможным, что со временем это полное энтузиазма христианское
меньшинство добьется господства в Японии при поддержке испанских армад,
базировавшихся на Филиппинах. Однако русские изгнали поляков, тогда как японцы
заговорили «белую угрозу», удалив всех постоянно проживающих в Японии западных
миссионеров и купцов, запретив европейцам впредь вступать на японскую землю, за
исключением нескольких голландских купцов, получивших право торговать на
позорных условиях, и истребив японскую католическую общину в результате безжалостных
гонений[531]. Избавившись
таким образом от «западного вопроса», и русские, и японцы думали, что они
должны лишь скрыться в свои раковины и «навеки жить счастливо». Когда по
прошествии времени оказалось, что это не так, они дали оригинальные и
позитивные ответы, которые мы уже выше описывали.
Однако существуют безошибочные симптомы того, что, перед тем
как первый португальский корабль приплыл в Нагасаки или же первый английский
корабль – в Архангельск (более ранний вестник Запада, чем польский завоеватель
в Москве), и дальневосточная цивилизация в Японии, и православно‑русская
цивилизация в Москве уже были надломлены.
В русской истории настоящее «смутное время» (в том смысле, в
каком это понятие употребляется в данном «Исследовании») приходится не на
период безвластия в начале XVII столетия, которому первоначально это название
было дано самими русскими. Оно приходится примерно на промежуток между первой и
второй фазами русского универсального государства, соответствуя в эллинском
мире периоду безвластья третьего столетия между веком Антонинов и вступлением
на престол Диоклетиана. Той главой русской истории, которая соответствует главе
эллинской истории между Пелопоннесской войной и Pax Augusta[532] и тем самым представляет собой русское
«смутное время» в нашей терминологии, является период бедствий,
предшествовавших основанию русского универсального государства в результате
объединения Московии и Новгорода в 1478 г.[533] По тем же самым показателям «смутное время» в
японской истории представлено периодами феодальной анархии – Камакура и Асикага[534], которые
предшествовали дисциплинарной унификации и умиротворению, осуществляемым
Нобунагой, Хидэёси и Иэясу[535]. Вместе два
этих периода занимают во времени, согласно общепринятым датам, промежуток между
1184 и 1597 гг.
Если на эти периоды приходится настоящее «смутное время» в
России и Японии, то в обоих случаях нам придется исследовать, не было ли
ускорено его наступление неким самоубийственным актом или действием внешнего
врага. В случае России общепринятым объяснением очевидного надлома,
современного западным Средним векам, является нападение монгольских кочевников
из Евразийской степи. Однако в других случаях (например, в случае старшей ветви
православно‑христианского общества) мы уже встречались с предположением, будто
евразийские кочевники являлись главными злодеями в различных пьесах, где играли
хоть какую‑то роль, и это предположение отвергли. А не могло ли и в России
православно‑христианское общество уже подойти к надлому из‑за своих собственных
действий еще до того, как монголы пересекли Волгу в 1238 г.? Распад
первоначального русского Киевского княжества на множество воюющих друг с другом
государств‑наследников в XII в. христианской эры внушает положительный ответ на
этот вопрос.
Случай с Японией гораздо яснее. Здесь надлом нельзя
убедительно приписать монгольскому нападению, которое японцы успешно отбросили
от своих берегов в 1281 г. Когда мы исследуем причину этой «марафонской»
победы, то находим, что японцы выиграли ее лишь отчасти благодаря своему
островному положению. В гораздо большей степени этой победой они были обязаны
умению воевать, развитому в междоусобных боях «смутного времени», которое к
этой дате продолжалось уже более столетия.
В историях индусского, вавилонского и андского обществ
процесс поглощения чуждым обществом происходил тогда, когда (как и в случаях с
Россией и Японией) пришедшие в упадок общества становились универсальными
государствами. В трех этих случаях, тем не менее, процесс приобретал более
катастрофический поворот, и склонившиеся к упадку общества подвергались
завоеванию чуждыми армиями. В индусской истории британскому завоеванию
предшествовало мусульманско‑тюркское завоевание, которое относится ко времени
гораздо более раннему, чем эра «Великих Моголов», к набегам 1191‑1204 гг. Это
первое иноземное завоевание, так же как и последующие, монгольское и
британское, в известной степени было обусловлено тем фактом, что индусское
общество уже находилось тогда в состоянии хронической анархии.
Вавилонское общество было поглощено сирийским после
завоевания его универсального государства, империи Навуходоносора, Киром
Персидским. С этого времени вавилонская культура постепенно уступала место
сирийской, первым универсальным государством которой была империя Ахеменидов.
Однако причину надлома вавилонской цивилизации следует искать в предшествующих
крайностях ассирийского милитаризма.
Что касается андского общества, то очевидной истиной
является тот факт, что Империя инков была уничтожена под ударами испанских
конкистадоров. Вполне вероятно, что, если бы народы западного мира никогда не
нашли дорогу через Атлантику, Империя инков просуществовала бы еще несколько
столетий. Однако уничтожение Империи инков не то же самое, что и надлом андской
цивилизации. Теперь мы знаем об андской истории достаточно, чтобы понимать, что
надлом произошел гораздо раньше и что военно‑политический подъем инков в
столетие, предшествовавшее испанскому завоеванию, совсем не тождественный
культурному подъему андской цивилизации, в действительности был последним
эпизодом в процессе ее упадка.
Мексиканская цивилизация пала под ударами конкистадоров на
еще более ранней ступени своего развития: когда Ацтекская империя, хотя ей уже
и было явно суждено стать универсальным государством своего общества, еще не
завершила полностью своих завоеваний. Мы можем выразить это различие, сказав,
что андское общество было завоевано в свой «век Антонинов», а мексиканское – в
«век Сципионов». Однако «век Сципионов» – это фаза «смутного времени» и тем
самым, по определению, является последствием предшествующего надлома.
С другой стороны, в исламском мире вестернизация взяла верх
еще до того, как какое‑либо исламское универсальное государство появилось в
поле зрения. Различные государства – члены исламского мира (Персия, Ирак,
Саудовская Аравия, Египет, Сирия, Ливан и пр.) мужественно переносят все
невзгоды в качестве «бедных родственников» в западном сообществе наций.
Панисламское движение кажется недоразвившимся.
Можно было бы провести торжественным маршем и несколько
других цивилизаций, достигших зрелости, равно как и задержанных и даже
недоразвившихся. Однако истории некоторых из зрелых цивилизаций, таких как
минойская, хеттская и майянская, еще настолько неполно дешифрованы современными
учеными, что было бы опрометчиво делать из них какие‑либо выводы. Задержанные
цивилизации не принесли бы для настоящего исследования никакого результата,
поскольку, по определению, они являются цивилизациями, достигшими стадии
возникновения, но не достигшими последующей стадии роста. Недоразвившиеся
цивилизации ничего не смогли бы прояснить a fortiori[536].
3. Отрицательный приговор
Из предшествующего исследования мы могли справедливо
заключить, что причину надломов цивилизаций надо искать не в той потере
господства над человеческим окружением, которую можно измерить вторжением
чуждых сил в жизнь всякой исследуемой нами цивилизации. Во всех этих
рассмотренных случаях наибольшим, чего достиг враг, было то, что он наносил
умирающему самоубийце coup de grace. Там, где вторжение приобретало
форму яростной атаки, на любой стадии в истории цивилизации, за исключением
самой последней, когда она находилась in articulo mortis[537],
обычным воздействием нападающей стороны на жизнь было, по всей видимости, не
разрушительное, но положительное, стимулирующее воздействие. Персидское
нападение в начале V в. до н. э. на эллинское общество побудило его к высшим
выражениям своего гения. Западное общество получило стимул от скандинавских и
мадьярских нападений в IX в. христианской эры для демонстрации тех проявлений
героизма и искусства государственного управления, которые привели к основанию
королевств Англии и Франции и восстановлению Священной Римской империи
саксонцами. Средневековые города‑государства Северной Италии получили стимул от
набегов Гогенштауффенов[538], англичане и
голландцы в Новое время – от испанских атак, а зарождающееся индусское общество
– от нападения первобытных арабов‑мусульман в VIII в. христианской эры.
Все приведенные выше примеры представляют собой случаи, в
которых атакуемая сторона еще пребывала в состоянии роста. Однако мы можем
привести столько же случаев, в которых иноземные нападения оказывали временное
стимулирующее воздействие на общество уже после того, как это общество пережило
надлом вследствие плохого управления им. Классический пример – многократная
реакция египетского общества на этот стимул. Египетская реакция возникала вновь
и вновь на протяжении двухтысячелетнего периода. Этот продолжительный эпилог
египетской истории начался в то время, когда египетское общество уже миновало
стадию своего универсального государства и вошло в стадию междуцарствия,
которая, как можно было бы ожидать, явилась бы прелюдией к стремительному
падению. На этой поздней стадии египетское общество получило стимул к изгнанию
гиксосских захватчиков, а долгое время спустя – к отражению последующих вспышек
энергии «народов моря», ассирийцев и Ахеменидов. Последним же из всех был
стимул, вызвавший упорное и успешное сопротивление процессу эллинизации,
которому Египет подвергся со стороны Птолемеев[539].
В истории дальневосточной цивилизации в Китае был схожий ряд
реакций на внешние удары и давления. Изгнание монголов династией Мин[540] напоминает изгнание гиксосов фиванскими
основателями «Нового царства», а сопротивление египетского общества эллинизации
находит свой аналог в китайском антизападном движении, которое вылилось в
Боксерское восстание 1900 года[541] и попыталось в 1925‑1927 гг. довести до
последнего конца проигранную битву, заимствовав оружие у русского коммунизма[542].
Этих примеров, которые можно было бы легко умножить, вполне
достаточно, чтобы подтвердить наш тезис о том, что обычное действие ударов и
давлений извне является не разрушительным, а стимулирующим. А если данный тезис
принимается, то это подтверждает наш вывод о том, что потеря господства над человеческим
окружением не является причиной надломов цивилизаций.
* * *
Примечание редактора. Некоторые читатели, возможно, почувствуют, что
в предыдущей главе автор ради доказательства, с которого он начинает,
неоднократно отодвигает назад даты «надломов» к чрезмерно ранней стадии в
истории некоторых цивилизаций. Это ощущение, если оно только возникает, может
быть вызвано непониманием, порожденным двусмысленностью самого понятия «надлом»
(breakdown). Когда мы говорим о человеке, что он испытывает полный упадок
(breakdown) здоровья, то это утверждение (несмотря на то что упадок может быть
преодолен последующим выздоровлением) означает, что его активная жизнь
закончена. Фактически мы используем слово «надлом» в просторечии, скорее, для
обозначения того, что г‑н Тойнби имеет в виду, когда пишет о «распаде»
(disintegration). Однако «надлом» в данном «Исследовании» означает совсем не
то. Он означает прекращение периода роста. Аналогии из органической жизни
всегда опасны при обсуждении обществ, но читатель может вспомнить, что рост
прекращается сравнительно рано в жизни живого организма. Разница между живым
организмом и обществом, как автор всячески старался показать в главе,
предшествующей данной, заключается в том, что живой организм обладает жизненным
сроком, определенным самим его естеством («дней лет наших – семьдесят лет, а
при большей крепости – восемьдесят лет»{108}), тогда как история не
указывает границ возможного срока жизни общества. Другими словами, общество
никогда не умирает «естественной смертью», но всегда либо в результате
самоубийства, либо в результате убийства, и почти всегда – в результате
первого, как показала эта глава. Подобным же образом и прекращение периода
роста, являющееся естественным событием в истории живого организма, есть
событие «противоестественное», вызванное преступлением или просчетом, в истории
общества. И именно по отношению к этому преступлению или просчету г‑н Тойнби
употребляет термин «надлом» в этом «Исследовании». Мы увидим, что когда понятие
используется в данном смысле, некоторые из наиболее плодотворных, просвещенных
и выдающихся достижений в истории цивилизации могут последовать после надлома,
а в действительности – в его результате.
XVI.
Неудача в самоопределении
1. Механичность мимесиса
Наше исследование причин надломов цивилизаций привело нас к
непрерывному ряду отрицательных выводов. Мы выяснили, что эти надломы – не
«стихийные бедствия» (во всяком случае, в том смысле, какой этой фразе придают
юристы). Не являются они и тщетным повторением бессмысленных законов природы.
Мы также выяснили, что не можем приписать их потере господства над окружающей
средой – природной или человеческой. Они не вызваны ни недостатком
производственной или художественной техники, ни смертоносным нападением со стороны
иноземных врагов. Последовательно отрицая эти непригодные объяснения, мы не
пришли к предмету нашего поиска. Однако последний из ложных выводов,
приведенных нами, неожиданно дал нам ключ. Показывая, что надломленные
цивилизации встречали свою смерть не от руки убийцы, мы не находили причины
обсуждать утверждение о том, что они были жертвами насилия, и почти в каждом
случае приходили логическим путем исключения к вынесению вердикта о
самоубийстве. Наибольшие наши надежды на некое позитивное продвижение данного
исследования вперед состоят в том, чтобы развить до конца полученный нами ключ,
и в нашем вердикте есть одна обнадеживающая черта, которую мы можем сразу же
обнаружить. В ней нет ничего оригинального.
Вывод, к которому мы пришли в конце довольно тщательного
поиска, был предсказан с безошибочной интуицией современным западным поэтом:
…В трагической жизни, Бог знает,
Нет нужды в злодее! Страсти плетут
заговор:
Мы преданы тем, что лживо внутри
нас.
Эта вспышка прозрения (из «Современной любви» Мередита[543]) не была
новым открытием. Мы можем найти ее у более ранних и более возвышенных
авторитетов. Она открывается в последних строках шекспировского «Короля
Иоанна»:
Нет, не лежала Англия у ног
Надменного захватчика и впредь
Лежать не будет, если ран жестоких
Сама себе не нанесет сперва…
Мы можем одолеть в любой борьбе,
Была бы Англия верна себе{109}.
Равным образом эта вспышка прозрения открывается и в словах
Иисуса (Мф. 15, 17‑20):
«[еще ли не понимаете, что] все, входящее в уста, проходит в
чрево и извергается вон? а исходящее из уст – из сердца исходит – сие
оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет
человека…».
Что же это за слабость, из‑за которой растущая цивилизация
подвергается риску остановки и падения на середине своего быстрого продвижения
впереди утраты Прометеева élan[544] ? Эта слабость должна быть радикальной, ибо
хотя катастрофа надлома является лишь угрозой, а не несомненным фактом, эта
угроза, очевидно, велика. Мы поставлены перед тем фактом, что из двадцати одной
цивилизации, родившихся живыми и продолжавших расти, тринадцать уже умерли и
погребены. Семь из восьми оставшихся явно находятся в упадке, а восьмая, наша
собственная, также может пройти свой зенит и последовать за всеми уже
известными нам. С эмпирической точки зрения, движение растущей цивилизации
казалось чреватым опасностями, и если мы вспомним проведенный нами анализ
роста, то увидим, что опасности исходят из самой природы того курса, которым
идет растущая цивилизация.
Рост – это результат деятельности творческих личностей или
творческих меньшинств. Они не могут продвигаться дальше вперед сами, пока не
смогут придумать, как увлечь за собой своих собратьев. Нетворческий «рядовой
состав» человечества, которым всегда является подавляющее большинство, не может
преобразиться одновременно и вырасти до своих вождей в мгновение ока. Это было
бы практически невозможно. Внутренняя духовная благодать, благодаря которой
непросвещенная душа воспламеняется единой верой со святым, почти столь же
редка, сколь и чудо, которое привело в мир самого святого. Задача вождя состоит
в том, чтобы сделать своих собратьев последователями. Единственным способом,
каким можно привести человеческую массу в движение по направлению к цели,
находящейся вне его самого, является привлечение примитивной и универсальной
способности мимесиса. Этот мимесис есть разновидность социальной муштры. Глухие
уши, неспособные услышать неземную музыку Орфеевой лиры[545], хорошо
улавливают сержантские команды. Когда гамельнский дудочник[546] присваивает себе голос короля Фридриха
Вильгельма Прусского[547], «рядовые»,
до сих пор флегматично стоявшие на месте, механически приходят в движение, и
маневр, который он побуждает их осуществлять, в должное время приводит их в
повиновение. Однако «рядовые» могут догонять его лишь избрав кратчайший путь.
Они лишь имеют возможность маршировать развернутым строем, следуя «пространным
путем, ведущим в погибель»[548]. Когда «путь
в погибель» волей‑неволей пересекается с поисками жизни, неудивительно, что эти
поиски часто заканчиваются катастрофой.
Более того, есть некая слабость в действительном
осуществлении мимесиса, довольно далеком от того пути, каким можно было бы эту
способность использовать. Именно потому, что мимесис есть разновидность муштры,
он является и механизацией человеческой жизни и движения.
Когда мы говорим о «тонком механизме» или об «искусной
механике», эти слова вызывают в памяти идею триумфа жизни над материей,
человеческого мастерства – над природными обстоятельствами. Конкретные примеры
внушают ту же самую идею – от граммофона или аэроплана до первого колеса и
первого выдолбленного из дерева каноэ. Эти изобретения расширили власть
человека над окружающей средой, и, манипулируя при их помощи неодушевленными
объектами, он заставил последние осуществлять человеческие цели, точно так же
как сержантские команды выполняются механизированными человеческими существами.
Муштруя свой взвод, сержант вырастает до размеров Бриарея[549], чья сотня
рук и ног повинуется его воле почти столь же своевременно, как если бы это были
его собственные руки и ноги. Подобным же образом и телескоп является развитием
человеческого глаза, труба – человеческого голоса, ходули – человеческих ног, а
меч – человеческой руки.
Природа, безусловно, наделила человека изобретательностью,
предуготовив его к использованию механических средств. Она широко использовала
эти средства в своем шедевре – человеческом теле. Она сконструировала две
саморегулируемые машины – сердце и легкие, которые являются образцами для этого
рода средств. Приспособив эти и другие органы таким образом, чтобы они работали
автоматически, природа избавила наши запасы энергии от исполнения монотонных,
без конца повторяющихся задач, выполняемых этими органами, и освободила нашу
энергию для прогулок и разговоров, одним словом, для того, чтобы она смогла
породить двадцать одну цивилизацию! Она устроила все таким образом, что,
скажем, девяносто процентов от всех функций любого организма производится
автоматически, а следовательно, с минимальным расходом энергии, чтобы
максимальное количество энергии можно было сосредоточить на оставшихся десяти
процентах, в которых природа видит средство для нового продвижения вперед.
Фактически, естественный организм состоит, подобно человеческому обществу, из
творческого меньшинства и нетворческого большинства «членов». В растущем и
здоровом организме, как в растущем и здоровом обществе, большинство приучается
следовать за руководящим меньшинством механически.
Однако, приходя в полный восторг от этих механических побед
природы и человека, мы смущаемся, когда вспоминаем о том, что существуют и
другие выражения – «машинное производство», «механическое поведение», в которых
смысл слова «машина» прямо противоположен, означая не победу жизни над
материей, а победу материи над жизнью. Хотя машины были задуманы для того,
чтобы быть рабами человека, возможно и то, что человек превращается в раба
своих машин. У живого организма, являющегося на девяносто процентов механизмом,
будет большая возможность, или способность, для творческой деятельности, чем у
организма, который на пятьдесят процентов механизм, так же как Сократ имел бы
гораздо больше времени для открытия тайны мироздания, если бы не готовил сам
себе пищу. Однако механизм, являющийся стопроцентным механизмом, это – робот.
Таким образом, риск катастрофы внутренне присущ мимесису,
который является средством механизации социальных отношений между людьми.
Очевидно, что этот риск будет больше, когда миметическая способность
задействована в обществе, находящемся в динамическом движении, нежели в
обществе, пребывающем в состоянии покоя. Недостаток мимесиса в том, что он
является механическим ответом на предложение извне, так что выполненное
посредством мимесиса действие никогда не предполагает собственной инициативы
исполнителя. Тем самым действие, порожденное мимесисом, не самоопределено, и
лучшая гарантия для его выполнения заключается в том, что эта способность
должна кристаллизоваться в привычке или обычае, как это фактически и происходит
в примитивных обществах в состоянии Инь. Однако когда «кристалл обычая» разбит,
способность мимесиса, до сих пор направленная назад, на старейшин или предков
как на воплощение неизменной социальной традиции, теперь переориентирована на
творческих личностей, стремящихся вести своих собратьев вместе с собой к земле
обетованной. С этого времени растущее общество вынуждено жить в опасности.
Кроме того, опасность постоянно близится, поскольку условием для поддержания
роста является постоянная гибкость и спонтанность, тогда как условием для
эффективного мимесиса (который сам по себе есть предпосылка роста) является
высокий уровень машинообразного автоматизма. Второе из этих требований как раз
и имел в виду Уолтер Бейджгот, когда в своей эксцентричной манере говорил
английским читателям, что они как нация своим относительным преуспеванием
обязаны по большей части своей тупости. Да, вожди хороши, но у хороших вождей
не будет хороших последователей, если большинство этих последователей
перестанет доходить до всего своим умом. А если все «тупые», то где окажутся
вожди?
Фактически, творческие личности в авангарде цивилизации,
запускающие механизм мимесиса, рискуют потерпеть неудачу по двум причинам –
одной «отрицательной», а другой – «положительной».
Возможная «отрицательная» неудача заключается в том, что
вожди могут подпасть под гипноз, при помощи которого они воздействовали на
своих последователей. В этом случае послушание рядового состава будет завоевано
ценой катастрофической утраты инициативы офицеров. Это то, что произошло с
задержанными цивилизациями, а также во все те периоды истории других
цивилизаций, которые можно рассматривать как периоды стагнации. Тем не менее
отрицательная неудача обычно не означает конца истории. Когда вожди перестают
вести, они начинают злоупотреблять властью. Рядовые поднимают мятеж. Офицеры
пытаются восстановить порядок решительными действиями. Орфей, потерявший свою
лиру или забывший, как на ней играть, теперь наносит удары направо и налево
Ксерксовым кнутом. В результате наступает кромешный ад, в котором военное
формирование впадает в анархию. Это «положительная» неудача. Мы уже не раз
применяли к ней другое название. Это «распад» надломленной цивилизации,
проявляющийся в «отделении пролетариата» от группы вождей, которая выродилась в
«правящее меньшинство».
Это отделение ведомых от ведущих можно рассматривать как
потерю гармонии между частями, составляющими целостный ансамбль
общества. В любом целом расплатой за потерю гармонии между составными частями
является соответствующая потеря самоопределения целого. Эта потеря
самоопределения и является конечным критерием надлома. Данный вывод совсем не
удивляет нас, поскольку является противоположным тому выводу, к которому мы
пришли ранее в нашем «Исследовании», – выводу о том, что движение к
самоопределению является критерием роста. Теперь мы должны рассмотреть
некоторые из форм, в которых эта потеря самоопределения проявляет себя в
результате потери гармонии.
2. Новое вино в старых мехах
Приспособление, революции и чудовищные извращения
Одним из источников дисгармонии между составляющими общество
институтами является введение тех новых социальных сил – способностей, эмоций
или идей, – которые существующим набором институтов первоначально не
предполагались. На разрушительное воздействие этого несовместимого наложения
новых явлений на старые указывает одна из известнейших притчей, приписываемых
Иисусу:
«И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой
ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают
также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и
мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое»{110}.
В домашнем хозяйстве, откуда данное сравнение заимствовано,
конечно же, наставление может выполняться буквально. Однако в экономической
жизни общества возможности людей по упорядочиванию своих собственных дел в
соответствии с неким рациональным планом сильно ограничены, поскольку общество
не является, в отличие от бурдюка или одежды, собственностью одного владельца.
Общество – это точка, где пересекается множество человеческих сфер
деятельности. По этой причине данное наставление, которое исполнено здравого
смысла в сфере домашнего хозяйства и практической мудрости – в духовной жизни,
является прекрасным, но бесполезным советом в сфере общественной.
Несомненно, введение новых динамических сил чисто
умозрительно должно было бы сопровождаться реорганизацией всего существующего
набора институтов. В любом растущем обществе приспособление наиболее вопиющих
анахронизмов продолжается непрерывно. Однако vis inertiae[550] во все времена стремится сохранить большую
часть элементов социальной структуры в неизменном виде, несмотря на их растущее
несоответствие новым социальным силам, которые постоянно вводятся в действие. В
этой ситуации новые силы, вероятно, будут действовать одновременно в двух
диаметрально противоположных направлениях. С одной стороны, они будут выполнять
свою творческую работу или посредством новых институтов, которые они основывают
для себя, или посредством старых институтов, приспособленных к их цели. Разливаясь
по этим гармоничным каналам, они содействуют благосостоянию общества. В то же
самое время они входят без разбора во все институты, которые попадаются им на
пути. Так, мощная струя пара, направленная внутрь машины, может привести в
действие любой старый двигатель, который будет на ней установлен.
В подобном случае, вероятно, произойдет одна из двух
возможных катастроф. Или давление новой струи пара разорвет на части старый
двигатель, или старый двигатель почему‑либо сумеет устоять и начать действовать
новым способом, что, вероятно, окажется и опасным, и разрушительным.
Если перевести эту притчу на язык социальной жизни, то можно
сказать, что взрывы старых двигателей, которые не могут противостоять новым
давлениям, или разрывы старых мехов, которые не могут выдержать брожения нового
вина, – это революции, которые иногда охватывают анахроничные институты. С
другой стороны, гибельные характеристики старых двигателей, выдерживающих
напряжение, превосходящее те характеристики, для каких они создавались, являются
чудовищными социальными извращениями, которые временами порождаются
«консервативным» институциональным анахронизмом.
Революции можно определить как задержанные и,
соответственно, искаженные акты мимесиса. Миметический элемент является самой
их сутью, ибо каждая революция имеет отношение к тому, что уже происходило в
других местах. Изучая революцию в ее историческом контексте, всегда убеждаешься
в том, что она никогда бы не вспыхнула сама по себе, если бы не была вызвана
предшествующим действием внешних сил. Очевидным примером является Французская
революция 1789 г., черпавшая вдохновение частично из событий, происходивших
недавно в Британской Америке, – событий, которым французское правительство
старого режима во многом самоубийственно способствовало, а частично – из
английских достижений прошлого столетия, популяризированных и прославленных
двумя поколениями философов начиная с Монтескье.
Элемент запаздывания также является сущностью революций и
объясняет ту стремительность, которая составляет их наиболее выдающуюся черту.
Революции стремительны, потому что они являют собой запоздалые триумфы новых
мощных социальных сил над устойчивыми старыми институтами, которые временно
мешают этим новым выражениям жизни и стесняют их. Чем дольше продолжается сдерживание,
тем больше становится давление той силы, выход которой сдерживается, а чем
больше давление, тем стремительнее взрыв, с которым в конце концов вырывается
из заточения сдерживаемая сила.
Что касается чудовищных социальных извращений, являющихся
альтернативами революций, то их можно определить как возмездие, которое
настигает общество, когда акт мимесиса, который должен был привести старый
институт в гармонию с новой социальной силой, не просто задерживается, но
совершенно срывается.
Тогда становится очевидным, что когда бы существующей
институциональной структуре общества ни был брошен вызов новой социальной
силой, возможны три альтернативных исхода: гармоничное приспособление структуры
к этой силе, революция (которая является запоздалым и диссонирующим приспособлением)
или чудовищное извращение. Также очевидно, что все эти три альтернативы могут
быть осуществлены в различных частях одного и того же общества (например, в
различных национальных государствах) в зависимости от того способа, каким себя
каждое отдельное общество выражает. Если преобладает гармоничное
приспособление, то общество будет продолжать свой рост. Если преобладают
революции, то его рост будет все больше и больше подвергаться опасности. Если
чудовищные извращения, то мы можем поставить диагноз надлома. Ряд примеров
проиллюстрирует формулу, которую мы только что вывели.
* * *
Воздействие индустриализма на рабство
На протяжении последних двух столетий были приведены в
движение две новые динамические социальные силы – индустриализм и демократия.
Одним из старых институтов, с которым пришлось столкнуться этим силам, было
рабство. Этот пагубный институт, в столь значительной мере содействовавший
упадку и разрушению эллинского общества, никогда не укреплялся на родине
западного общества, но начиная с XVI столетия, когда западное христианство
стало распространяться за морем, он начинает утверждаться в новых заморских владениях.
Однако в течение долгого времени масштабы возобновления плантационного рабства
были не такими страшными. К моменту, когда в конце XVIII в. влияние новых сил
демократии и индустриализма начало распространяться из Великобритании на
остальной западный мир, рабство еще только практически ограничивалось
колониальными окраинами, да и там область его распространения сокращалась.
Такие государственные деятели, как Вашингтон и Джефферсон, сами являвшиеся
рабовладельцами, не только порицали этот институт, но и весьма оптимистично
смотрели на перспективы его мирного угасания в текущем столетии.
Тем не менее эта возможность была исключена вспышкой
промышленной революции в Великобритании, которая сильно стимулировала спрос на
сырье, производимое на рабских плантациях. Воздействие индустриализма, таким
образом, вдохнуло новые силы в слабый и анахроничный институт рабства. Западное
общество встало теперь перед выбором – или принимать активные меры, которые
должны были немедленно положить рабству конец, или наблюдать, как это античное
социальное зло при помощи новой движущей силы – индустриализма – начинает
становиться смертельно опасным для самой жизни общества.
В данной ситуации аболиционистское движение[551] началось во многих различных национальных
государствах западного мира и мирным путем достигло значительного успеха. Но
оставался один важный регион, где аболиционистскому движению не удалось
одержать победу мирным путем, и этим регионом был «хлопковый пояс» в южных
штатах Северо‑Американского Союза. Здесь сторонники рабства оставались у власти
в течение еще одного поколения. За этот короткий промежуток времени в тридцать
лет – между 1833 г., когда рабство было отменено в Британской империи, и 1863
г., когда оно было отменено в Соединенных Штатах, – «специфический институт»
южных штатов, вместе со стоявшей за ним движущей силой индустриализма, разросся
до чудовищных размеров. После этого чудовище было загнано и убито. Но за это
запоздалое искоренение рабства в Соединенных Штатах пришлось заплатить ценой
разрушительной революции, опустошительное воздействие которой все еще дает о
себе знать до сих пор. Такова была цена этой отдельной задержки мимесиса.
И все же западное общество может поздравить себя с тем, что
пусть даже и такой ценой социальное зло рабства было искоренено в его последней
западной цитадели. За эту милость мы должны благодарить новую силу демократии,
вошедшую в западный мир немного ранее индустриализма. Далеко не случайным
совпадением является то, что Линкольн, главный инициатор уничтожения рабства в
его последней западной цитадели, повсеместно и весьма справедливо будет
рассматриваться и как величайший демократический деятель. Поскольку демократия
есть политическое выражение гуманизма, а гуманизм и рабство очевидным образом
являются смертельными врагами, новый демократический дух направил свою энергию
в аболиционистское движение в тот самый момент, когда новый индустриализм
направлял свою энергию на развитие рабства. Можно с уверенностью сказать, что
если бы в борьбе с рабством энергия индустриализма не была бы нейтрализована
энергией демократии, западный мир не избавился бы от рабства так легко.
* * *
Воздействие демократии и индустриализма на войну
Считается уже общим местом, что воздействие индустриализма
увеличило ужасы войны столь же заметно, сколь и ужасы рабства. Война – еще один
древний, анахроничный институт, по моральным основаниям столь же широко
осуждаемый, сколь в свое время было осуждаемо рабство. Что касается чисто
интеллектуальных оснований, то существует школа мысли, утверждающая, что война,
так же как и рабство, «не окупается», даже те войны, которые, как может
показаться, приносят выгоду. Накануне Гражданской войны в Америке южанин X. Р.
Хелпер[552] написал книгу, озаглавленную «Неминуемый
кризис Юга», чтобы доказать, что рабство не выгодно для рабовладельцев, и по
причине курьезной, но легко объяснимой путаницы в мыслях был осужден тем
классом, который хотел просветить в его же собственных интересах. Точно так же
накануне мировой войны 1914‑1918 гг. Норман Энджелл[553] написал книгу, озаглавленную «Обман зрения
Европы», чтобы доказать, что война приносит чистый убыток как победителям, так
и побежденным, и был осужден значительной частью публики, столь же озабоченной
сохранением мира, сколь и сам еретический автор. Почему же в таком случае наше
общество до настоящего времени гораздо менее преуспело в деле избавления от
войны, чем в деле избавления от рабства? Ответ очевиден. В данном случае, в
отличие от первого, две ведущие силы – демократии и индустриализма – оказали
одновременное воздействие в одном направлении.
Если мы вспомним теперь состояние западного мира накануне
появления индустриализма и демократии, то заметим, что в это время (в середине
XVIII столетия) война находилась почти что в том же состоянии, что и рабство.
Она явно убывала, не столько потому, что войны стали менее часты (если бы даже
этот факт и можно было статистически доказать[554]), сколько
потому, что они стали вестись с большей умеренностью. Наши рационалисты XVIII
столетия с отвращением оглядывались на недавнее прошлое, когда воинственность
необыкновенно усиливалась благодаря воздействию энергии религиозного фанатизма.
Тем не менее во второй половине XVII столетия этот демон был изгнан, и
непосредственным результатом этого явилось снижение зла войны до того минимума,
который никогда не был достигнут в какой‑либо другой главе западной истории ни
до, ни после. Эта эпоха относительно «цивилизованных приемов ведения войны»
закончилась в конце XVIII в., когда воинственность стала опять усиливаться под
воздействием демократии и индустриализма. Если мы зададимся вопросом, какая из
двух этих сил сыграла большую роль в усилении войны в течение последних ста
пятидесяти лет, то первым нашим импульсом будет приписать более важную роль
индустриализму. Но мы бы ошиблись. Первой из современных войн был в этом смысле
цикл войн, открытых Французской революцией, и воздействие индустриализма на эти
войны было незначительным, а воздействие демократии, французской революционной
демократии – наиболее важным. Не столько военный гений Наполеона, сколько
революционное неистовство французских армий, подобно ножу, входящему в масло,
прорвалось сквозь устроенную на старый манер оборону нереволюционизированных
континентальных держав и пронесло французское оружие по всей Европе. Если
требуются доказательства для этого утверждения, то их можно найти в том факте,
что необученные французские рекруты совершили подвиги, оказавшиеся слишком
тяжелыми для профессиональной армии Людовика XIV, еще до того, как на сцене
появился Наполеон. Мы можем вспомнить также, что римляне, ассирийцы и другие
воинствующие державы прошедших веков уничтожали цивилизации без помощи какого‑либо
промышленного аппарата, фактически лишь оружием, которое показалось бы
элементарным для мушкетеров XVI столетия.
Основополагающая причина, по которой война была менее
жестока в XVIII в., чем до или после, заключается в том, что она уже перестала
быть оружием религиозного фанатизма и еще не стала оружием фанатизма
национального. В течение этого промежутка времени она была просто «забавой
королей». С нравственной точки зрения, ведение войны с этой легкомысленнейшей
целью может показаться более чем шокирующим, однако последствия смягчения
материальных ужасов войны неоспоримы. Королевские игроки весьма неплохо знали
ту степень дозволенности, которую предоставляли им их подданные, и сдерживали
свою деятельность в этих рамках. Их армии не набирались в результате всеобщей
воинской повинности. Они не жили за счет оккупированной страны, как это делали
армии периода Религиозных войн[555]. Они не
стирали с лица земли мирные объекты, подобно армиям XX столетия. Они следовали
правилам своей военной игры, ставили перед собой умеренные задачи и не
навязывали тяжелых условий своим побежденным противникам. В редких случаях,
когда эти соглашения нарушались, как, например, Людовиком XIV, опустошившим
Пфальц в 1674 и 1689 гг., подобные жестокости прямо осуждались не только
жертвами, но и нейтральным общественным мнением[556].
Классическое описание этого положения дел вышло из‑под пера
Эдуарда Гиббона:
«В войне европейские силы соревнуются умеренно и
нерешительно. Перевес будет на стороне то одной, то другой державы;
благосостояние нашего или соседнего государства может то увеличиваться, то
уменьшаться; но эти частные перемены не в состоянии нарушить нашего общего
благосостояния, не в состоянии уничтожить тех искусства, законов и нравов,
которые так возвышают европейцев и их колонии над остальным человечеством»{111}.
Автор этого до болезненности самодовольного пассажа прожил
достаточно долго, чтобы быть потрясенным до глубины души началом нового цикла
войн, которые заставили его признать свой вердикт устаревшим.
Точно так же, как усиление рабства в результате воздействия
индустриализма привело к аболиционистскому движению, усиление воинственности в
результате воздействия демократии, а впоследствии, конечно же, и воздействия
индустриализма, привело к антивоенному движению. Его первому воплощению в Лиге
наций после окончания Первой мировой войны 1914‑1918 гг. не удалось сохранить
мир от испытаний Второй мировой войны 1939‑1945 гг. Ценой этого дальнейшего
бедствия мы приобрели теперь новую возможность попытаться предпринять трудное
дело искоренения войны посредством объединенной системы мирового правительства,
не позволяя циклу войн идти своим ходом до тех пор, пока он не закончится –
слишком плохо или слишком поздно – насильственным установлением универсального
государства какой‑либо единственной оставшейся в живых державой. Удастся ли нам
достичь в нашем мире того, чего ни одной цивилизации еще достичь не удавалось,
одному Богу известно.
* * *
Воздействие демократии и индустриализма на суверенные
государства
Почему демократия, которую ее поклонники часто объявляют
естественным следствием развития христианской религии и которая показывает себя
не совсем недостойной этого высокого притязания в своем отношении к рабству,
оказала негативное влияние на равно очевидное зло войны? Ответ можно найти в
том факте, что еще до того, как столкнуться с институтом войны, демократия
столкнулась с институтом местного (или локального) суверенного государства.
Внедрение новых движущих сил демократии и индустриализма в старую машину
местного государства породило одинаково чудовищные явления политического и
экономического национализма. Именно в этой грубой производной форме, в которой
бесплотный дух демократии появился, пройдя через чуждого медиума, демократия
направила свою энергию на дело войны вместо того, чтобы с нею бороться.
Здесь опять‑таки западное общество находилось в более
выгодном положении в донационалистическую эпоху XVIII столетия. За одним‑двумя
известными исключениями местные суверенные государства западного мира были в то
время не инструментами общей воли своих граждан, а фактически личными вотчинами
династий. Королевские войны и королевские браки представляли собой два метода,
посредством которых производилась передача этих вотчин или их части от одной
династии к другой, причем из двух этих методов явно предпочитался последний.
Отсюда известная строка, восхваляющая внешнюю политику дома Габсбургов: «Bella
gerant alii; tu, felix Austria, nube!» («Пусть воюют другие; а ты,
счастливая Австрия, заключай браки»)[557]. Сами
названия трех главных войн первой половины XVIII столетия – войн за Испанское[558], Польское[559] и Австрийское наследство[560] – говорят о том, что войны начинались лишь
тогда, когда матримониальные соглашения входили в неразрешимые конфликты.
Несомненно, в этой матримониальной дипломатии было что‑то
очень мелкое и низменное. Династическое соглашение, по которому та или иная
область и ее жители переходили от одного собственника к другому, подобно
поместью со скотом, возмущает чувствительность нашего демократического века. Но
система XVIII в. имела свои преимущества. Она снимала глянец с патриотизма; но,
снимая глянец, она притупляла и его острие. Хорошо известный отрывок из
«Сентиментального путешествия» Стерна[561] рассказывает о том, как автор прибыл во
Францию, совершенно забыв о том, что Великобритания и Франция воевали друг
против друга в Семилетней войне. После некоторых затруднений, связанных с
французской полицией, Стерн, благодаря услугам французского дворянина, которого
он никогда прежде не встречал, получил возможность продолжить свое путешествие
без дальнейших неприятностей. Когда сорок лет спустя в связи с разрывом
Амьенского мирного договора[562] Наполеон отдал приказ о том, чтобы все
британские граждане от восемнадцати до шестидесяти, находящиеся во Франции в
данный момент, были интернированы, его поступок расценили как пример
корсиканской дикости и как иллюстрацию последовавшего за этим из уст Веллингтона[563] афоризма о том, что Наполеон «не джентльмен».
Действительно, Наполеон принес извинения за этот поступок. Однако это
единственное, что сделали бы сегодня даже самые гуманные и либеральные
правительства в качестве само собой разумеющегося и имеющего здравый смысл
шага. Теперь война стала «тотальной войной», и именно потому, что местные
государства превратились в националистические демократии.
Под тотальной войной мы имеем в виду войну, в которой
участниками признаются не только отобранные «шахматные фигуры», называемые
солдатами и матросами, но и все население воюющих стран. Где мы можем найти
истоки этой новой точки зрения? Возможно, в том обращении, которому в конце
Революционной войны[564] подверглись со стороны победивших англо‑американских
колонистов те из них, что были на стороне метрополии. Эти лоялисты Соединенного
королевства[565] – мужчины, женщины и дети – были выброшены со
всеми пожитками из своих домов после того, как война закончилась. Это
обращение, которому они подверглись, прямо противоположно тому, какое испытали
со стороны Великобритании двадцатью годами ранее завоеванные французские
канадцы, которым не только оставили их дома, но и позволили сохранить их
законодательство и религиозные институты. Этот первый пример «тоталитаризма»
знаменателен, поскольку победившие американские колонисты были первой
демократизированной нацией западного общества[566].
Экономический национализм, который превратился в такое
величайшее зло, как наш политический национализм, был порожден соответствующим
извращением индустриализма, действовавшего в тех же узких рамках местного
государства.
Экономические амбиции и соперничество, конечно же, были
известны в международной политике и в доиндустриальную эпоху. Действительно,
экономический национализм получил свое классическое выражение в «меркантилизме»
XVIII столетия[567], а желанная
военная добыча включала в себя рынки и монополии, что можно проиллюстрировать
известным параграфом Утрехтского мира, предоставившим Великобритании монополию
на работорговлю в испано‑американских колониях[568]. Но
экономические конфликты XVIII столетия затрагивали весьма немногочисленные
классы и ограниченные интересы. В эпоху, преимущественно сельскохозяйственную,
когда не только каждая страна, но и каждая деревенская община производила почти
все необходимое для жизни, английские войны за рынки можно было бы с таким же
успехом назвать «забавой купцов», с каким континентальные войны за территории были
названы «забавой королей».
Это общее состояние экономического равновесия при низком
напряжении в малом масштабе было нарушено яростным наступлением индустриализма.
Индустриализм, подобно демократии, внутренне космополитичен в своем действии.
Если настоящей сущностью демократии является несбыточно провозглашенный
Французской революцией дух братства, то неотъемлемым требованием
индустриализма, если он достигнет полной реализации своих потенциальных
возможностей, будет всемирная кооперация. Социальное распределение, которого
требует индустриализм, было искренне провозглашено в XVIII в.
первооткрывателями новой техники в их знаменитом лозунге «Laissez fair! Laissez
passer!» – свобода производства, свобода обмена. Обнаружив, что мир разделен на
небольшие экономические единицы, индустриализм спустя сто пятьдесят лет
принялся переформировывать мировую экономическую структуру двумя путями, каждый
из которых ведет в направлении мирового единства. Он пытается уменьшить
количество экономических единиц и укрупнить их, а также сгладить различия между
ними.
Если мы взглянем на историю этих попыток, то обнаружим, что
в ее ходе был перелом примерно в 60‑70‑х гг. прошлого столетия. Вплоть до этого
времени индустриализму помогала демократия в его попытках сократить количество
экономических единиц и сгладить различия между ними. После этого времени и
индустриализм, и демократия резко изменили свою политику и действовали в
противоположных направлениях.
Если мы рассмотрим сначала размеры экономических единиц, то
обнаружим, что к концу XVIII столетия наиболее крупной зоной свободной торговли
в западном мире была Великобритания – факт, подводящий нас к объяснению того,
почему именно в Великобритании, а не где‑либо еще, началась промышленная
революция. Однако в 1788 г. бывшие британские колонии в Северной Америке,
приняв Филадельфийскую конституцию[569], безвозвратно
отменили все торговые барьеры между штатами и создали то, чему по мере
естественного распространения суждено было стать крупнейшей зоной свободной
торговли и, как прямое следствие этого, – могущественнейшей на сегодняшний день
индустриальной общиной мира. Несколько лет спустя Французская революция
отменила все таможенные границы, существовавшие между провинциями и до сих пор
ослаблявшие экономическое единство Франции. Во второй четверти XIX столетия
немцы пришли к заключению экономического Zollverein[570],
оказавшегося предтечей союза политического. В третьей четверти того же столетия
итальянцы, достигнув политического единства, в то же время закрепили и
экономическое единство. Если мы рассмотрим вторую половину программы: снижение
тарифов и другие местнические барьеры на пути международной торговли, – то
обнаружим, что Питт[571], объявлявший
себя учеником Адама Смита, положил начало движению в пользу свободного ввоза,
которое было доведено до завершения Пилем[572], Кобденом[573] и Гладстоном в середине XIX столетия.
Соединенные Штаты после экспериментирования с высокими тарифами постепенно
двигались в направлении свободной торговли с 1832 по 1860 г. Франция Луи
Филиппа и Наполеона III, равно как и добисмарковская Германия, следовала тем же
курсом.
Затем события приняли другой оборот. Демократический
национализм, объединивший в Германии и Италии множество государств в одно, с
этого времени принялся разрушать многонациональные Габсбургскую, Оттоманскую и
Российскую империи. После окончания Первой мировой войны 1914‑1918 гг. прежде
единое беспошлинное пространство Дунайской монархии разделилось на множество
государств‑наследников, каждое из которых безнадежно стремилось к экономической
автаркии (самодостаточности). В то же время еще одно «созвездие» новых
государств, а впоследствии и новых экономических отделений, вклинилось между
существенно сократившимися территориями Германии и России. Тем временем,
примерно поколение спустя, движение в сторону свободной торговли начало
поворачиваться вспять то в одной, то в другой стране, пока в конце концов в
1931 г. эта возвратная волна «меркантилизма» не достигла самой Великобритании.
Причины данного отказа от свободной торговли легко
распознать. Свободная торговля устраивала Великобританию, когда эта страна была
«мастерской мира». Она устраивала те штаты, которые экспортировали хлопок и в
значительной степени контролировали управление Соединенными Штатами между 1832
и 1860 гг. Она, по‑видимому, по различным причинам устраивала и Францию с
Германией в тот же самый период. Но по мере того как нации одна за другой
индустриализировались, свободная торговля недолго удовлетворяла их местническим
интересам в ожесточенном промышленном состязании со всеми их соседями. В
превалирующей же системе местного государственного суверенитета им бы никто
противостоять не мог.
Кобден и его последователи допустили колоссальный просчет.
Они предвкушали, что народы и государства мира будут вовлечены в единое
общество при помощи новой, беспрецедентно плотно связанной сети мировых
экономических отношений, которую невидимо плела из британского центра молодая
энергия индустриализма. Было бы несправедливо по отношению к кобденитам
расценивать движение за свободную торговлю в викторианской Британии лишь как
шедевр просвещенного эгоизма. Движение было также выражением моральной идеи и
созидательной международной политики. Его наиболее достойные представители
стремились к чему‑то большему, чем просто сделать Великобританию хозяйкой
мирового рынка. Они надеялись также стимулировать постепенную эволюцию
политического мирового порядка, при котором мог бы процветать новый экономический
порядок. Надеялись создать политическую атмосферу, в которой мировой рынок
товаров и услуг мог бы функционировать в мире и безопасности, – неизменно
укрепляясь в безопасности и принося на каждой своей стадии повышение уровня
жизни для всего человечества.
Просчет Кобдена заключался в том факте, что ему не удалось
предвидеть эффект воздействия демократии и индустриализма на конкуренцию
местных государств. Он предполагал, что эти гиганты будут мирно покоиться в XIX
столетии, как они покоились в XVIII, до тех пор, пока у человеческих пауков,
ныне плетущих мировую индустриальную паутину, будет время опутать их всех
тончайшими сетями. Он надеялся на то, что объединяющее и умиротворяющее
воздействие, присущее самой природе демократии и индустриализма, приведет к их
прирожденным и неограниченным проявлениям, в которых демократия будет
поддерживать братство, а индустриализм – кооперацию. Он не рассчитал
возможность того, что эти же самые силы, направив новую «струю пара» в старые
двигатели местных государств, будут способствовать разрушению и мировой
анархии. Он не вспомнил, что евангелие братства, которое проповедовали ораторы
Французской революции, привело к первой из великих националистических войн
современности. Или он, скорее, предполагал, что эта война должна была оказаться
не только первой, но и последней войной подобного рода. Он не понимал, что если
узкие круги торговой олигархии XVIII столетия были способны запустить механизм
войны в поддержку сравнительно несущественных отраслей торговли предметами роскоши,
составлявших международную торговлю того времени, то тем более
демократизированные нации будут бороться одна с другой a outrance[574] за экономические цели в век, когда
промышленная революция превратила международную торговлю из обмена предметами
роскоши в обмен предметами первой необходимости.
В общем, представители манчестерской школы[575] неправильно понимали человеческое естество.
Они не понимали, что даже экономический мировой порядок не может быть построен
на одних экономических основаниях. Несмотря на свой прирожденный идеализм, они
не понимали, что «не хлебом единым жив человек». Этой роковой ошибки избегли
Григорий Великий и другие основатели западного христианства, от которых в
конечном итоге унаследовала свой идеализм викторианская Англия. Эти люди,
искренне преданные сверхземному делу, не пытались сознательно основать мировой
порядок. Их земная цель была ограничена более скромным материальным стремлением
сохранить оставшихся в живых членов потерпевшего крушение общества.
Экономическое здание, возводимое в качестве обременительной и неблагодарной
необходимости Григорием и его соратниками, прямо признавалось времянкой.
Однако, создавая его, они заботились о том, чтобы оно было построено на
религиозной скале, а не на экономических песках. Благодаря их трудам строение
западного общества покоилось на прочном религиозном основании и выросло менее
чем за четырнадцать столетий из своих скромных истоков, располагавшихся в одном
из удаленных уголков мира, в повсеместно распространившееся великое общество
наших дней. Если прочный религиозный базис потребовался даже для скромного
экономического строения Григория, то, по‑видимому, вряд ли более обширное
здание мирового порядка, постройка которого является нашей задачей, сможет
безопасно основываться на зыбком фундаменте чисто экономических интересов.
* * *
Воздействие индустриализма на частную собственность
Частная собственность – это институт, который наиболее
естественно утверждает себя в обществах, где обычной единицей экономической
деятельности являются отдельная семья или домашнее хозяйство. В подобных
обществах возможна наиболее удовлетворительная система контроля над
распределением материальных благ. Однако естественной единицей экономической
деятельности более уже не является ни отдельная семья, ни отдельная деревня, ни
отдельное национальное государство, но весь живущий на земле род человеческий.
С тех пор наступление индустриализма современной западной экономики переступило
за пределы семейной единицы de facto[576] и тем самым логически переступило за пределы
семейного института частной собственности. Однако на практике старый институт
оставался в силе. В этих обстоятельствах индустриализм направил свою страшную
«энергию» на частную собственность, увеличивая социальную власть собственника и
уменьшая его социальную ответственность до тех пор, пока институт, который
оказывал благотворное влияние в доиндустриальную эпоху, приобрел многие черты
социального зла.
В подобных обстоятельствах наше общество сегодня столкнулось
с задачей приведения в гармоничные отношения старого института частной
собственности с новой силой индустриализма. Методу мирного урегулирования
препятствует диспропорция в распределении частной собственности, которую
индустриализм неизбежно влечет за собой, организовывая умышленный, рациональный
и беспристрастный контроль над частной собственностью и перераспределение ее
через посредничество государства. Контролируя важнейшие отрасли промышленности,
государство может сдерживать ту непомерную власть над человеческими жизнями,
которую присваивают себе владельцы этих отраслей промышленности, и может
смягчать болезненные следствия нищеты, предоставляя социальные услуги,
финансируемые высокими налогами на доходы. Этот метод имеет то случайное
социальное преимущество, что ведет к превращению государства из военизированной
машины, что было наиболее заметной его функцией в прошлом, в проводника
социального благоденствия.
Если эта мирная политика окажется не соответствующей
требованиям, то мы вполне можем быть уверены, что революционная альтернатива
настигнет нас в какой‑либо форме коммунизма, которая доведет частную
собственность до минимума. По‑видимому, это единственная практическая
альтернатива урегулирования, поскольку диспропорция в распределении частной
собственности благодаря воздействию индустриализма стала бы невыносимым
чудовищным извращением, если бы эффективно не смягчалась социальными услугами и
высоким налогообложением. Однако, как показывает русский эксперимент,
революционное средство коммунизма может оказаться не менее смертоносным, чем
само заболевание. Институт частной собственности настолько тесно связан со всем
лучшим из социального наследия доиндустриальной эпохи, что полный отказ от него
мог бы привести к гибельному разрыву в социальной традиции западного общества.
* * *
Воздействие демократии на образование
Одной из величайших социальных перемен, вызванных
наступлением демократии, было распространение образования. В прогрессивных
странах система всеобщего обязательного бесплатного обучения превратила
образование в неотъемлемое право каждого ребенка – в противоположность роли
образования в додемократическую эпоху, когда оно было монополией
привилегированного меньшинства. Эта новая образовательная система была одним из
основных социальных идеалов каждого государства, которое стремится занять почетное
положение в современном сообществе наций.
Когда всеобщее образование вводилось впервые, либеральное
мнение приветствовало его как триумф справедливости и просвещения, который, как
ожидалось, возвещает приход новой эры счастья и благосостояния для всего
человечества. Однако подобные ожидания, как можно теперь увидеть, не учли
наличие некоторых камней преткновения на этом широком пути к «золотому веку», и
в этом отношении, как часто это случается, непредвиденными оказались именно те
факторы, которые были наиболее важными.
Одним камнем преткновения было неизбежное обнищание в
результате образования, когда процесс образования становился доступным для
«масс» ценой разрыва с их традиционными культурными истоками. Благим намерениям
демократии недостает магической силы совершать чудо о хлебах и рыбах[577]. Нашей
массово производимой интеллектуальной пище не хватает вкуса и витаминов. Вторым
камнем преткновения был тот дух утилитаризма, в каком могут быть использованы
плоды образования, когда они оказываются доступны каждому. При таком социальном
строе, когда образование ограничивается лишь теми, кто или унаследовал право на
него в качестве социальной привилегии, или доказал свое право на него своими
выдающимися дарованиями в трудолюбии и интеллекте, образование оказывается или
бисером, бросаемым перед свиньями[578], или
драгоценной жемчужиной, которую ищущий купил ценой всего своего имения[579]. Ни в одном
из двух случаев оно не является средством для достижения цели: инструментом
мирских амбиций или же легкомысленного развлечения. Возможность превращения
образования в средство для развлечения масс (и извлечения выгоды для
предприимчивых личностей, которыми развлечения предлагаются) появилась лишь с
введения всеобщего начального образования. Эта новая возможность вызвала третий
камень преткновения, самый большой. Лишь только хлеб всеобщего образования упал
в воду, как из глубины успела появиться стая акул и пожрать детский хлеб прямо
на глазах учителя. В истории английского образования даты говорят сами за себя.
Создание системы всеобщего начального образования было, грубо говоря, завершено
Законом Форстера в 1870 г.[580], а «желтая
пресса» была создана примерно через двадцать лет, – как только первое поколение
детей из государственных школ приобрело достаточную покупательную способность –
по мановению безответственного гения, предсказавшего, что бескорыстный
филантропический труд по образованию можно было бы проделать ради того, чтобы
принести огромную прибыль газетному королю.
Эти смущающие противодействия, оказываемые влиянию
демократии на образование, обратили на себя внимание правителей современных
потенциально тоталитарных национальных государств. Если газетные короли могли
делать миллионы, развлекая полуобразованную публику, то серьезные
государственные деятели могли извлекать не только деньги, но и власть из того
же самого источника. Современные диктаторы сместили газетных королей и заменили
их грубой и еще менее ценной системой государственной пропаганды. Тщательно
разработанный и оригинальный механизм массового порабощения полуобразованных
умов, изобретенный для извлечения частной выгоды при британском и американском
режимах laisser faire, был просто унаследован правителями государств,
которые пользовались этими психическими средствами воздействия, усиленными
кинематографом и радио, в своих страшных целях. За Нортклиффом[581] шел Гитлер, хотя Гитлер не был первым в этом
ряду.
Таким образом, в тех странах, где было введено
демократическое образование, народ стоит перед опасностью оказаться под властью
интеллектуальной тирании, которую строит или частная эксплуатация, или
государственная власть. Если человеческие души еще можно спасти, то
единственным способом будет поднять массовое образование до такого уровня, на
котором получающие его окажутся невосприимчивыми, по крайней мере, к усилению
эксплуатации и пропаганды. Вряд ли нужно говорить, что это нелегкая задача. К
счастью, существуют некоторые незаинтересованные и эффективные образовательные
организации, борющиеся с этим сегодня в западном мире. Это такие организации,
как Образовательная ассоциация рабочих и Британская вещательная корпорация (Би‑би‑си)
в Великобритании и заочные отделения университетов во многих странах.
* * *
Воздействие итальянской политической системы на
трансальпийские формы правления
До сих пор все наши примеры заимствовались из позднейшей
фазы западной истории. Нам нужно лишь напомнить читателю о проблеме,
поставленной воздействием новой силы на старый институт в ранней главе этой же
самой истории, поскольку мы уже исследовали данный пример в другой связи.
Проблема, поставленная здесь, заключалась в том, как обеспечить гармоничное
приспособление трансальпийских феодальных монархий к воздействию эффективной
политической системы, порожденной городами‑государствами ренессансной Италии.
Наиболее легким и наихудшим способом урегулирования было превратить сами
монархии в тирании или деспотии по образцу тех деспотий, жертвами которых стали
уже столь многие из итальянских государств. Наиболее трудным и наилучшим
способом было превратить средневековые собрания штатов, существовавшие в
трансальпийских королевствах, в представительные органы правления, которые были
бы столь же эффективны, сколь и современные им итальянские деспотии. В то же
самое время они могли бы обеспечить в национальном масштабе такую же свободную
степень самоуправления, какой обладали самоуправляющиеся институты итальянских
городов‑государств, во всяком случае политически в их лучшие времена.
Именно в Англии (по причинам, к которым мы еще вернемся в
другом месте) эти методы урегулирования имели наибольший успех. Соответственно,
англичане стали первопроходцами, или творческим меньшинством, в следующей главе
западной истории, как итальянцы были в главе предыдущей. При ловких,
национально мыслящих Тюдорах монархия начала развиваться в деспотию, но при злополучных
Стюартах парламент возвысился до уровня короны и, наконец, вырвался вперед.
Однако даже здесь это урегулирование не обошлось без двух революций, которые,
тем не менее, в сравнении с большинством революций, проводились умеренно и
сдержанно. Во Франции тенденция к деспотизму продолжалась гораздо дольше и
зашла гораздо дальше. Результатом явилась гораздо более жестокая революция,
возвестившая о начале периода политической нестабильности, конец которого еще
не виден до сих пор. В Испании и Германии тенденция к деспотизму продолжалась
вплоть до наших дней, и встречные демократические движения, тем самым чрезмерно
долго задерживавшиеся, оказались вовлечены во все те сложности, которые были
обрисованы в предыдущих разделах данной главы.
* * *
Воздействие солоновской революции на эллинские города‑государства
Эффективность итальянской политической системы, оказавшей
свое воздействие на трансальпийские страны западного мира в переходный период
от второй к третьей главе западной истории, имеет свой аналог в эллинской
истории в той экономической эффективности, которой достигли отдельные
государства эллинского мира в VII–VI вв. до н. э. под давлением мальтузианской
проблемы. Эта новая экономическая эффективность не ограничивалась Афинами и
происходившими от них другими государствами, но, широко распространяясь за их
пределы, оказывала воздействие как на внутреннюю, так и на международную
политику всего эллинского космоса городов‑государств.
Мы уже описали ту экономическую отправную точку, которую
можно назвать солоновской революцией[582]. В сущности,
это был переход от натурального хозяйства к товарно‑денежному, сопровождавшийся
развитием торговли и промышленности. Подобное решение экономической проблемы,
связанной с перенаселенностью, вызвало к жизни две новые политические проблемы.
С одной стороны, экономическая революция привела к появлению новых классов общества:
городских торгово‑промышленных рабочих, ремесленников и моряков, – для которых
пришлось найти место в политической системе. С другой стороны, прежняя изоляция
одного города‑государства от другого уступила место экономической
взаимозависимости. А когда однажды множество городов‑государств стали
экономически взаимозависимыми, то с этого времени было уже невозможно
оставаться без опасности в первоначальном состоянии политической изоляции.
Первая из названных проблем имеет сходство с той, которую викторианская Англия
решала при помощи ряда парламентских законопроектов. Вторая похожа на ту,
которую она надеялась решить благодаря фритредерскому движению. Мы рассмотрим
эти проблемы отдельно, в предварительно обговоренном порядке.
Во внутренней политической жизни эллинских городов‑государств
предоставление избирательных прав новым классам повлекло за собой радикальные
перемены в базисе политического союза. Традиционный родовой базис надо было
заменить новым правом, основанным на собственности. В Афинах этот переход
прошел эффективно и по большей части гладко – в ряду конституционных
усовершенствований между веком Солона и веком Перикла. Сравнительная гладкость
и эффективность этого перехода доказывается незначительностью той роли, которую
играли тираны в афинской истории. Основным правилом конституционной
истории этих городов‑государств было то, что когда процесс следования по стопам
общин‑первопроходцев чрезмерно задерживался, за этим следовало состояние stasis’а[583] (революционной классовой борьбы), которое
могло быть улажено только появлением «тирана» или, говоря на нашем современном
жаргоне, заимствованном из Рима, появлением диктатора. В Афинах, как и в других
местах, диктатура оказалась необходимой стадией в процессе урегулирования,
однако здесь тирания Писистрата и его сыновей[584] была не более чем краткой интермедией между
реформами Солона и Клисфена[585].
В других греческих городах‑государствах процесс
урегулирования проходил гораздо менее гармонично. Коринф испытал на себе
продолжительную, а Сиракузы – неоднократно возобновлявшуюся диктатуру.
Жестокость stasis’а на Керкире обессмертил на страницах своей «Истории»
Фукидид.
В заключение мы можем взять случай Рима, негреческой общины,
которая была вовлечена в эллинский мир в результате географической экспансии
эллинской цивилизации в течение 725‑525 гг. до н. э. Лишь после своего
культурного обращения Рим вступил на путь экономического и политического
развития, который был обычным путем для эллинских и эллинизированных городов‑государств.
В результате в этой главе [истории] Рим прошел все стадии за промежуток времени
примерно в 150 лет после соответствующей даты в истории Афин. За данный
промежуток времени Рим поплатился наказанием в виде резкого и бедственного stasis’а
между патрицианскими сторонниками монополии власти по праву рождения и
плебейскими претендентами на власть по праву богатства и численности[586]. Этот римский
stasis, продолжавшийся с V по III в. до н. э., тянулся так долго, что
плебс несколько раз откалывался от народа, совершая настоящий, географический
уход и надолго учреждая плебейское антигосударство – полностью со всеми его
институтами, собраниями и должностными лицами – внутри законной Республики.
Лишь благодаря внешнему давлению римскому искусству государственного управления
удалось в 287 г. до н. э. справиться с этим конституционным извращением,
приведя государство и антигосударство в действующее политическое единство.
После последовавших 150 лет победоносного империализма временный характер
урегулирования 287 г. до н. э. быстро открылся. Необожженная амальгама
патрицианских и плебейских институтов, которые были приняты римлянами в
качестве их обветшалой конституции, оказалась настолько негодным политическим
инструментом для достижения нового социального урегулирования, что интенсивная
и бесплодная деятельность Гракхов открыла следующий тур stasis’а (131‑31
гг. до н. э.), еще хуже первого. Насей раз, после столетия самоистязаний,
Римская республика подчинилась долговременной диктатуре. А поскольку к этому
времени римские армии завершили завоевание эллинского мира, римские тирании
Августа и его преемников мимоходом создали для эллинского общества его
универсальное государство.
Упорная неспособность римлян справиться со своими
внутренними проблемами представляет собой резкую противоположность их
непревзойденному умению совершать, поддерживать и организовывать свои внешние
завоевания. Следует отметить, что афиняне, которые не имели себе равных в деле
изгнания stasis’а из своей внутренней политики, замечательным образом не
сумели создать в V в. до н. э. уже тогда крайне необходимый международный
порядок, который римлянам удалось кое‑как установить лишь 400 лет спустя.
Эта международная задача, с которой не справились афиняне,
была второй из двух проблем урегулирования, поставленных солоновской
революцией. Препятствием на пути создания международной политической
безопасности, требовавшейся для эллинской международной торговли, явился
унаследованный политический институт полисной независимости. С начала V в. до
н. э. вся эллинская политическая история – это история попыток преодоления
независимости полиса и того сопротивления, которое эти попытки вызывали. Еще до
конца V в. до н. э. упорство сопротивления этим попыткам привело эллинскую
цивилизацию к надлому. Хотя эта проблема была наконец решена Римом, это не было
сделано вовремя, чтобы предотвратить эллинское общество от распада и
окончательного развала. Идеальное решение проблемы можно было найти в
неизменном ограничении независимости городов‑государств на основе добровольного
соглашения между ними. К несчастью, наиболее выдающейся из подобных попыток,
Делосскому союзу[587], созданному
Афинами и их эгейскими союзниками в ходе победоносного контрнаступления на
персов, был нанесен ущерб навязыванием прежней эллинской традиции гегемонии –
эксплуатации членов принудительного союза его лидером. Делосский союз стал
Афинской империей, а Афинская империя вызвала Пелопоннесскую войну. Четыреста
лет спустя Рим преуспел там, где Афины потерпели неудачу. Однако бич, которым
афинский империализм наказывал свой маленький мир, оказался скорпионами[588], которыми
римский империализм наказывал гораздо более пространные эллинское и
эллинизированное общества в течение двух столетий, последовавших за войной с
Ганнибалом и предшествовавших установлению мира при Августе.
* * *
Воздействие местничества на западно‑христианскую Церковь
Если эллинское общество надломилось в результате неудачи
вовремя преодолеть свои традиционные местные интересы, то западному обществу не
удалось (с последствиями, еще ожидающими нас в будущем) утвердить общественное
единство, которое было, возможно, наиболее драгоценной частью его
первоначального вклада. Во время перехода от средневековой к современной главе
западной истории одним из наиболее значительных выражений текущих социальных
перемен был подъем местничества. В наше время совсем не легко рассматривать это
изменение бесстрастно, учитывая все то зло, которое оно принесло нам, когда
стало анахроничным пережитком. Однако мы можем видеть, что было много доводов в
пользу отказа от нашего средневекового экуменизма 500 лет назад. Ибо, несмотря
на его нравственное величие, он был тенью прошлого, наследием универсального
государства эллинского общества. Между теоретическим превосходством
экуменической идеи и действительной анархией средневековой практики всегда
оставалась неподобающее несоответствие. Новому местничеству, во всяком случае,
удавалось жить согласно своим менее амбициозным требованиям. Как бы то ни было,
новая сила одержала победу. В политике она проявила себя во множественности
суверенных государств. В словесности – в форме новых литератур на национальных
языках. В сфере религии она столкнулась со средневековой западной Церковью.
Неистовость этого последнего столкновения была вызвана тем
фактом, что Церковь, тщательно организованная под папским священноначалием,
была главным институтом средневекового управления. Проблема, вероятно,
поддалась урегулированию по тем направлениям, которые папство уже разведало,
когда находилось на вершине своей власти. Например, столкнувшись с местным
стремлением использовать в литургических целях вместо латинского национальные
языки, Римская церковь позволила хорватам перевести литургию на их родной язык.
Сделано это было, вероятно, потому, что в данном приграничном районе Рим
оказался лицом к лицу со своим восточно‑православным конкурентом, который, не
настаивая на том, чтобы новообращенные негреческого происхождения принимали
лишь греческий в качестве литургического языка, продемонстрировал политическое
благородство, переведя литургию на многие языки. Кроме того, в своих отношениях
со средневековыми предшественниками современных суверенных правительств папы,
занятые, так сказать, борьбой не на жизнь, а на смерть с притязаниями
императоров Священной Римской империи на вселенскую власть, проявили гораздо
большее умение приноравливаться к местническим притязаниям королей Англии,
Франции, Кастилии и других местных государств, стремившихся осуществлять
контроль над церковной организацией в пределах своих владений.
Таким образом, папский престол уже вполне научился воздавать
кесарю кесарево к тому времени, когда оперившийся неоцезаризм заявил о себе. За
век до так называемой Реформации папство достигло значительных успехов в
заключении со светскими самодержцами конкордатов[589], разделивших
между Римом и местными правителями контроль над церковной иерархией. Эта
система конкордатов была непреднамеренным последствием безуспешных Вселенских
соборов, устраивавшихся в первой половине XV столетия в Констанце (1414‑1418) и
Базеле (1431‑1449)[590].
Соборное движение[591] явилось действенной попыткой нейтрализации
безответственной, а часто и явно злоупотреблявшей власти самозванного
«наместника» Христова при помощи введения во вселенском масштабе системы
церковного парламентаризма наподобие той, какая в местном масштабе уже доказала
свою полезность в феодальную эпоху в качестве средства контроля над
деятельностью средневековых королей. Однако папы, столкнувшиеся с соборным
движением, закалили свои сердца, и их непримиримость привела к достижению
успеха, оказавшегося роковым. Им удалось свести соборное движение на нет, и,
отвергнув, таким образом, последнюю возможность мирного урегулирования, они
обрекли западное христианство на раскол в результате яростных внутренних
разногласий между старым вселенским наследием и новыми местническими
наклонностями.
Результатом стал мрачный урожай революций и чудовищных
извращений. Среди первых нам нужно только упомянуть насильственный развал
единой Церкви на множество конкурирующих церквей, каждая из которых поносила
другую как шайку Антихриста и развязывала целый цикл войн и преследований.
Среди последних можно назвать узурпацию светскими правителями «божественного
права», по общему мнению, свойственного папству, права, которое все еще сеет
смуту в западном мире в бесчеловечной форме языческого культа суверенных
национальных государств. Патриотизм, который доктор Джонсон[592] довольно странно определяет как «последнее
прибежище негодяев», а сестра Кавелл[593] более мудро объявляет «недостаточным», в
западном мире в значительной степени вытеснил христианство как религию. Во
всяком случае, трудно представить себе более резкое противоречие самой сути
христианского учения (равно как и учениям всех других высших религий,
существовавших в истории), чем то, которое нашло воплощение в данном чудовищном
порождении воздействия местничества на западно‑христианскую Церковь.
* * *
Воздействие чувства единства на религию
«Высшие религии» с их миссионерской деятельностью,
обращенной ко всему человечеству, сравнительно недавно появились на сцене
человеческой истории. Они были неизвестны не только примитивным обществам. Они
не возникали даже в тех обществах, которые находились в процессе цивилизации,
до тех пор, пока некоторые цивилизации не прошли стадию надлома и не
продвинулись далеко вперед по пути распада. Как раз в ответ на вызов, брошенный
распадом цивилизаций, и появились эти высшие религии. Религиозные институты
цивилизаций неаффилированного класса, так же как и религиозные институты
примитивных обществ, тесно связаны со светскими институтами данных обществ и
почти от них неотличимы. С более высокой духовной точки зрения, подобные
религии явно неадекватны. Однако они обладают одним важным негативным
качеством: они благоприятствуют тому, что дух «сам живет и позволяет жить
другим» в той или иной религии. При таких обстоятельствах множественность богов
и религий в мире принимается как естественная параллель множественности
государств и цивилизаций.
В подобных социальных условиях человеческие души ничего не
знают о вездесущии и всемогуществе Бога, но они защищены от искушения поддаться
греху нетерпимости в своих отношениях с другими людьми, верящими в Бога в ином
образе и под другими именами. Одним из парадоксов человеческой истории является
то, что просвещение, которое принесло в религию осознание единства Бога и
братства всего человечества, в то же самое время содействовало распространению
нетерпимости и преследований. Объяснение этого, конечно же, заключается в том,
что идея единства в ее применении к религии производит неизгладимое впечатление
на духовных первопроходцев, которые принимают ее в качестве столь необыкновенно
важной, что способны пойти любым кратчайшим путем, который обещает им ускорить
воплощение их идеи в реальность. Эта чудовищность нетерпимости и преследования
показывала свое страшное лицо почти обязательно, когда бы и где бы высшая религия
ни проповедовалась. Этот фанатический характер проявился в бесплодной попытке
фараона Эхнатона навязать египетскому миру свое монотеистическое мировоззрение
в XIV в. до н. э. Не менее пылкий фанатизм бросает свой зловещий свет на
возникновение и развитие иудаизма. Безжалостное обличение всякого участия в
культах родственных сирийских общин является обратной стороной той этерификации
местного культа Яхве в монотеистическую религию, которая была положительным и
возвышенным духовным достижением древнееврейских пророков. В истории
христианства, как в его внутренних расколах, так и в столкновениях с чуждыми
верами, мы видим, что тот же самый дух вспыхивает вновь и вновь.
Эти данные говорят о том, что воздействие духа единства
способно порождать духовные извращения, а достаточным моральным урегулированием
является осуществление на практике добродетели терпимости. Истинным мотивом
терпимости будет признание того, что все религии являются поисками общей
духовной цели, и что хотя некоторые из этих поисков могут быть более развитыми
и более правильными, чем другие, преследование «ложной» религии soi‑disant[594] «истинной» религией, по сути, противоречие в
терминах, поскольку, увлекаясь преследованиями, «истинная» религия ставит себя
в положение ложной и отрицает свои собственные верительные грамоты.
По крайней мере, в одном заслуживающем внимания случае
подобная терпимость предписывалась пророком своим последователям на этом
высоком основании. Мухаммед предписывал религиозную терпимость к иудеям и
христианам, которые в политическом отношении подчинились светской власти
ислама. Он давал подобное предписание именно на том основании, что две эти
немусульманские религиозные общины, так же как и сами мусульмане, были «людьми
Книги». Показательно, что этот замечательный дух терпимости, воодушевлявший
первоначальный ислам, без специальной санкции со стороны самого пророка,
впоследствии распространился и на зороастриицев, оказавшихся под властью
мусульман.
Период религиозной терпимости, в который западное
христианство вошло во второй половине XVII столетия, имеет свое происхождение в
гораздо более циничном настроении. Он может быть назван периодом «религиозной
терпимости» только в том смысле, что это был период терпимости к религиям. Если
мы рассмотрим его мотивы, то его скорее следует именовать периодом
иррелигиозной терпимости. В эти полстолетия католические и протестантские
группировки достаточно неожиданно прекратили свою борьбу. Не потому, что они
осознали греховность нетерпимости, но потому, что поняли, что ни одна из партий
не может более выступать против другой. В то же время они, по‑видимому,
осознали, что уже не достаточно заботятся о поставленных на карту теологических
вопросах, чтобы и дальше получать удовольствие от любых жертвоприношений ради
них. Они отказались от традиционной добродетели религиозного «энтузиазма»
(который по своему происхождению означает исполненность Божественным духом) и с
тех пор стали рассматривать его как зло. Именно в этом духе английский епископ
XVIII столетия описывал одного английского миссионера этого времени как
«жалкого энтузиаста».
Тем не менее, терпимость, каким бы мотивом она ни
руководствовалась, является превосходным противоядием от того фанатизма,
который способно умножить воздействие чувства единства. Карой Немезиды[595] за его отсутствие является выбор между
чудовищными преследованиями и революционным отвращением к самой религии.
Подобное отвращение выражено в наиболее известной строке Лукреция: «Tantum
religio potuit suadere malorum» («Столько бедствий было из‑за религии»)[596], в
вольтеровской фразе «Écrasez l'infâme»[597] и в словах Гамбетты «Le cléricalisme, voilà
l'ennemi»[598].
* * *
Воздействие религии на касту
Мнение Лукреция и Вольтера о том, что религия сама по себе
есть зло (и, возможно, одно из главных зол в человеческой жизни) может быть
подкреплено упоминанием, заимствованным из анналов индской и индусской истории,
того губительного влияния, которое религия, бесспорно, оказывала на жизнь этих
цивилизаций в институте касты.
Этот институт, заключающийся в разделении общества на две
или более географически смешанные группы людей, склонен утверждать себя, где бы
и когда бы одна община не добивалась господства над другой, не обладая при этом
ни способностью, ни желанием истребить подчиненную общину или же принять ее в
состав своей социальной системы. Например, в Соединенных Штатах возникло
кастовое разделение на господствующее белое большинство и негритянское меньшинство,
а в Южной Африке – на господствующее белое меньшинство и негритянское
большинство. На полуострове Индостан институт касты, по‑видимому, явился
результатом нашествия евразийских кочевников‑арийцев на бывшие владения так
называемой индской культуры в течение первой половины II тысячелетия до н. э.
Мы увидим, что этот институт касты не состоит в необходимой
связи с религией. В Соединенных Штатах и Южной Африке, где негры отказались от
религии предков и приняли христианство господствующих европейцев, разделение на
церкви не соответствовало делению на касты, хотя черные и белые члены каждой из
церквей отделены друг от друга в отправлении религиозного культа и в других
видах социальной деятельности. С другой стороны, в случае Индии мы можем
предположить, что с самого начала касты отличались одна от другой своей
религиозной практикой. Однако очевидно, что это религиозное различие должно
было усилиться, когда индская цивилизация развила сильное религиозное
стремление, которое она передала своей преемнице. Не менее очевидно, что
подобное воздействие религиозности на институт касты должно было резко усилить
пагубность этого института. Кастовое разделение всегда находится на грани того,
чтобы превратиться в социальное извращение, но когда оно усилено религиозной
интерпретацией и религиозной санкцией, то непременно вырастает до чудовищных
размеров.
В действительности, воздействие религии на касту в Индии
породило беспримерное социальное извращение, выразившееся в появлении касты
«неприкасаемых». При этом не было никаких эффективных попыток уничтожить касту
«неприкасаемых» или хотя бы смягчить их положение со стороны брахманов, касты
жрецов, ставших знатоками ритуалов всей системы. Это чудовищное положение
сохраняется до тех пор, пока его не уничтожает революция.
Наиболее ранним из известных нам выступлений против кастовой
системы было выступление Махавиры, основателя джайнизма, и Будды – около 500 г.
до н. э. Если бы буддизму или джайнизму удалось покорить индский мир, от
кастовой системы можно было бы освободиться. Однако оказалось так, что роль
Вселенской церкви в последней главе истории упадка и разрушения индского мира
сыграл индуизм – выскочка, являвший собой архаический синкретизм элементов
новых и старых. Одним из старых элементов, которым индуизм дал новую жизнь,
была каста. Не удовольствовавшись лишь сохранением этого старого извращения, он
усовершенствовал его, и индусская цивилизация начала испытывать трудности от
еще более тяжкого бремени касты, чем то, которое наложила на них предшествующая
цивилизация.
В истории индусской цивилизации выступления против кастовой
системы выразились в том, что люди откалывались от индуизма, привлеченные
некоторыми иными религиозными системами. Некоторые из этих расколов
возглавлялись реформаторами индуизма, которые основывали новые церкви,
соединявшие в себе исправленные варианты индуизма и иные элементы. Например,
Нанак[599], основатель
сикхизма, заимствовал элементы из ислама, а Раммохан Рай[600] создал Брахмо самадж на основе комбинирования
элементов индуизма и христианства. В обеих этих системах кастовая система
отрицалась. В других случаях отступники совершенно отряхивали прах индуизма со
своих ног и входили в состав исламской или христианской паствы. Подобные
обращения в наибольшем масштабе происходили в тех районах, где в количественном
отношении преобладали члены низших каст и угнетенных классов.
Это был революционный ответ на извращение института
«неприкасаемых», вызванный воздействием религии на кастовую систему. По мере
того как массы в Индии постепенно приходят в движение под влиянием
экономической, интеллектуальной и моральной закваски вестернизации, небольшая
струйка обращений среди парий, по‑видимому, разрастается в поток, пока
гармоничное урегулирование социо‑религиозной системы не будет достигнуто,
вопреки оппозиции брахманизма, теми членами индусского общества, которые чтят
как религиозные, так и политические идеалы баньи Махатмы Ганди.
* * *
Воздействие цивилизации на разделение труда
Мы уже отмечали, что разделение труда не было чем‑то совсем
неизвестным в примитивных обществах, и это было проиллюстрировано специализацией
кузнецов, бардов, жрецов, знахарей и тому подобных. Однако воздействие
цивилизации на разделение труда имеет в общих чертах тенденцию усиливать это
разделение до такой степени, что оно грозит не просто привести к уменьшению
социальной отдачи, но стать, в сущности, по своим действиям антиобщественным.
Это воздействие проявляется как в жизни творческого меньшинства, так и
нетворческого большинства. Творцы втиснуты в рамки эзотеризма, а рядовые
обречены на однобокость [своего развития].
Эзотеризм – симптом неудачи в деятельности творческих
личностей. Его можно описать как чрезмерную акцентуацию подготовительного
движения в ритме ухода‑и‑возврата, в результате приводящую к неспособности
завершить процесс. Греки порицали тех, кто терпел неудачу подобным образом,
называя их словом ίδιώτης. В словоупотреблении V в. до н. э. ίδιώτης означало
высшую личность, бравшую на себя социальное право жить самому по себе и для
себя, а не ставить свои способности на службу общественного благосостояния. То,
в каком свете рассматривалось подобное поведение в перикловских Афинах, может
быть проиллюстрировано тем фактом, что в современных национальных языках слово,
происшедшее от этого греческого понятия (идиот), означает слабоумного. Но
настоящих ίδιώται современного западного общества нужно искать не в
психиатрических лечебницах. Одна их группа – homo sapiens,
адаптировавшийся и деградировавший в homo economicus, поставляет
Грэдграйндов[601] и Баундерби[602] из диккенсовской сатиры. Другая группа
полагает, что находится на противоположном полюсе и числится среди сынов света,
однако фактически она подпадает под тот же самый приговор. Это интеллектуальные
и эстетические снобы и спесивцы, которые верят в «искусство для искусства»,
Банторны из сатиры Гилберта[603]. Возможно,
разность дат между Диккенсом и Гилбертом подтверждает тот факт, что первая
группа более характерна для ранней викторианской Англии, а вторая – для
поздней. Они находятся на противоположных полюсах, но было уже замечено, что
Северный и Южный полюса нашей планеты, хотя и отдалены друг от друга, страдают
от одних и тех же климатических условий.
Остается рассмотреть то, что мы назвали однобокостью, –
результат воздействия цивилизации на разделение труда в жизни нетворческого
большинства.
Основной социальной проблемой, ожидающей творческую
личность, когда из своего «ухода» она возвращается в обновленное общество
вместе с массой своих сотоварищей, является то, как повысить средний уровень
множества обычных людей до того более высокого уровня, которого достигла сама
творческая личность. Как только творческая личность сталкивается с этой
задачей, она оказывается перед фактом, что большинство рядовых членов
неспособно жить на этом более высоком уровне от всей души и от всего сердца. В
данной ситуации ее может прельстить попытка пойти по кратчайшему пути и
обратиться к методу развития какой‑либо одной способности до высшего уровня, не
беспокоясь о развитии всей личности. Это, ex hypothesi[604],
означает насильственное направление человеческого развития по одностороннему
пути. Подобных результатов легче всего достичь в сфере механической техники,
поскольку из всех элементов культуры ее склонность к технике является наиболее
удобной для обособления и коммуникации. Нетрудно сделать умелого механика из
человека, чья душа во всех иных сферах остается примитивной и варварской. Но
другие способности могут быть специализированы и гипертрофированы таким же
точно образом. Мэтью Арнольд[605] в «Культуре и анархии» (1869) критиковал
набожный средний класс нонконформистских английских обывателей в его
«гебраизированной заводи» как раз за то, что они ограничились неверно
понимаемой ими христианской религией, одновременно пренебрегая другими – «эллинскими»
– добродетелями, которые ведут к становлению гармоничной личности.
Мы уже встречались с подобной односторонностью, когда
исследовали ответ на вызов ущемления, данный представителями ущемленных
меньшинств. Мы заметили, что тираническое лишение этих меньшинств полноправного
гражданства способствовало их процветанию и превосходству в тех видах
деятельности, которые оставались для них открытыми. Мы удивлялись и восхищались
целой галереей tours de force (рывков), в которых эти меньшинства
выступили в качестве истинного воплощения непобедимости человеческой природы. В
то же время мы не можем игнорировать тот факт, что некоторые из этих меньшинств
– левантинцы и фанариоты, армяне и евреи – имеют репутацию «не таких, как
другие люди» и на свое счастье, и на свое несчастье. В неудачных отношениях
между евреями и неевреями, которые являются классическим примером, нееврей,
чувствующий отвращение и стыдящийся поведения своего антисемитски настроенного
собрата гоя, одновременно приходит в замешательство, когда оказывается
вынужденным признать, что есть какая‑то доля правды в той карикатуре, которую
активный антисемит рисует в качестве оправдания своего собственного скотства.
Суть трагедии заключается в том факте, что ущемление, которое побуждает
ущемленное меньшинство к героическому ответу, способно деформировать и его
человеческую природу. То, что верно по отношению к этим социально ущемленным
меньшинствам, одинаково верно и по отношению к тем технологически
специализированным представителям большинства, о которых сейчас идет у нас
речь. Этот момент надо помнить, когда мы исследуем всевозрастающее
проникновение технических наук в ту сферу, которая была свободным, пусть даже и
слишком непрактичным, курсом обучения.
У греков V в. до н. э. было слово для обозначения этой
односторонности – βαναυσία[606].
Под βάναυσος[607] понималась личность, деятельность которой
специализировалась благодаря концентрации на каком‑то частном ремесле в ущерб
своему всестороннему развитию в качестве «общественного животного». Тот род
ремесла, который люди обычно имели в виду, когда употребляли данный термин, был
ручным или механическим ремеслом, используемым для личной выгоды. Но эллинское
презрение к βαναυσία заходило еще дальше и внушало эллинам презрение к
любого рода профессионализму. Спартанское сосредоточение на военной технике
воспринималось, например, как воплощенная βαναυσία. Даже великий
государственный деятель и спаситель своей страны не мог избежать упрека, если
ему недоставало всестороннего понимания искусства жизни.
«Когда во время развлечений, носящих название благородных,
светских, люди, считавшие себя воспитанными, насмехались над ним [Фемистоклом],
ему приходилось защищаться довольно грубо и говорить, что лиру настроить и играть
на псалтири он не умеет, но, если дать ему в распоряжение город безвестный,
ничем не прославившийся, то он сможет сделать его славным и великим»{112}.
Этому, возможно чересчур умеренному, примеру βαναυσία
мы можем противопоставить картину Вены в «золотой век» Гайдна, Моцарта и
Бетховена, где, как засвидетельствовано, габсбургский император и его канцлер
привыкли к тому, что в часы отдыха принимали участие в исполнении струнных
квартетов.
Эта эллинская чувствительность к опасности βαναυσία
нашла также свое выражение в институтах других обществ. Например, социальная
функция еврейской субботы (шаббат) и христианского воскресенья заключается в
том, чтобы в один из семи дней творение, связанное и ограниченное
профессиональной специализацией, благодаря которой оно зарабатывает на жизнь в
течение шести дней, вспоминало бы на седьмой своего Творца и жило жизнью,
являющейся неотъемлемой частью человеческой души. С другой стороны, неслучайно,
что в Англии организованные игры и другие виды спорта становятся все более
популярными по мере роста индустриализма. Подобный спорт – это сознательная
попытка уравновесить гибельную для души специализацию, которую влечет за собой
разделение труда при индустриализме.
К сожалению, эта попытка приспособить жизнь к индустриализму
посредством спорта частично потерпела поражение из‑за того, что дух и ритм
индустриализма захватили и заразили собою сам спорт. Сегодня в западном мире
профессиональные атлеты, более узко специализированные и более
высокооплачиваемые, чем специалисты‑техники, представляют собой чудовищные
образцы проявления βαναυσία в ее высшей точке. Автор данного
«Исследования» вспоминает два футбольных поля, которые он посетил в двух
университетских городках в Соединенных Штатах. Одно из них было освещено
прожекторами, чтобы футболисты могли работать днем и ночью в непрерывной
рабочей смене. Другое было крытым, чтобы тренировки могли продолжаться в любую
погоду. Говорили, что это самое большое крытое пространство в мире, а его
возведение обошлось в баснословную сумму. По краям этого поля были расположены
постели для уставших и травмированных игроков. На двух этих американских полях
я обнаружил, что игроки были лишь бесконечно малой частицей всей массы
студентов. Я также заметил, что эти мальчишки ожидали испытания игрой в матче с
таким же мрачным предчувствием, какое испытывали их старшие братья, когда
отправлялись в окопы в 1918 г. Поистине, этот англосаксонский футбол вовсе не
был игрой!
Соответствующий процесс можно различить и в истории
эллинского мира, где любители‑аристократы, чьи атлетические победы воспеты в
Пиндаровых «Одах», были вытеснены командами профессионалов. В то же время те
зрелища, которые в послеалександровскую эпоху ставили от Парфии до Испании Διονύσου
Tεχνϊται[608] («Компания объединенных артистов»), столь же
отличались от представлений в самом театре Диониса в Афинах, сколь мюзик‑холльное
ревю отличается от средневековой мистерии.
Неудивительно, что когда социальные извращения так упорно
противятся приспособлению, философам ничего не остается, как вынашивать
революционные планы уничтожения этих злоупотреблений. Платон, творивший в
первом поколении после надлома эллинского общества, стремится обрубить корни βαναυσία,
насаждая свою утопию в регионе, расположенном во внутренней части страны, не
благоприятствующем морской торговле и имеющем весьма небольшой стимул для любой
экономической деятельности, кроме натурального хозяйства. Томас Джефферсон[609],
основоположник американского идеализма, досадно сбившегося с пути, мечтает о
том же самом в начале XIX столетия: «Если бы я дал волю моей собственной
теории, – пишет он, – я бы желал, чтобы Штаты не занимались ни коммерцией, ни
мореплаванием, но стояли бы в отношении Европы в точности в таком же положении,
в каком Китай»{113} (который держал свои порты закрытыми для
европейской торговли до тех пор, пока британские войска не принудили силой
открыть их в 1840 г.). А Сэмюель Батлер[610] представляет, как его единицы сознательно и
систематически разрушают свои машины как единственную возможность избежать
порабощения этими машинами.
* * *
Воздействие цивилизации на мимесис
Переориентация мимесиса со старейшин на первопроходцев
является, как мы видели, изменением направления этой способности, что
сопровождается мутацией примитивного общества в цивилизацию. Целью является
поднятие нетворческой массы до того нового уровня, которого достигли
первопроходцы. Однако поскольку это обращение к мимесису является кратчайшим
путем, «дешевым заменителем» настоящей вещи, то и достижение цели, вероятно,
будет иллюзорным. Масса реально не способна войти в «общину святых». Слишком
часто естественный первобытный человек – homo integer antiquae virtutis[611] – превращается в искусственного «обывателя» – homo
vulgaris Northcliffii[612] или homo demoticus Cleonis[613].
Воздействие цивилизации на мимесис в таком случае порождает извращение
псевдоутонченной городской толпы, во многих отношениях значительно уступающей
своим первобытным предкам. Аристофан сражался с Клеоном[614] при помощи насмешки на аттической сцене,
однако за пределами сцены Клеон победил. Клеоновский «обыватель», чей выход на
сцену эллинской истории перед концом V в. до н. э. является одним из
безошибочных симптомов социального упадка, в конце концов, спас свою душу,
совершенно отвергнув культуру, которой не удалось удовлетворить его духовный
голод, потому что [в этой культуре] он смог лишь «наполнить чрево свое рожками»{114}.
Как духовно пробудившийся сын инакомыслящего пролетариата, он добился наконец
собственного спасения, открыв для себя высшую религию.
Возможно, этих примеров достаточно, чтобы проиллюстрировать
ту роль, которую сыграла в надломе цивилизаций неприменимость старых институтов
к новым социальным силам, или, выражаясь библейским языком, невозможность
вместить новое вино в старые мехи.
3. Кара Немезиды за творчество: идолизация
эфемерной личности
Смена ролей
Сейчас мы исследовали два аспекта той неудачи в
самоопределении, которой, по‑видимому, обусловлены надломы цивилизаций. Мы
рассмотрели механистичность мимесиса и неподатливость институтов. Эту часть
нашего исследования мы можем закончить рассмотрением явной кары Немезиды за
творчество.
Кажется, очень редко одно и то же меньшинство дает
творческие ответы на два или более следующих друг за другом вызова в истории
цивилизации. Действительно, партия, выделившаяся в процессе ответа на один
вызов, вероятно, потерпит явную неудачу, пытаясь ответить на следующий. Это
приводящее в замешательство, однако, по‑видимому, обычное непостоянство в
человеческих судьбах является одним из доминирующих мотивов аттической драмы и
обсуждается Аристотелем в его «Поэтике» под названием περιπέτεια[615] или «смена ролей». Это также одна из главных
тем Нового Завета.
В драме Нового Завета Христос, чье Богоявление на земле
является истинным исполнением мессианских упований еврейства, тем не менее
отвергается школой книжников и фарисеев, которые выдвинулись лишь несколько
поколений назад, возглавив героическое еврейское восстание против победоносных
успехов эллинизации. Проницательность и честность, проявленные книжниками и
фарисеями в этом предшествующем кризисе, привели их теперь к гораздо более
важному кризису, а евреи, принявшие Мессию, это «мытари и блудницы»[616]. Сам Мессия
приходит из «Галилеи языческой», а величайший из Его душеприказчиков был евреем
из Тарса[617] – языческого эллинизированного города,
располагавшегося вне традиционного горизонта Земли Обетованной. Если
рассматривать драму под несколько иным углом зрения и на более широкой сцене,
то роль фарисеев можно поручить, как это сделано в четвертом Евангелии, иудеям
в целом, а роль мытарей и блудниц – язычникам, принявшим учение святого
апостола Павла, когда оно было отвергнуто иудеями.
Тот же мотив «смены ролей» является темой множества притчей
и второстепенных эпизодов в евангельской истории. В этом суть притч о Богаче и
Лазаре, о Мытаре и Фарисее, о Добром Самарянине в противоположность Священнику
и Левиту, о Блудном Сыне в противоположность его порядочному старшему брату. Та
же самая тема появляется во встречах Иисуса с римским центурионом и сиро‑финикийской
женщиной.[618] Если мы сопоставим в одном плане Ветхий и
Новый Заветы, то обнаружим, что ветхозаветная драма Исава, продавшего право
первородства Иакову, соответствует той «смене ролей» в Новом Завете, когда потомки
Иакова утрачивают, в свою очередь, право первородства, отвергнув Христа. Данный
мотив постоянно повторяется в словах Иисуса: «Ибо, кто возвышает себя, тот
унижен будет»{115}; «Так будут последние первыми, и первые
последними»{116}; «Если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное».{117}Он применяет эту мораль к Своей
собственной миссии, цитируя стих из сто семнадцатого псалма: «Камень, который
отвергли строители, соделался главою угла».{118}
Та же самая идея пронизывает все великие произведения
эллинской литературы и кратко выражается в формуле ϋβρις – άτη[619] : «Гордыня предшествует падению». Геродот
подчеркивает этот урок в жизнеописаниях Ксеркса, Креза и Поликрата.
Действительно, в качестве предмета всей его «Истории» можно рассматривать
гордыню и падение империи Ахеменидов. Фукидид, писавший поколение спустя и в
явно более объективном и «научном» духе, изображает гораздо более впечатляюще
(поскольку отказывается от откровенной тенденциозности «отца истории») гордыню
и падение Афин. Едва ли необходимо упоминать излюбленные темы аттической
трагедии, примером которых может служить Агамемнон у Эсхила, Эдип и Аякс у
Софокла или Пенфей у Еврипида. Поэт периода упадка и разрушения
древнекитайского общества выражает ту же самую идею:
«Кто поднялся на цыпочки, не может
/долго/ стоять.
Кто делает большие шаги, не может
/долго/ идти…
Кто сам себя восхваляет, тот не
добудет славы…
Кто сам себя возвышает, не может
стать старшим среди других»{119} .
Такова кара Немезиды за творчество. И если сюжет этой
трагедии действительно обычное явление, если верно, что творческая личность,
добившаяся успеха в одной главе, обнаруживает сама свой успех несколько
ущербным, пытаясь продолжать творческую роль в следующей главе (так что шансы
всегда фактически против «фаворита» и в пользу «темной лошадки»), – то тогда
вполне очевидно, что мы отыскали здесь самую убедительную причину надломов
цивилизаций. Мы можем видеть, что эта кара Немезиды приводит к социальным надломам
двумя различными путями. С одной стороны, она уменьшает число возможных
кандидатов на роль творца перед лицом любого возможного вызова, стремясь
исключить из их числа тех, кто успешно ответил на предыдущий вызов. С другой
стороны, подобная дисквалификация тех, кто играл роль творческих личностей в
предшествующем поколении, поставит их самих перед лицом оппозиции тех, кто мог
бы дать успешный ответ на новый вызов. Эти бывшие творческие личности в силу
самого факта прежней своей творческой способности будут занимать теперь
ключевые позиции во власти и влиянии на общество, к которому они вместе с
новыми потенциальными творческими личностями принадлежат. На этих позициях они
не будут больше способствовать продвижению общества вперед. Они будут «почивать
на лаврах».
Хотя положение «почивающего на лаврах» можно описать как
пассивный способ стать жертвой кары Немезиды за творчество, безрезультатность
этой мысленной позиции свидетельствует о наличии морального промаха. Глупая
бездеятельность по отношению к настоящему проистекает из слепого увлечения
прошлым. Этим слепым увлечением является грех идолопоклонства. Идолопоклонство
можно определить как слепое в нравственном и интеллектуальном отношении
почитание твари вместо Творца. Оно может принять форму идолизации собственной
личности идолопоклонника или общества на некоей недолговечной фазе его никогда
не прекращающегося движения через вызов и ответ к следующему вызову, что и
является сутью жизни. Или же оно может принять ограниченную форму идолизации
какого‑то отдельного института или технического средства, которое некогда
оказалось полезным идолопоклоннику. Было бы полезно рассмотреть эти различные
формы идолопоклонства отдельно. Мы начнем с идолизации человеческой личности,
поскольку это наиболее яркий пример того греха, к изучению которого мы сейчас
приступаем. Если верно,
«Что люди могут подниматься по
камушкам
Своих умерших “ я” к высшим
вещам»{120},
то идолопоклонник, ошибочно принимающий одно умершее «я» не
за камушек, но за пьедестал, отвратится от жизни столь же заметно, как
фанатичный столпник, который пребывает на уединенном столпе вдали от жизни
своих собратьев.
Возможно, теперь мы достаточно подготовили почву для
нескольких исторических примеров на нашу тему.
* * *
Еврейство
Наиболее известным историческим примером подобной идолизации
эфемерной человеческой личности является заблуждение евреев, представленное в
Новом Завете. В тот период своей истории, который начался с ранней стадии
развития сирийской цивилизации и достиг своего наивысшего развития в век
пророков, народ Израиля и Иудеи поднял голову и расправил плечи среди
окружавших его сирийских народов, поднявшись до монотеистической концепции
религии. Остро осознавая и справедливо гордясь своим духовным сокровищем, евреи
позволили себе впасть в соблазн идолизации этой замечательной, но мимолетной
стадии своего духовного роста. Они действительно были одарены беспримерной
духовной проницательностью. Однако, предсказав истину, которая была абсолютной
и вечной, они позволили себе плениться относительной и временной полуправдой.
Они убедили себя в том, что открытие Израилем одного истинного Бога открыло и
то, что сам Израиль является избранным народом Божьим. Эта полуправда побудила
их впасть в фатальную ошибку, приняв временную духовную высоту, которой они
достигли потом и кровью, за привилегию, данную им Богом в бессрочное
пользование. Сидя на таланте, который они по ошибке лишили возможности
приносить плоды, зарыв его в землю[620], они отвергли
еще более великое сокровище, которое предложил им Бог в пришествии Иисуса из
Назарета.
* * *
Афины
Если Израиль пал жертвой Немезиды, обожествив себя в
качестве «народа избранного», то Афины пали жертвой той же самой кары,
обожествив себя в качестве «школы Эллады». Мы уже видели, как Афины завоевали
временное право на столь славный титул благодаря своим достижениям между веком
Солона и веком Перикла. Однако несовершенство этого достижения было или должно
было быть несомненным в силу самого того обстоятельства, благодаря которому
титул этот был присвоен Афинам их собственным блистательным сыном. Перикл
отчеканил эту фразу в погребальной речи, произнесенной, согласно Фукидиду, в
похвалу афинянам, погибшим в первый год той войны, которая была внешним видимым
признаком внутреннего духовного надлома в жизни эллинского общества в целом и в
жизни Афин в частности. Эта роковая война вспыхнула по причине того, что одна
из проблем, поставленных солоновской экономической революцией – проблема
создания эллинского политического порядка – оказалась за пределами возможностей
морального роста Афин V в. до н. э. Военное поражение Афин в 404 г. до н. э. и
более серьезное моральное поражение, которое восстановленная афинская
демократия нанесла самой себе за пять лет до этого в узаконенном убийстве
Сократа, побудили Платона в следующем поколении отвергнуть перикловские Афины и
почти все их деяния. Однако частью раздражительный, частью показной жест
Платона не впечатлил его сограждан. Эпигоны афинских первопроходцев, сделавших
Афины «школой Эллады», упорно пытались отстоять свои претензии на утраченный
титул, доказывая лишь свою неспособность к обучению. Точно так же они
продолжали проводить свою непоследовательную и безрезультатную политику в эпоху
македонского господства, вплоть до печального конца афинской истории, когда
Афины утратили свою былую известность, став провинциальным городом Римской
империи.
Впоследствии, когда новая культура начала возникать в
некогда свободных городах‑государствах эллинского мира, совсем не в Афинах семя
упало на добрую почву. Сообщение в Деяниях апостолов о встрече афинян и ап.
Павла подтверждает, что «апостол язычников» не был равнодушен к «академической»
атмосфере города, который в его время стал эллинским Оксфордом. Когда апостол
Павел обращался к «членам совета» на «Марсовом холме»[621], он сделал
все, чтобы подойти к предмету под углом, близким этой специфической публике.
Однако из повествования явствует, что его проповедь в Афинах потерпела неудачу,
и хотя впоследствии он нашел возможность отправить послания множеству церквей,
основанных им в греческих городах, он никогда, насколько мы знаем, не пытался
письменно обратиться к афинянам, которых он нашел столь невосприимчивыми для
устного слова.
* * *
Италия
Если Афины в V в. до н. э. могли объективно претендовать на
роль «школы Эллады», то современным западным миром соответствующий титул мог бы
быть справедливо присвоен городам‑государствам Северной Италии за силу их
достижений в эпоху Ренессанса. Когда мы изучаем историю западного общества на
протяжении четырех столетий, начиная со второй половины XV и заканчивая второй
половиной XIX, мы обнаруживаем, что его современная экономическая и
политическая системы, равно как эстетическая и интеллектуальная культура, имеют
отчетливо итальянское происхождение. Этот современный темп в музыкальном
концерте западной истории был задан итальянским импульсом. Этим импульсом
явилось излучение итальянской культуры предыдущего века. Фактически, данная
глава западной истории может быть удачно названа «италистической эпохой», по
аналогии с так называемой эллинистической эпохой эллинской истории, когда
афинская культура V в. до н. э. распространялась по следам армии Александра
Македонского от берегов Средиземного моря до отдаленных прибрежных границ
покоренной империи Ахеменидов[622]. Однако мы
вновь оказываемся перед тем же самым парадоксом. Точно так же, как Афины играли
в эллинистическую эпоху роль все более бесполезную, вклад Италии в общую жизнь
западного общества в Новое время явился намного скромнее, чем их последователей
по ту сторону Альп.
Сравнительная бесплодность Италии на протяжении всего Нового
времени проявилась во всех средневековых очагах итальянской культуры – во
Флоренции, Венеции, Милане, Сиене, Болонье и в Падуе. Результат этого в конце
настоящего современного периода, возможно, даже еще замечательнее. К концу
данной главы трансальпийские нации стали способны отплатить долг средневековой
Италии. Рубеж XVIII–XIX столетий явился свидетелем начала нового культурного
излучения через Альпы, на этот раз – в противоположном направлении. Этот наплыв
трансальпийских влияний в Италию явился первой причиной итальянского
Рисорджименто.
Первым серьезным политическим стимулом, полученным Италией с
другой стороны Альп, было ее временное включение в состав наполеоновской
Империи. Первым серьезным экономическим стимулом явилось возобновление
торгового пути через Средиземное море в Индию, предшествовавшее прорытию
Суэцкого канала и косвенным образом явившееся результатом наполеоновской
экспедиции в Египет. Эти трансальпийские стимулы, конечно же, не произвели
своего полного эффекта до тех пор, пока не были переданы итальянским
посредникам. Однако итальянские творческие силы, которые привели к урожаю
Рисорджименто, появились не на какой‑либо итальянской почве, уже приносившей
урожай средневековой культуры.
Например, в области экономики первым итальянским портом,
отвоевавшим для себя долю в современной морской торговле Запада, была не
Венеция, Генуя или Пиза, но Ливорно. Ливорно было постренессансным созданием
великого герцога Тосканского, который основал здесь поселение тайных иудеев‑беженцев
из Испании и Португалии. Хотя Ливорно было основано всего в нескольких милях от
Пизы, оно нажило себе состояние именно благодаря этим упорным изгнанникам с
противоположного берега Средиземного моря, а не бездеятельным потомкам
средневековых пизанских моряков.
В области политики объединение Италии явилось достижением
княжества, которое изначально было трансальпийским и до XI столетия не имело
твердой опоры на итальянской стороне Альп кроме франкоязычной Балле д'Аосты.
Центр тяжести владений Савойского дома[623] не оказывался окончательно на итальянской
стороне Альп, пока последовательно не ушли в прошлое свобода итальянских
городов‑государств и гений итальянского Ренессанса. Ни один из итальянских
городов, имевших первоочередное значение в ту великую эпоху, не входил во
владения короля Сардинии (как теперь титуловался правитель владений Савойского
дома) до тех пор, пока после завершения наполеоновских войн им не была
приобретена Генуя. Этос савояров был в то же время еще столь чужд традиции
городов‑государств, что генуэзцы раздражались правлением его сардинского
величества вплоть до 1848 г., когда династия завоевала себе сторонников во всех
частях Итальянского полуострова, возглавив националистическое движение.
В 1848 г. австрийское правление в Ломбардии и Венеции
одновременно было поставлено под удар вторжением пьемонтцев и восстаниями в
Венеции, Милане и других итальянских городах, бывших австрийскими провинциями.
Но было бы небезынтересно подвергнуть сомнению различие в исторической важности
двух этих антиавстрийских движений, которые происходили в одно и то же время и
официально изображались как удары, нанесенные для общего дела освобождения
Италии. Восстания в Венеции и Милане, несомненно, носили освободительный
характер. Однако то понимание свободы, которое их вдохновляло, было воспоминанием
о средневековом прошлом. По сути, эти города продолжали свои средневековые
битвы с Гогенштауффенами. По сравнению с их неудачами, хотя, несомненно, и
героическими, военные действия пьемонтцев в войне 1848‑1849 гг. далеко не
заслуживают похвалы. Наказанием за безответственное нарушение перемирия явилось
позорное поражение при Новаре[624]. Однако этот
пьемонтский позор оказался для Италии более плодотворным, нежели славное
поражение Венеции и Милана. Пьемонтская армия (при весьма значительной
французской поддержке) сумела взять реванш у Мадженты[625] через десять лет, а новоиспеченная, созданная
на английский манер парламентская конституция, дарованная королем Карлом
Альбертом[626] в 1848 г., в 1860 г. стала конституцией
объединенной Италии. С другой стороны, славные подвиги, совершенные Миланом и
Венецией в 1848 г., более не повторялись. Впоследствии два этих древних города
оставались пассивными под усилившимся австрийским ярмом и смогли обеспечить
свое окончательное освобождение лишь при помощи пьемонтского оружия и
дипломатии.
Объяснить этот контраст, по‑видимому, можно тем, что подвиги
венецианцев и миланцев в 1848 г. заранее были обречены на неудачу, поскольку
духовной силой, стоявшей за ними, был не современный национализм, но идолизация
своего собственного умершего «я», то есть средневекового города‑государства.
Венецианцы XIX столетия, ответившие на призыв Манина[627] в 1848 г., боролись не просто за Венецию. Они
сражались за восстановление обветшалой Венецианской республики, а не за
создание единой Италии. С другой стороны, пьемонтцы не прельстились идолизацией
обветшалой эфемерной личности, поскольку их прошлое не дало такой личности,
которая могла бы стать предметом поклонения.
Это различие можно обобщить в противоположности между
Манином и Кавуром[628]. Манин был
несомненным венецианцем, который бы чувствовал себя вполне как дома в XIV
столетии. Кавур, который со своим родным французским языком и викторианским
мировоззрением оказался бы совершенно не в своей стихии в итальянском городе‑государстве
XIV столетия (так же как и его трансальпийские современники Пиль и Тьер), в то
же время смог бы с равным успехом использовать свои дарования в парламентской
политике и дипломатии и свой интерес к агрономии и строительству железных
дорог, если бы судьба распорядилась сделать его не итальянцем, а английским или
французским землевладельцем XIX столетия.
В этой связи роль восстания 1848‑1849 гг. в итальянском Рисорджименто,
по сути, была отрицательной. Его неудача явилась дорогостоящей, но, на самом
деле, необходимой подготовкой к успехам 1859‑1870 гг. В 1848 г. старые идолы
средневекового Милана и Венеции до такой степени обветшали и стерлись, что
теперь они, наконец‑то, утратили свою роковую власть над душами своих
почитателей. Это запоздалое вычеркивание прошлого очистило почву для
творческого лидерства одного итальянского государства, которому не
препятствовали какие‑либо средневековые воспоминания.
* * *
Южная Каролина
Если мы распространим наше исследование со Старого Света на
Новый, то обнаружим аналогичный пример кары Немезиды за творчество в истории
Соединенных Штатов. Проведя сравнительное исследование послевоенной истории
нескольких штатов «старого Юга» – тех, которые были членами Конфедерации[629] в Гражданской войне 1861‑1865 гг., и тех,
которые вызвали поражение Конфедерации, мы заметим между ними явное различие в
той степени, в какой они оправились от этого общего несчастья. Мы заметим
также, что данное различие прямо противоположно столь же явному различию,
которое существовало между этими штатами в период до Гражданской войны.
Иностранный наблюдатель, посетивший «старый Юг» в 50‑х гг.
XX столетия, несомненно, выбрал бы Виргинию и Южную Каролину в качестве двух
штатов, где можно было бы найти наименьшие признаки или же намеки на
восстановление. И был бы поражен, обнаружив последствия до такой степени
значительной социальной катастрофы, что они сохраняются во всей своей полноте
на протяжении столь долгого периода. В двух этих штатах память о катастрофе до
сих пор еще столь свежа, как будто удар был нанесен только вчера. На устах
многих жителей Виргинии и Южной Каролины слово «война» означает Гражданскую
войну, хотя за ней последовали две ужасные мировые войны. Фактически, Виргиния
или Южная Каролина XX столетия производит болезненное впечатление зачарованной
страны, в которой время остановилось. Это впечатление усилится по контрасту со
штатом, находящимся между ними. В Северной Каролине вы обнаружите современную
промышленность, выросшие, словно грибы, университеты и деловой, «рекламный»
дух, который обычно ассоциируется с «янки» Севера. Вы откроете для себя также,
что Северная Каролина произвела на свет таких великих личностей XX столетия,
как Вудро Вильсон[630] и Уолтер Пейдж[631].
Чем объяснить весенний расцвет жизни в Северной Каролине по
сравнению с жизнью их соседей, которая явно увядает в состоянии нескончаемой
«зимы» их «недовольства»? Если мы обратимся за разъяснением к прошлому, то наше
сомнение на мгновение усилится, когда мы увидим, что вплоть до Гражданской
войны Северная Каролина в социальном отношении была бесплодна, тогда как
Виргиния и Южная Каролина переживали периоды необыкновенной жизненности. В
течение первых сорока лет истории Американского Союза Виргиния, вне всякого
сомнения, была ведущим штатом, породив четырех из первых пяти президентов, а
также Джона Маршалла[632], который
более, чем какой‑либо другой человек, приспособил «бумажные» двусмысленности,
созданные Филадельфийской конвенцией, к реалиям американской жизни. И если
после 1825 г. Виргиния стала отставать, то Южная Каролина под руководством
Кэлхуна[633] повела южные штаты по пути, на котором они
потерпели крушение в Гражданской войне. В течение всего этого времени о
Северной Каролине редко было слышно. Почва ее была бедна, и она не имела
портов. Ее обнищавшие мелкие фермеры, которые в основном происходили от
иммигрантов‑скваттеров и которым не удалось сделать карьеру ни в Виргинии, ни в
Южной Каролине, не шли ни в какое сравнение ни с виргинскими сквайрами, ни с
хлопковыми плантаторами из Южной Каролины.
Эта прежняя несостоятельность Северной Каролины в сравнении
как с одними, так и с другими соседями легко объяснима. Однако как объяснить ее
последующий успех и последующую неудачу ее соседей? Объяснение заключается в
том, что Северная Каролина, так же как и Пьемонт, не превращала в идола славное
некогда прошлое. Она потеряла сравнительно мало от поражения в Гражданской
войне, поскольку сравнительно мало имела, и, упав с меньшей высоты, она гораздо
легче оправилась от удара.
* * *
Старые проблемы в новом свете
Эти примеры кары Немезиды за творчество проливают новый свет
на явление, которое привлекло наше внимание в первой части данного
«Исследования» и которое мы назвали «стимулом новой земли». Данное явление
заявляет о себе вновь в вышеупомянутых примерах: галилеяне и язычники в
сравнении с иудеями, Пьемонт в сравнении с Миланом и Венецией, Северная
Каролина в сравнении со своими соседями с севера и юга. Если мы продолжим
аналогичное исследование в случае с Афинами, то сможем показать, что именно в
Ахайе[634], а не в
Аттике греки III–II вв. до н. э. ближе всего подошли к решению трудноразрешимой
проблемы объединения городов‑государств. Здесь ими была предпринята безуспешная
попытка отстоять свою независимость перед лицом гигантских выскочек – великих
держав, возникших на окраинах распространившегося эллинского мира. Теперь мы
можем увидеть, что большая плодовитость новой земли не всегда и не всецело
может быть объяснена из стимула сурового испытания, связанного с поднятием
целины. Существует отрицательная, так же как и положительная, причина, по
которой новая земля способна стать плодоносной, а именно свобода от демона
неискоренимых и более уже не выгодных традиций и воспоминаний.
Мы можем также увидеть причину еще одного социального
явления – тенденции творческого меньшинства к вырождению в меньшинство
правящее. Ранее в данном «Исследовании» мы выделили эту тенденцию в качестве
явного симптома социального надлома и распада. Несмотря на то, что творческому
меньшинству, конечно же, не предопределено с неизбежностью претерпеть эту
перемену к худшему, творческая личность решительно предрасположена к этому пути
ex officio creativitatis[635].
Творческая способность, которая, будучи первоначально приведена в действие,
порождает успешный ответ на вызов, становится, в свою очередь, новым и
однозначно ужасающим вызовом для того, кто, получив этот талант, оборачивает
его в свою пользу.
4. Кара Немезиды за творчество: идолизация
эфемерного института
Эллинский город‑государство
Исследуя ту роль, которую сыграла в надломе и распаде
эллинского общества идолизация данного института, – имевшего столь блестящий
успех в пределах собственных границ, однако в то же самое время, подобно всем
человеческим созданиям, столь же эфемерного, – мы должны будем различать две
разные ситуации, в которых идол предстает в качестве камня преткновения на пути
решения социальной проблемы.
Более ранней и более серьезной из двух проблем является та,
которую мы уже рассматривали в другом контексте и, следовательно, теперь можем
рассмотреть лишь вкратце. То, что мы назвали солоновской экономической
революцией, нуждалось (как в одном из своих естественных следствий) в некоего
рода политическом объединении эллинского мира. Афинская попытка достичь этого
объединения закончилась неудачей и привела к тому, что мы диагностировали как
надлом эллинского общества. Очевидно, что причина этой неудачи заключалась в
неспособности всех заинтересованных сторон разделаться с камнем преткновения,
каковым являлся полисный суверенитет. Однако пока эта неизбежная и главная
проблема оставалась нерешенной, побочная проблема в виде собственной попытки
эллинского правящего меньшинства последовала непосредственно за ней, когда
эллинская история переходила от своей второй главы к третьей на рубеже IV и III
вв. до н. э.
Главным внешним признаком этого перехода явился неожиданный
рост физических масштабов эллинского общества. Мир, до сих пор являвшийся
приморским, ограничивавшийся бассейном Средиземного моря, распространил свои
пределы на суше от Дарданелл до Индии и от Олимпа и Апеннин до Дуная и Рейна. В
обществе, раздувшемся до таких огромных размеров и не сумевшем решить духовную
проблему создания правопорядка для государств, на которые оно было разделено,
независимый полис оставлял впечатление столь ничтожное, что более не являлся
реальной единицей политической жизни. Само по себе это никоим образом не было
несчастьем. В самом деле, смерть этой традиционной эллинской формы
местнического суверенитета можно было бы принять за ниспосланную небом
возможность полностью избавиться от демона местнического суверенитета. Если бы
Александр дожил до того времени, когда он мог бы вступить в союз с Зеноном и
Эпикуром, то вполне возможно, что эллины последовали бы от города‑государства
прямо к Космополису. В этом случае эллинское общество могло бы получить
творческую жизнь на новый срок. Но преждевременная смерть Александра оставила
мир во власти его преемников, и равномерно сбалансированная конкуренция
борющихся между собой македонских военачальников поддерживала институт
местнического суверенитета уже в новую эпоху, открытую Александром.
Однако в новых физических масштабах эллинского общества
местнический суверенитет мог быть спасен только при одном условии. Независимый полис
должен был уступить место новым государствам большего масштаба.
Эти новые государства успешно развивались, однако в
результате ряда сокрушительных ударов, которые между 220 и 168 гг. до н. э. Рим
нанес всем своим конкурентам, число этих государств резко сократилось от
нескольких до одного. Эллинское общество, упустившее возможность добровольного
объединения, оказалось зажатым в границах универсального государства. Однако
интерес для поставленной перед нами теперь задачи представляет тот факт, что как
римский ответ на вызов, уничтоживший перикловские Афины, так и все прежние
попытки других сторон ответить на этот вызов явились созданием тех членов
эллинского общества, которые не питали безрассудную страсть к идолу полисного
суверенитета.
Структурный принцип римского государства был чем‑то
совершенно несовместимым с подобной идолизацией. Этим структурным принципом
было «двойное гражданство», делившее преданность гражданина между местным
городом‑государством, в котором он родился, и более широким государственным
устройством, которое создал Рим. Этот творческий компромисс стал психологически
возможным только в тех общинах, где идолизация полиса не схватила мертвой
хваткой сердца и умы граждан.
Сходство между проблемой местного суверенитета в эллинском
мире и соответствующей проблемой в нашем сегодняшнем мире здесь акцентировать
не стоит. Однако об этом многое можно было бы сказать. Исходя из данных
эллинской истории, мы можем ожидать, что проблема сегодняшнего западного
общества будет решена (в той степени, в какой она вообще разрешима) в той части
света (или частях), где институт национального суверенитета не превратился в
предмет идолопоклоннического культа. Мы не будем ожидать, что спасение придет
из исторических национальных государств Западной Европы, где всякая
политическая мысль и чувство связаны с местническим суверенитетом, являющимся
общепризнанным символом славного прошлого. Совсем не в этом эпиметеевском[636] психологическом окружении наше общество может
ожидать необходимого открытия некоей новой формы международного союза, которая
бы подчинила местнический суверенитет дисциплине высшего закона и тем самым
воспрепятствовала бы неизбежному в противном случае уничтожению его в
результате сокрушительного удара. Если это открытие когда‑нибудь произойдет, то
лабораторией политического эксперимента, где мы сможем увидеть его
осуществление, станет некое политическое образование наподобие Британского
Содружества Наций, сочетающего в себе опыт одного старинного европейского
национального государства с пластичностью множества новых заморских стран. Или
же им будет государство наподобие Советского Союза, пытающегося организовать
множество неевропейских народов в совершенно новый вид общества, основанный на
западной революционной идее. В Советском Союзе мы можем найти сходство с
империей Селевкидов, а в Британской империи – с Римским государством.
Произведут ли, в конце концов, эти или подобные им политические образования на
окраинах современного западного космоса некую новую форму политической
структуры, которая, пока это еще не поздно, придала бы нам большей твердости для
той международной организации, которую мы только что начали возводить вторично
на месте нашего первого междувоенного эскиза в виде Лиги наций? Мы не можем
сказать. Но мы можем быть почти уверены, что если эти первопроходцы потерпят
неудачу, данная работа никогда не будет выполнена окаменевшими приверженцами
идола национального суверенитета.
* * *
Восточная Римская империя
Классическим примером бедствий, вызванных идолизацией
института, является фатальное увлечение православного христианства призраком Римской
империи – древнего института, выполнившего свою историческую миссию и
закончившего свой естественный срок жизни в качестве универсального государства
отеческого эллинского общества.
На поверхностный взгляд Восточная Римская империя являет
собой видимость неразрывного целого, одного и того же института – от основания
Константинополя Константином до завоевания императорского города турками‑османами
в 1453 г. (более чем одиннадцать веков спустя) или, по меньшей мере, до
временного изгнания императоров Восточной Римской империи латинскими
крестоносцами, захватившими Константинополь в 1204 г. Однако было бы правильнее
отличать два различных института, отделенных друг от друга во времени
промежутком междуцарствия. Первоначальная Римская империя, сыгравшая роль
эллинского универсального государства, несомненно, прекратила свое
существование на Западе в период «темных веков». Фактически – на рубеже IV‑V
вв., а официально – в 476 г., когда последний марионеточный император в Италии
был смещен варварским военачальником, который с этого времени осуществлял
правление от имени константинопольского императора[637]. Быть может,
будет не столь легко признать, что та же судьба постигла первоначальную Римскую
империю и на Востоке еще до окончания «темных веков». За дату ее падения можно
принять окончание напряженного и злополучного царствования императора Юстиниана
в 565 г. На Востоке за этим последовало полтора столетия междуцарствия, что не
означает фактического отсутствия личностей, титуловавшихся римскими
императорами и управлявших (или пытавшихся управлять) из Константинополя в
течение этого периода. Однако это был период распада и инкубации, во время
которого были сметены остатки умершего общества и заложены основания
государства‑преемника. Тем не менее после этого в первой половине VIII столетия
призрак умершей Римской империи был вызван вновь гением императора Льва
Сириянина. По прочтении первой главы православно‑христианской истории можно
сказать, что Льву Сириянину, к сожалению, удалось то, что не удалось Карлу
Великому. Или наоборот – можно сказать, что Карлу Великому, к счастью, не
удалось то, что удалось Льву Сириянину. Неудача Карла Великого дала западно‑христианской
Церкви и плеяде местных государств Запада возможность для развития на протяжении
Средних веков во всех известных нам отношениях. Успех императора Льва надел
смирительную рубашку воскрешенного универсального государства на тело
православного христианства еще до того, как это общество, находившееся на
младенческой стадии, научилось пользоваться своими конечностями. Однако эта
противоположность результатов не является отражением какого‑либо различия в
целях, ибо и Карл Великий, и Лев были эпиметеевскими поклонниками одного и того
же эфемерного и ветхого института.
Как мы можем объяснить роковым образом рано развившееся
превосходство православного христианства над Западом в области политического
созидания? Несомненно, одним из важнейших факторов явилась разница в степени
того давления, которое одновременно оказывала на оба эти христианских мира
агрессия арабов‑мусульман. В нападении на отдаленный Запад арабы попытались
вернуть сирийскому обществу его утраченные колониальные владения в Северной
Африке и Испании. К тому времени, когда они перешли через Пиренеи и нанесли
удар прямо в сердце зарождающемуся западному обществу, их наступательные силы
были уже истощены. Когда бешеная гонка по южному и западному краю
Средиземноморья вынесла их внезапно к Туру прямо на стену австразийских щитов,
то их удар отскочил от твердой мишени, не причинив никакого вреда. Однако даже
этой пассивной победы над утомленным противником было достаточно для удачи
Австразийской династии. Именно благодаря авторитету, завоеванному при Туре в
732 г., Австразия выделилась в качестве лидера среди находившихся еще в зачаточном
состоянии держав западно‑христианского мира. Если этот относительно слабый удар
арабского булата был способен вызвать неудачу Каролингов, то неудивительно, что
в православно‑христианском мире должна была быть создана мощная структура
Восточной Римской империи, которая бы могла противостоять гораздо более
жестокому и гораздо более продолжительному нападению со стороны того же самого
противника, воздействию которого подверглось и православное христианство.
По этой причине, а также по другим[638] Лев Сириянин и его преемники преуспели в достижении
своей цели, которая на Западе никогда не была достигнута ни Карлом Великим, ни
Оттоном I[639], ни Генрихом
III[640] даже с папского согласия, а тем более
императорами позднейшего периода, столкнувшимися с папской оппозицией.
Восточные императоры в собственных своих владениях превратили Церковь в
министерство, а Вселенского патриарха – в своего рода помощника министра по
церковным делам, тем самым восстановив те взаимоотношения между Церковью и
государством, которые были установлены Константином и поддерживались его
преемниками вплоть до Юстиниана. Результат этого достижения обнаружился в двух
направлениях – в общем и частном.
Общим результатом явились остановка и выхолащивание
стремления к разнообразию и эластичности, экспериментированию и творчеству в
жизни православного христианства. Мы можем приблизительно измерить нанесенный
ущерб, указав на некоторые из выдающихся достижений сестринской цивилизации на
Западе, которые не имеют аналогов в православном христианстве. В истории
православного христианства мы не только не найдем ничего, что соответствовало
бы папской власти Гильдебранда[641]. Мы не
заметим также и возникновения, и распространения самоуправляющихся
университетов и городов‑государств.
Частным результатом было упорное нежелание перевоплощенной
императорской власти терпимо относиться к независимым «варварским» государствам
в пределах той области, на которую распространялась представляемая ими
цивилизация. Эта политическая нетерпимость привела к войнам X столетия между
Византией и Болгарией. В ходе этих войн Восточной Римской империи, хотя
формально и оказавшейся победительницей, была нанесена смертельная рана. Как мы
уже указывали в другом месте, эти войны послужили причиной надлома православно‑христианского
общества.
* * *
Короли, парламенты и бюрократия
Государства того или иного вида, города‑государства или
Империи – далеко не единственные разновидности политического института,
ставшего предметом идолопоклоннического культа. Подобные же почести воздавались
с подобными же последствиями и верховной власти в государстве – «божественному»
королю или «всемогущему» парламенту, а также какой‑либо касте, классу или
представителям какой‑либо профессии, от умения или героизма которых, как считали,
зависело само существование государства.
Классический пример идолизации политической верховной
власти, воплощенной в человеке, был дан египетским обществом эпохи Древнего
царства. Мы уже отмечали в иной связи, что принятие на себя или требование
божественных почестей владыками объединенного Египетского царства было одним из
симптомов «великого отказа» от призыва к более высокой миссии. Именно эта
роковая неспособность ответить на второй вызов в египетской истории привела
египетскую цивилизацию к тому раннему надлому, который оборвал ее раннюю
юность. Сокрушительный демон, навязанный этим рядом человеческих идолов
египетскому обществу, получил свое совершенное символическое выражение в
пирамидах, которые были возведены при помощи принудительного труда подданных,
для того чтобы чудесным образом обессмертить «строителей пирамид». Мастерство,
капитал и труд, которые следовало бы отдать на расширение контроля над
природным окружением в интересах всего общества, были направлены в неверное
русло подобного идолопоклонства.
Эта идолизация политической власти, воплощенной в человеке,
является аберрацией того, что можно пояснить также и на другом примере. Если мы
обратимся за аналогией к современной западной истории, то без труда распознаем
вульгарный вариант царственного «сына Ра» во французском roi soleil[642] – Людовике XIV. Дворец этого западного «короля‑солнца»
в Версале лег таким же тяжелым бременем на землю Франции, каким пирамиды в Гизе
– на землю Египта. «L’État, с'est moi»[643] вполне мог сказать Хеопс, a «après nous le
déluge»[644] – Пепи II. Однако, возможно, наиболее
интересным примером идолизации верховной власти, предоставляемым современным
западным миром, является тот, о котором история еще не может вынести своего
приговора.
В апофеозе «матери парламентов» в Вестминстере[645] объектом идолизации является уже не человек, а
комитет. Неискоренимое однообразие комитетов соединилось с упорной
прозаичностью современной английской социальной традиции, чтобы удержать эту
идолизацию парламента в благоразумных границах. Англичанин, увидевший мир в
1938 г., мог бы утверждать, что его временная преданность своему собственному
политическому божеству получила прекрасное вознаграждение. Разве не находилась
страна, сохранившая верность «матери парламентов», в более счастливом
положении, нежели ее соседи, которые, распутничая, последовали за другими
богами? Обрели ли отпавшие «десять колен» Континента[646] покой или процветание в своем лихорадочном
низкопоклонстве иноземным дуче, фюрерам и комиссарам? Однако в то же время он
признал бы, что современное континентальное детище старинного островного
института парламентского правления оказалось болезненным. В политическом плане
оно не смогло принести спасение небританскому большинству рода человеческого и
было неспособно противостоять чуме диктатур, ставших источником войн.
Возможно, истина заключается в том, что сами черты
Вестминстерского парламента, которые составляют секрет его влияния на уважение
и любовь англичан, являются камнями преткновения на пути превращения этого
почтенного английского института в политическую панацею для всего мира.
Возможно, в соответствии с уже упоминавшимся нами законом (тот, кто отвечает
успешно на один вызов, оказывается в неблагоприятном положении для успешного
ответа на следующий) уникальный успех Вестминстерского парламента на протяжении
Средних веков, из‑за его приспособления к крайностям «нового» (или некогда
нового) времени ныне уже закончившийся, делает его менее подходящим для
достижения другой творческой метаморфозы и принятия вызова постмодернистской
эпохи, в которую мы сегодня живем.
Если мы взглянем на структуру парламента, то обнаружим, что
по сути своей он является собранием представителей местных избирателей. Именно
поэтому мы должны принимать в расчет время и место его происхождения. Каждое из
королевств средневекового западного мира представляло собой скопление
деревенских общин, перемежающихся с небольшими городами. При подобном
государственном устройстве существенным фактором группирования в социальных и
экономических целях являлось соседство. В обществе, устроенном таким образом,
географическая группа была также и естественной единицей политической
организации. Однако эти средневековые основания парламентского представительства
были подорваны воздействием индустриализма. Сегодня местные связи утратили свое
значение для политической, равно как и для большинства других целей. Английский
избиратель нашего времени, если мы спросим его, кто его сосед, вероятно,
ответит: «Мой напарник‑железнодорожник или мой напарник‑шахтер, где бы он ни
жил – от севера до юга Англии». Подлинные избиратели утратили свой местный
характер и приобрели профессиональный. Однако профессиональная основа
представительства – это такая terra incognita[647],
которую «мать парламентов» в ее почтенном преклонном возрасте не собирается
исследовать.
На все это английский поклонник парламента, несомненно,
может справедливо ответить аргументом solvitur ambulando[648].
Теоретически он может признать, что система представительства XIII столетия
непригодна для общества XX столетия. Однако он укажет, что теоретически
непригодное, по‑видимому, работает довольно хорошо. «Мы, англичане, – объяснит
он, – настолько совершенно знаем институты, которые создали, что в нашей стране
и среди своих мы можем заставить их работать при любых условиях. А вот эти
иностранцы, конечно же…» – и он лишь пожмет плечами.
Быть может, его уверенность в собственном политическом
наследстве будет и далее оправдывать себя, к изумлению «меньших племен вне
закона», которые некогда столь нетерпеливо поглотили то, что посчитали за
политическую панацею, а затем безжалостно ее извергли после того, как испытали
сильное несварение желудка. Однако, кроме того, кажется вполне вероятным, что
Англия не перещеголяет свой подвиг XVII столетия, во второй раз явившись
создательницей тех новых политических институтов, которых требует новая эпоха.
Когда нужно найти что‑то новое, для этого есть только два пути, а именно
творчество и мимесис. Мимесис не может быть приведен в действие до тех пор,
пока некто не совершит творческого акта, которому бы могли подражать его
собратья. Кто же будет новым политическим творцом в четвертой главе западной
истории, открытой в наше время? Мы не можем различить в настоящее время
признаков в пользу какого‑либо отдельного кандидата на это место. Но мы можем
предсказать с некоторой долей уверенности, что новым политическим творцом не
будет ни один из поклонников «матери парламентов».
Мы можем завершить это обозрение институциональных идолов,
бегло просмотрев идолопоклоннические культы каст, классов и профессий. Здесь мы
тоже уже кое с чем сталкивались. Исследуя задержанные цивилизации, мы
встречались с двумя обществами данного вида – спартанцами и османами. В этих
обществах краеугольным камнем была каста, которая фактически представляла собой
корпоративного идола или обожествленного Левиафана. Если отклонение,
выражающееся в идолизации касты, способно задержать рост цивилизации, то оно
способно также и вызвать ее надлом. Если мы пересмотрим надлом египетского
общества с этой точки зрения, то поймем, что «божественная» власть фараона была
не единственным идолизированным инкубом, который лег тяжелым грузом на спины
египетского крестьянства эпохи Древнего царства. Крестьянам пришлось также
нести на себе бремя бюрократии писцов.
Дело в том, что обожествленная власть фараона предполагает
секретариат. Без подобной поддержки она вряд ли смогла бы сохранять свою
величественную позу на пьедестале. Таким образом, египетские писцы были силой,
стоявшей за троном, а в некоторые моменты – даже перед ним. Они были необходимы
и знали это. Они пользовались преимуществом этого знания «нагружать грузами
тяжелыми и мучительными для ноши и взваливать их на плечи людей», хотя
египетские писцы сами не смогли бы сдвинуть эти самые грузы «ни одним из своих
пальцев». Привилегированное освобождение писцов из общего числа трудящихся является
предметом прославления египетской бюрократией своей собственной группы во все
эпохи египетской истории. Это впечатление явно возникает от «Поучения Дуафа»[649] – произведения, сочиненного во время
египетского «смутного времени» и дошедшего до наших дней в копиях, сделанных
тысячелетие спустя в качестве письменного упражнения школьниками времен Нового
царства. В этом «поучении, сделанном [человеком] по имени Хети, сыном Дуафа,
своему сыну Пепи, когда он плыл на юг в столицу, чтобы отдать его [сына] в
“школу письма” среди детей вельмож», суть прощального назидания амбициозного
отца своему честолюбивому сыну заключается в следующем:
«Я видел битых, битых непрерывно: непрерывно беспокойся о
письме. Я смотрел на освобожденного от [тяжелых] работ: смотри, нет [ничего]
выше письма… Любой ремесленник, режущий по меди, устает больше, чем земледелец…
Резчик по ценному камню ищет работу по всякому твердому камню. Сделал он
готовыми вещи, и руки его парализованы, и он устал… Одежда землепашца вечна…
Устает он… болен он… Когда он возвращается домой… он доходит до дома вечером, а
его тащат идти [снова]. Ткач находится в помещении. Ему хуже, чем женщине. Ноги
его [подогнуты] к… сердцу. Не дышит он [свежим] воздухом… Скажу я тебе и о
рыбаке. Это хуже всякой другой профессии. Когда бы он ни работал на реке – он
рядом с крокодилами. Смотри, нет профессии без руководителя, кроме [профессии]
писца, ибо он [сам] руководитель…».
В дальневосточном мире близкий аналог египетской
«литературократии» представлен в инкубе мандарина[650],
унаследованном дальневосточным обществом от последнего периода предшествующего
общества. Конфуцианский книжник привык выставлять напоказ свой бессердечный
отказ и пальцем пошевельнуть ради облегчения бремени миллионов трудящихся,
отращивая ногти до такого размера, который препятствовал любому использованию
руки, кроме как для манипуляции кистью для письма. На протяжении всех перемен и
случайностей дальневосточной истории он соревновался со своим египетским
собратом в упорстве сохранить эту деспотическую должность. Даже воздействие
западной культуры не лишило его этой должности. Хотя теперь больше нет
экзаменов по конфуцианской классике, книжник обманывает крестьянина эффективно,
как никогда, размахивая перед его лицом дипломом Чикагского университета или
Лондонской школы экономических и политических наук.
В ходе египетской истории то облегчение, которого добился
(хотя и слишком поздно) многострадальный народ благодаря постепенной
гуманизации верховной власти, было компенсировано последующим увеличением
класса инкубов. Будто бремени бюрократии было недостаточно. На народ взвалили в
эпоху Нового царства еще и бремя жречества, организованного в мощную
всеегипетскую корпорацию под руководством верховного жреца Амона‑Ра в Фивах
фараоном Тутмосом III (около 1480‑1450 гг. до н. э.)[651]. С этого
времени египетский мандарин приобрел себе напарника по седлу в лице египетского
брахмана. После этого египетская цирковая лошадь со сломанной спиной вынуждена
была ковылять по своему непрекращающемуся кругу, пока пара всадников не
превратилась в трио и позади писца и фарисея не уселся в седло еще и miles
gloriosus[652].
Египетское общество на протяжении естественного срока своей жизни было столь же
свободно от милитаризма, сколь и православно‑христианское общество в течение
периода своего роста. Столкновение с гиксосами побудило его к милитаристским
действиям (так же как Восточную Римскую империю – столкновение с Болгарией). Не
удовольствовавшись изгнанием гиксосов за пределы египетского мира, фараоны
XVIII династии поддались искушению перейти от самообороны к нападению, создав в
результате упорной борьбы египетскую Империю в Азии. В эту безответственную
авантюру легче было ввязаться, нежели выйти из нее. Когда события обратились
против них, фараоны XIX династии оказались вынужденными мобилизовать быстро
истощавшиеся силы египетской социальной системы, чтобы сохранить целостность
самого Египта. При XX династии состарившуюся и причинявшую раздражение систему
разбил паралич. Это явилось ценой за ее последний tour de force (рывок)
– попытку сбросить с себя объединенные толпы европейских, африканских и
азиатских варваров, обрушившихся на нее под воздействием постминойского
Völkerwanderung'a. Когда упавшее тело наконец уже лежало простертым на земле, к
туземным писцу и жрецу, которые остались твердо сидеть в седле, не сломав при
падении костей, присоединился еще и внук ливийского завоевателя, забредший в
качестве «солдата удачи» в египетский мир, от границ которого его дед был
отброшен в результате последнего подвига местных египетских войск. Военная
каста, порожденная этими ливийскими наемниками XI в. до н. э., продолжавшими
сидеть на спине египетского общества еще тысячелетие, быть может, была менее
страшна для своих противников на поле боя, чем янычары или спартиаты. Однако,
без всякого сомнения, у себя на родине она была столь же обременительна для
подвластного крестьянства.
5. Кара Немезиды за творчество: идолизация
эфемерного технического средства
Рыбы, пресмыкающиеся и млекопитающие
Если обратиться теперь к рассмотрению идолизации технических
средств, то мы можем начать с тех примеров, которые уже привлекали наше
внимание и за которые последовало крайне жестокое наказание. В оттоманской и
спартанской социальных системах главная техника пастухов человеческого стада
или охотников за человеческой дичью подверглась идолизации наряду с теми
институтами, через которые эта деятельность проводилась. Когда мы переходим от
задержанных цивилизаций, порожденных человеческими вызовами, к задержанным
цивилизациям, порожденным вызовами природы, то мы обнаруживаем, что
идолопоклоннический культ техники заключает в себе всю их трагедию. Кочевники и
эскимосы остановились в своем развитии по причине чрезмерной концентрации своих
способностей на техниках пастушества и охоты. Одноколейное развитие их образа
жизни приговорило их к регрессу в сторону анимализма, который является
отрицанием человеческой разносторонности. Если мы заглянем сейчас назад в главы
истории жизни на планете, предшествовавшие появлению человека, то столкнемся с
иными примерами того же самого закона.
Современный западный ученый, который провел сравнительное
исследование действия этого закона в нечеловеческой и человеческой средах,
формулирует его в следующих выражениях:
«Жизнь начинается в море. Там она достигает чрезвычайной
эффективности. Рыбы дают начало тем типам, которые столь удачны, что продолжают
существовать в неизменном виде вплоть до наших дней (такие, например, как
акулы). Восходящая линия эволюции, тем не менее, лежит не в этом направлении. В
эволюции, вероятно, всегда справедлив афоризм доктора Индже: “Ничто так не
вредит, как успех”. У существа, в совершенстве приспособившегося к окружающей
среде, животного, все способности и жизненная энергия которого сконцентрированы
и затрачиваются на то, чтобы преуспеть здесь и теперь, ничего не остается для
ответа на любое радикальное изменение. Эпоха за эпохой оно становится все более
экономичным в том способе, каким все его ресурсы действуют точно в соответствии
с его текущими, привычными возможностями. Наконец, оно может достичь всего, что
необходимо ему для выживания, без какой‑либо сознательной силы или же не
связанного с приспособлением движения. Поэтому в своей особой сфере оно может
победить всех конкурентов. Но, с другой стороны, равным образом может произойти
и так, что если данная сфера изменится, то существо неизбежно вымрет. Именно
подобной успешной эффективностью, по‑видимому, объясняется вымирание огромного
количества видов. Климатические условия переменились. [Виды] использовали все
ресурсы жизненной энергии, чтобы сделать из себя то, чем они являлись. Как у
неразумных дев, у них не оказалось масла, чтобы отложить его для дальнейшего
приспособления. Они были связаны, не смогли измениться и, таким образом,
исчезли»{121}.
Этот оказавшийся роковым образом полным технический успех
рыб в приспособлении к природной среде жизни, который имел место в морской
увертюре к земной истории, распространяется этим ученым далее в том же
контексте:
«На том уровне, когда жизнь еще ограничивалась морем, и
развивались рыбы, виды выделяли формы, которые развили спинной хребет и тем
самым явились представителями группы позвоночных – высшей формы,
эволюционировавшей к тому времени. Из спинного хребта развернулся по бокам,
чтобы помогать голове, тот веер щупальцев, который стал передним плавником. У
акулы (и почти у всех рыб) эти щупальца специализировались до такой степени,
что перестали быть щупальцами и превратились в плавники – удивительно
эффективные хвостовые плавники для того, чтобы существо могло броситься головой
вперед на свою жертву. Быстрая реакция – все, терпеливое ожидание – ничто. Эти
хвостовые плавники не только переставали быть щупами, зондами, исследователями.
Они становились все более и более эффективными для движения в воде и более ни
для чего другого. Похоже, что жизнь, предшествовавшая появлению рыб и
позвоночных, должна была проходить в теплых мелких заводях, а, возможно, всегда
проходила в контакте с морским дном, как сегодня морской черт своими щупальцами
поддерживает контакт с твердым дном. Но однажды стремительное спонтанное
движение охватило собою все, специализация вытеснила рыб в воду, где они
утратили контакт с дном и со всем твердым… Вода… стала их единственной стихией.
Это означало, что резко была ограничена возможность получения ими стимула от
новых обстоятельств…
Тем типом рыб, который дал начало следующему развивающемуся
роду животных, должны были быть существа, не связанные с этой крайней
специализацией плавников. Во‑первых, это должно было быть существо, сохранившее
контакт с морским дном и тем самым сохранившее возможность для получения
стимулов более разнообразных, чем рыбы, утратившие контакт с окружающей средой
морского дна. А во‑вторых, это должно было быть существо, которое по той же
самой причине сохранило контакт с отмелями. Оно поддерживало этот контакт
посредством передних конечностей, которые (поскольку они не могли полностью
специализироваться в качестве плавников, помогающих движению в воде) сохраняли
общий “неэффективный” зондирующий и испытующий характер. Был обнаружен скелет
такого существа. Можно почти с уверенностью сказать, что передние конечности
этого существа представляли собой скорее неуклюжие руки, нежели правильный
плавник. Благодаря этим членам своего тела оно выглядит так, как если бы
переход от мелкой заводи к наводненному берегу был уже сделан, глубокое море
оставлено позади, земля завоевана и появились земноводные»{122}.
Эта победа неумелых земноводных в соревновании с ловкими и
решительными рыбами делает нас свидетелями начального представления драмы,
которая с тех пор разыгрывалась неоднократно с таким множеством изменений в
составе исполнителей. В следующем представлении, предлагаемом нашему вниманию,
мы обнаруживаем, что роль рыб была передана ужасающему потомству земноводных –
роду пресмыкающихся, в то время как роль, сыгранная самими земноводными в
предыдущем представлении, выпала на предков тех млекопитающих, в которых
недавно воплотился человеческий дух. Примитивные млекопитающие были слабыми и
маленькими существами, которые неожиданно унаследовали Землю, так как
наследство оставили брошенным величественные пресмыкающиеся, бывшие прежде
хозяевами положения. А пресмыкающиеся эпохи мезозоя, подобно эскимосам и
кочевникам, были завоевателями, утратившими свои завоевания, заблудившись в
тупиках чрезмерной специализации.
«Явно неожиданное прекращение рода пресмыкающихся, без
всякого сомнения, является наиболее поразительной революцией во всей истории
Земли до появления человечества. Это событие, вероятно, связано с завершением
продолжительного периода постоянно теплых климатических условий и наступлением
нового, более сурового периода, в котором зимы были резче, а лета короткими, но
жаркими. И жизнь животных, и жизнь растений в эпоху мезозоя была приспособлена
к теплым условиям и мало была способна сопротивляться холоду. Со своей стороны,
новая жизнь была, прежде всего, способна сопротивляться большим температурным
скачкам…
Что касается млекопитающих, вступивших в соревнование и
вытеснивших менее приспособленных пресмыкающихся… то нет ни малейших данных о
каком‑либо непосредственном соревновании такого рода… В позднем мезозое
обнаружено множество маленьких челюстных костей, по своему характеру всецело
принадлежащих млекопитающим. Однако нет ни остатков, ни костей, чтобы
утверждать, что жило какое‑то мезозойское млекопитающее, которое могло бы
посмотреть динозавру в глаза… [Они], по‑видимому, все были незаметными,
маленькими тварями размером с мышь или крысу»{123}.
Предположения, выдвигавшиеся гном Уэллсом вплоть до этого
пункта, кажется, считаются общепринятыми. Пресмыкающиеся были вытеснены
млекопитающими по причине того, что эти громоздкие чудовища утратили
способность адаптироваться к новым условиям. Однако что позволило выжить
млекопитающим в том самом суровом испытании, жертвой которого стали
пресмыкающиеся? В ответе на этот крайне интересный вопрос два автора, которых
мы цитировали выше, расходятся во мнениях. Согласно г‑ну Уэллсу, простейшие
млекопитающие выжили благодаря тому, что имели шерсть, защищавшую их от
надвигающегося холода. Если бы это было все, что можно было бы сказать, то мы
знали бы лишь, что в определенных условиях мех – более эффективная защита, чем
чешуя. Однако г‑н Херд утверждает, что оружие, которое спасло жизнь
млекопитающим, было не физическим, но психическим. Сила этой психической защиты
находится в духовной беззащитности. Фактически, мы имеем здесь пример из
дочеловеческой истории того принципа роста, который мы назвали этерификацией.
«Гигантские пресмыкающиеся сами находились в состоянии
безнадежного упадка еще до появления млекопитающих… Они начали как маленькие,
подвижные, живые существа. Они выросли до таких размеров, что эти сухопутные
броненосцы едва могли двигаться… Их мозг практически не существовал… Их головы
были лишь перископами, дыхательными трубками и клешнями.
Между тем, по мере того как они медленно разрастались и
затвердевали на свою погибель… уже формировалось то существо, которому было
суждено перепрыгнуть через границы и пределы, установленные в то время для
жизни, и начать новую стадию энергии и сознания. Ничто не могло бы проиллюстрировать
более живо принцип, согласно которому жизнь развивается благодаря
чувствительности и сознательности, благодаря беззащитности, а не защищенности,
благодаря наготе, а не силе, благодаря малости, а не большим размерам.
Предшественники млекопитающих… были мелкими, похожими на крыс существами. В
мире, где господствовали чудовища, будущее было за существом, которое проводило
время, наблюдая за другими и уступая дорогу другим. Оно не защищено, у него мех
вместо чешуи. Оно не специализировано, ему даны чувствительные передние
конечности и, несомненно, усики (длинные волосы на лице и голове), чтобы оно
все время могло получать раздражающую стимуляцию. Уши и глаза высоко развиты.
Оно становится теплокровным, так что может постоянно ощущать холод, когда пресмыкающиеся
впадают в бесчувственную кому… Таким образом, его сознание возникает и начинает
развиваться. На постоянно разнообразящиеся побуждения даются разнообразные
ответы, поскольку это существо, будучи беспрецедентным, способно не на один, но
на множество ответов, ни один из которых не может исчерпать вопрос для себя»{124}.
Если здесь дан правдоподобный портрет нашего предка, то мы можем согласиться
одновременно и с тем, что мы должны гордиться им, и с тем, что мы сами не
всегда бываем достойны его.
* * *
Кара Немезиды в промышленности
Сто лет назад Великобритания не только претендовала на титул
«мастерской мира», но и была ею в действительности. Сегодня она одна из
нескольких конкурирующих мастерских мира, а ее доля в бизнесе имеет постоянную
тенденцию сравнительно уменьшаться. На тему «Неужели Британия закончилась?»
упражнялось бесчисленное множество авторов, и было дано множество разнообразных
ответов. Возможно, когда все факторы будут приняты в расчет, окажется, что мы
поступали в целом, пожалуй, лучше, чем можно было бы ожидать за последние
семьдесят лет, хотя предмет, очевидно, предлагает богатые возможности для
пессимистически настроенных, брюзжащих пророков того типа, который был описан в
одной из блестящих перевернутых цитат Сэмюэля Батлера[653]. Однако если
бы потребовалось выделить тот пункт, в котором мы ошибались более всего, то
можно было бы указать на консерватизм наших промышленных магнатов, которые
превратили в идола те устаревшие техники, благодаря которым разбогатели их
деды.
Быть может, наиболее поучительный (поскольку менее
обобщенный) пример можно найти в Соединенных Штатах. Никто не будет отрицать,
что в середине XIX столетия американцы опередили все другие народы в разнообразии
и изобретательности своих открытий в области промышленности и в
предприимчивости по применению этих нововведений в практических целях. Швейная
машинка, пишущая машинка, использование машинного оборудования при изготовлении
обуви и механическая жатка Маккормика были среди первых «изобретений янки»,
которые приходят на ум. Однако было одно изобретение, в использовании которого
американцы показали себя решительно отсталыми по сравнению с британцами. Их
отсталость здесь тем поразительнее, что этим пренебрегаемым изобретением было
усовершенствование в машине, которую изобрели сами американцы в самом начале
столетия, а именно пароход.[654] Американский колесный пароход оказался
особенно важным добавлением к транспортным средствам республики, быстро
расширявшейся по всей длине тех тысяч миль судоходных внутренних водных путей,
которыми так богато одарена Северная Америка. Без сомнения, непосредственным
результатом именно этого успеха стало то, что американцы гораздо медленнее, чем
британцы, воспользовались позднейшим и лучшим приспособлением лопастного винта
в целях океанской навигации. В этом отношении они были в большей степени склонны
к идолизации эфемерного технического средства.
* * *
Кара Немезиды в войне
В военной истории аналогом биологического соревнования между
крошечным мягкошерстным млекопитающим и огромным броненосным пресмыкающимся
является сказание о поединке между Давидом и Голиафом.[655]
До того рокового дня, когда он бросил вызов войскам Израиля,
Голиаф одержал множество блестящих побед при помощи своего копья, древко
которого было подобно ткацкому навою, а наконечник весил шестьсот сиклей
железа. Защищенный медным шлемом и чешуйчатой броней, медными наколенниками и
медным щитом, он чувствовал себя настолько непроницаемым для оружия противника,
что уже не представлял себе любого иного вооружения. Он верит, что с этим
вооружением он непобедим. Он самоуверенно полагает, что любой израильтянин,
имеющий дерзость принять его вызов, будет таким же копьеносцем, вооруженным cap‑à‑pie[656],
и что любой соперник в своих доспехах неизбежно окажется хуже его. Две эти идеи
настолько упорно засели в сознании Голиафа, что когда он видит, как навстречу
ему идет Давид, на первый взгляд совершенно безоружный, с одним лишь посохом в
руке, Голиаф обижается, вместо того чтобы встревожиться, и восклицает: «Что ты
идешь на меня с палкою [и с камнями]? Разве я собака?» Голиаф не ожидает, что
эта дерзость юноши – тщательно продуманный маневр. Он не знает, что Давид, осознавая
так же ясно, как и сам Голиаф, что в Голиафовом снаряжении он не имеет ни
малейшей надежды сравниться с ним, отвергает по этой причине доспехи,
возложенные на него Саулом. Не заметил Голиаф и пращи, не поинтересовался, что
за беда таится в пастушеской сумке. И вот этот злополучный филистимлянский
трицератопс напыщенно шествует навстречу своей гибели.
Однако если следовать историческим фактам, то отдельный
гоплит времен постминойского Völkerwanderung'a – Голиаф из Гефа или Гектор из
Трои – не стал бы жертвой пращи Давида или лука Филоктета, но лишь мирмидонской
фаланги – Левиафана, в котором множество гоплитов было тесно сомкнуто плечо к
плечу, щит к щиту{125}. Хотя каждый отдельный фалангит был точной
копией Гектора или Голиафа по своему снаряжению, он был противоположностью
гомеровскому гоплиту по своему духу. Суть фаланги состоит в воинской
дисциплине, которая превращает толпу, состоящую из отдельных воинов, в военное
формирование, упорядоченное развертывание которого может в десять раз превзойти
некоординированные попытки равного количества хорошо вооруженных отдельных
борцов.
Эта новая военная техника, которая мельком появляется уже в
«Илиаде», в исторический период оставляет о себе несомненное свидетельство в
форме спартанской фаланги, которая марширует под ритмы стихов Тиртея[657] к оказавшейся гибельной в социальном отношении
победе во Второй Мессенской войне. Но этот триумф не был еще концом истории.
Заставив отступить с поля битвы всех своих противников, спартанская фаланга
почила на лаврах и в ходе IV в. до н. э. стала свидетельницей своего постыдного
поражения – сначала от толпы афинских пелтастов (множества Давидов, совладать с
которыми фаланга спартанских Голиафов оказалась совершенно неспособной), а
затем – от тактического нововведения фиванской колонны. Афинская и фиванская
военная техника, в свою очередь, устарела и была превзойдена одним махом в 338
г. до н. э. македонским формированием, в котором высоко дифференцированные
стрелки и фалангиты были умело соединены с тяжелой кавалерией в единую боевую
силу.
Завоевание Александром империи Ахеменидов является
доказательством первоначальной эффективности македонского боевого порядка, а
македонская разновидность фаланги оставалась последним словом военной техники
на протяжении ста семидесяти лет – от битвы при Херонее, положившей конец
власти гражданского ополчения городов‑государств Греции, до битвы при Пидне,
когда македонская фаланга была побеждена, в свою очередь, римским легионом.
Причиной столь сенсационной περιπέτεια[658] в македонской военной судьбе явилось
старческое поклонение перед этим эфемерным техническим средством. В то время
как македонцы почивали на своих лаврах в качестве непререкаемых хозяев всего
(за исключением лишь западных окраин) эллинского мира, римляне революционизировали
искусство войны в свете того опыта, который они вынесли из бедствий, испытанных
ими во время страшной борьбы с Ганнибалом.
Римский легион одержал победу над македонской фалангой,
поскольку он провел объединение легковооруженного пехотинца с фалангитом
гораздо позднее. Римляне фактически изобрели новый тип формирования и новый тип
вооружения, сделавшего любого солдата и любое подразделение способным выступать
или в качестве легковооруженного пехотинца, или в качестве гоплита и, не
моргнув глазом, переходить от одной тактики к другой перед лицом врага.
Во время битвы при Пидне этому действенному римскому
новшеству было не более тридцати лет, поскольку на этой италийской окраине
эллинского мира фаланга домакедонского типа встречалась еще совсем недавно, в
битве при Каннах (214 г. до н. э.), когда тяжеловооруженная римская пехота,
развернувшаяся в боевом порядке строем старой спартанской фаланги, была
окружена с тыла испанской и галльской тяжелой кавалерией Ганнибала и
перерезана, как скот, африканской тяжеловооруженной пехотой с другого фланга.
Эта катастрофа застигла врасплох римское высшее командование, которое, будучи
потрясенным недавней катастрофой при Тразименском озере[659], собиралось
воздержаться от экспериментов и (как оно совершенно ошибочно предполагало)
избежать риска. В суровой школе своего окончательного поражения при Каннах
римляне наконец от всего сердца приняли усовершенствование в пехотной технике,
одним махом превратившее римскую армию в самую эффективную боевую силу
эллинского мира. Последовали победы при Замме, Киноскефалах и Пидне, а затем
ряд войн римлян против варваров и римлян против римлян, в которых под
командованием ряда великих полководцев от Мария до Цезаря легион достиг
величайшей эффективности, какой только могла достичь пехота до изобретения
огнестрельного оружия. Однако к тому самому моменту, когда легионер стал в
своем роде совершенным, ему было нанесено первое в длинном ряду поражений от
пары тяжеловооруженных всадников с совершенно отличной техникой, которые в
конце концов победили легионера на поле битвы. Победа конного лучника над
легионером в битве при Каррах в 53 г. до н. э.[660] предвосхитила на пять лет классический бой
легионера с легионером при Фарсале[661] – битву, в которой римская пехотная техника,
вероятно, находилась в своем зените. Предзнаменование Карр оправдалось при
Адрианополе[662] более чем через четыре столетия, когда в 378
г. катафракт – покрытый броней всадник, вооруженный копьем, – нанес легионеру
свой coup de grace (смертельный удар). В этой битве, как
свидетельствует, основываясь на фактах, римский историк того времени Аммиан
Марцеллин[663], служивший
также офицером, римские потери составляли две трети от общего количества
участвовавших. Он также высказывает мнение, что со времен Канн римская армия не
терпела военной катастрофы такого масштаба.
В продолжение, по крайней мере, четырех из шести столетий,
прошедших между двумя этими битвами, римляне почивали на лаврах. И это несмотря
на предупреждение, полученное при Каррах и повторившееся в поражениях Валериана
в 260 г. и Юлиана в 363 г. от персидских прообразов готских катафрактов,
которые принесли смерть Валенту и его легионерам в 378 г.
После катастрофы при Адрианополе император Феодосии
вознаградил варварских всадников за уничтожение римской пехоты, наняв их для
заполнения той зияющей бреши, которую они сами образовали в римских рядах. И
только когда имперское правительство понесло неизбежное наказание за эту
недальновидную политику и увидело, как эти корыстолюбивые варварские
кавалеристы расчленили западные провинции на варварские «государства‑преемники»,
новая местная армия, которая в последнюю минуту спасла восточные провинции от
той же самой судьбы, была вооружена и посажена на лошадей по варварскому
образцу. Господство этого тяжеловооруженного улана продолжалось более чем
тысячу лет, а его пространственное распространение даже еще замечательнее. Его
можно узнать безошибочно, где бы мы ни встречали его портрет – на фреске из
крымской гробницы, датируемой I в. христианской эры, на барельефах III‑VI
столетий, вырезанных сасанидским царем на скале в Фарсе, в глиняных статуэтках
тех дальневосточных тяжеловооруженных всадников, которые были боевой силой
династии Тан (618‑907) или же на Байенском гобелене XI в.[664], изображающем
поражение английских пехотинцев того времени от норманнских рыцарей Вильгельма
Завоевателя.
Если изумляет это долгожительство и повсеместность
распространения катафракта, то также заслуживает внимания и то, что он
распространяется повсеместно только в выродившейся форме. История его поражения
рассказана очевидцем.
«Я находился в армии помощника визиря, когда он отправился
навстречу татарам с западной стороны Города Мира [Багдада] во время того
величайшего бедствия, которое случилось в 656 году хиджры [1258]. Мы
встретились у Нахр‑Башира, одного из притоков Дуджейля. От нас поскакал
всадник, чтобы биться один на один, полностью экипированный, верхом на арабском
скакуне, так что как будто бы он и его конь вместе составляли одно целое,
словно некую огромную гору. Тогда со стороны монголов навстречу нашему поскакал
всадник верхом на лошади, похожей на осла, держа в руке пику, похожую на
веретено, не имея на себе ни одежды, ни доспехов, так что все, кто видел его,
принялись смеяться. Однако не успел закончиться день, как победа была за ними,
и они нанесли нам сокрушительное поражение, явившееся корнем всех зол, и
поэтому с нами произошло то, что произошло»[665].
Таким образом, легендарное столкновение между Голиафом и
Давидом на заре сирийской истории повторяется в ее сумерки, двадцать три
столетия спустя, и хотя на этот раз великан и карлик сражались верхом, исход
оказался тем же самым.
Непобедимый татарский qâzâq[666],
одержавший победу над иракским катафрактом, разграбивший Багдад и заморивший
голодом аббасидского халифа, был легковооруженным конным лучником устойчивого
кочевнического типа, который впервые заявил о себе и заставил себя бояться в
Юго‑Западной Азии в киммерийских и скифских набегах на рубеже VIII‑VII вв. до
н. э. Однако если конный Давид в свое время нанес поражение конному Голиафу в
начале татарского набега из Евразийской степи, то исход их столкновения в этом
повторении истории также был верен оригиналу. Мы видели, что защищенный броней
пеший боец, сраженный пращой Давида, был вытеснен впоследствии не самим
Давидом, но дисциплинированной фалангой голиафов. Монгольская легкая кавалерия
Хулагу‑хана[667], победившая
всадников аббасидского халифа у стен Багдада, впоследствии неоднократно была
разгромлена мамлюкскими хозяевами Египта. По своему снаряжению мамлюки были
экипированы не лучше и не хуже, чем их единоверцы, разгромленные у Багдада.
Однако в своей тактике они подчинялись дисциплине, которая принесла им
господство и над монгольскими стрелками, и над франкскими крестоносцами. Рыцари
Людовика Святого потерпели поражение при Майсуре[668] за десять лет до того, как монголы получили
свой первый урок у того же самого учителя.
К концу XIII столетия мамлюки, утвердив свое превосходство и
над французами, и над монголами, находились в том же самом положении
непререкаемого военного преимущества, в каком находились римляне после битвы
при Пидне. В этой замечательной, хотя и расслабляющей ситуации мамлюк, подобно
легионеру, почивал на лаврах. По замечательному совпадению, он получил
возможность почивать на лаврах в течение почти такого же периода времени, пока
он не был застигнут врасплох старым противником, вооруженным новой техникой.
Пидну отделяли от Адрианополя 546 лет. 548 лет отделяют победу мамлюков над
Людовиком Святым от их поражения от рук его наследника Наполеона. В течение
пяти с половиной столетий пехота снова вступила в свои права. Не закончилось
еще и первое из этих пяти столетий, как английский большой лук сделал армию
пеших Давидов способной победить армию конных голиафов при Креси[669]. Данный
результат был осознан и подтвержден изобретением огнестрельного оружия и
введением дисциплинарной системы, заимствованной у янычар.
Что касается конца мамлюков, то те из них, кто остался в
живых после наполеоновской атаки и окончательного уничтожения [мамлюкского]
корпуса Мухаммедом Али[670] тринадцать лет спустя, отошли к Верхнему Нилу.
Здесь они передали свое снаряжение и технику тем защищенным броней всадникам,
состоявшим на службе халифа Махди Суданского[671], которые
потерпели поражение, попав под обстрел британской пехоты при Омдурмане в 1898
г.
Французская армия, победившая мамлюков, была уже чем‑то
отличным от раннего варианта западного подражания янычарам. Именно новейшему
продукту французского levée en masse[672] удалось вытеснить, успешно ослабив, небольшую,
хотя и превосходно обученную по новому образцу западную армию, доведенную до
совершенства Фридрихом Великим. Однако победа наполеоновской армии над старой
прусской армией при Йене побудила плеяду прусских военных и государственных
деятелей превзойти французов в последующем рывке, объединив новое количество со
старой дисциплиной. Результат наметился в 1813 г. и показал себя в 1870 г.
Однако в следующем раунде прусская военная машина вызвала поражение Германии и
ее союзников, вызвав неожиданный ответ в форме осады беспрецедентного масштаба.
В 1918 г. методы 1870 г. уступили место новым методам позиционной войны и
экономической блокады. К 1945 г. было доказано, что техника, выигравшая войну
1914‑1918 гг., не была последним звеном в этой непрекращающейся цепи. Каждое
звено представляло собой цикл, состоящий из изобретения, победы, летаргии и
поражения. Судя по прецедентам из трехтысячелетней военной истории от
столкновения Голиафа с Давидом до прорыва «линии Мажино»[673] и «Западного вала»[674] в результате удара механических катафрактов и
точной стрельбы стрелков на крылатых конях, мы можем ожидать, что свежие
иллюстрации нашей темы будут поставляться с однообразным постоянством до тех
пор, пока человечество будет столь же упрямо продолжать культивировать
искусство войны.
6. Самоубийственность милитаризма
Kόρος, ϋβρις, άτη [675]
Завершив наш обзор стремления «почить на лаврах», которое
представляет собой пассивный способ стать жертвой кары Немезиды за творчество,
мы можем теперь продолжить исследование активного отклонения, описываемого в
трех греческих словах κόρος, ϋβρις, άτη. Эти слова имеют коннотацию как
свойственную подлежащему, так и относящуюся к дополнению. В первом случае κόρος
означает «пресыщение», ϋβρις – «необузданность», а άτη – «умопомрачение». Во втором случае κόρος
означает психологическое состояние избалованности успехом, ϋβρις
означает последующую утрату психического и нравственного равновесия, а άτη означает слепой, упрямый, неуправляемый
импульс, заставляющий неуравновешенную душу пытаться предпринимать невозможное.
Эта деятельная психологическая катастрофа в трех актах являлась наиболее
общераспространенной темой (если судить по горстке сохранившихся шедевров) в
афинской трагической драме V в. до н. э. У Эсхила это история Агамемнона в
пьесе того же названия и история Ксеркса в «Персах». У Софокла это история
Аякса в одноименной пьесе, Эдипа в «Царе Эдипе» и Креонта в «Антигоне». У
Еврипида это история Пенфея в «Вакханках». Говоря языком Платона,
«Если, забыв меру, слишком малому придают что‑либо слишком
большое: судам – паруса, телам – пищу, а душам – власть, то все идет вверх
дном; исполнившись дерзости, одни впадают в болезни, другие – в несправедливость,
это порождение высокомерия»{126}.
Чтобы провести различие между пассивным и активным способами
вызвать разрушение, начнем наше исследование κόρος – ϋβρις – άτη с
военной сферы, в которой мы как раз и довели до конца наш обзор стремления
«почить на лаврах».
Оба вида, оказывается, представлены в поведении Голиафа. С
одной стороны, мы видели, как он навлекает на себя гибель, культивируя некогда
непобедимую технику отдельного борца‑гоплита, не предвидя и не опережая новую,
превосходящую технику, которую приводит в действие против него Давид. В то же
самое время мы можем наблюдать, что его гибель от рук Давида можно было бы
предотвратить лишь одним способом: если бы его инертность в области техники
сопровождалась соответствующей пассивностью характера. Однако, к несчастью для
Голиафа, технологический консерватизм этого miles gloriousus
(хвастливого воина) не был сбалансирован хоть какой‑то умеренностью в
поведении. Вместо этого он изо всех сил старался лезть на рожон, бросая вызов.
Он символизирует собой милитаризм, одновременно и агрессивный, и недостаточно
подготовленный. Подобного рода милитарист настолько уверен в своей собственной
способности присматривать за социальной – или антисоциальной – системой, где
все споры разрешаются при помощи меча, что он бросает свой меч на весы. Его вес
должным образом нарушает баланс в его пользу, и он указывает на свою победу как
на окончательное доказательство всемогущества меча. Однако в следующей главе
истории оказывается, что он недостаточно доказал свой тезис ad hominem[676] в частном случае, который исключительно важен
для него. Следующим событием является его собственное поражение от рук
милитариста более сильного, чем он сам. Этот второй доказывает тезис, который
не пришел первому на ум: «Все, взявшие меч, мечом погибнут»{127}.
С этого вступления мы можем перейти от легендарного поединка
из сирийского сказания к рассмотрению нескольких исторических примеров.
* * *
Ассирия
Катастрофа, в которой ассирийская военная мощь нашла свой
конец в 614‑610 гг. до н. э., была наиболее полной из когда‑либо известных
истории. Она повлекла за собой не только уничтожение ассирийской военной
машины, но также и угасание ассирийского государства и истребление ассирийского
народа. Общество, существовавшее более двух тысячелетий и игравшее доминирующую
роль в Юго‑Западной Азии на протяжении примерно двух с половиной столетий, было
почти полностью уничтожено. Двести десять лет спустя, когда десять тысяч
наемников Кира Младшего отступали долиной Тигра с поля битвы при Кунаксе к
побережью Черного моря, они прошли подряд те места, где располагались Калах и
Ниневия, и были потрясены[677]. Их изумила
не столько массивность фортификационных сооружений и протяженность охватываемой
ими области, сколько зрелище оставленности столь огромных созданий рук
человеческих. Загадочность этих пустых раковин, свидетельствующих своей
безжизненной выносливостью о мощи исчезнувшей жизни, ярко передана в
литературном произведении одного из членов греческих экспедиционных войск,
подробно изложившего свой опыт.[678] Однако современного читателя (знакомого с
судьбой Ассирии благодаря открытиям современных археологов) в ксенофонтовском
рассказе еще больше поражает то, что Ксенофонт был не в состоянии узнать даже
самые простые факты, касающиеся подлинной истории этих покинутых городов‑крепостей.
Хотя вся Юго‑Западная Азия от Иерусалима до Арарата и от Элама до Лидии была
подчинена и устрашена хозяевами этих городов не более чем за двести лет до
того, как этим путем проследовал Ксенофонт, лучший отчет, какой он способен был
нам дать о них, не имеет никакого отношения к их действительной истории, и даже
само название Ассирии неизвестно ему.
На первый взгляд кажется, что судьбу Ассирии трудно постичь,
ведь ее военщина не могла, подобно македонцам, римлянам и мамлюкам, чувствовать
себя почивающей на лаврах. Когда военные машины этих последних потерпели
роковое крушение, каждая из них была безнадежно устарелой и находилась в ужасно
неисправном состоянии. С другой стороны, ассирийская военная машина постоянно
перестраивалась, обновлялась и усиливалась вплоть до своего уничтожения.
Кладезь военного гения, породивший эмбрион гоплита в XIV столетии до Рождества
Христова, накануне первой заявки Ассирии на господство в Юго‑Западной Азии, и
эмбрион катафракта – в VII столетии до Христа, накануне уничтожения самой
Ассирии, был также плодотворным на протяжении семи промежуточных столетий.
Активная изобретательность и неугомонная тяга к усовершенствованиям, являющиеся
приметами новейшего ассирийского этоса в его приложении к искусству войны,
полностью подтверждаются рядом барельефов, найденных на месте царских дворцов.
На этих барельефах последовательные фазы ассирийского военного снаряжения и
техники на протяжении последних трех столетий зафиксированы наглядно с особой
тщательностью и точностью в деталях. Мы находим, что здесь зарегистрирован
постоянный эксперимент по усовершенствованию доспехов, моделей колесниц,
осадной техники и дифференциации специализированных войск для особых целей. Что
же в таком случае явилось причиной гибели Ассирии?
Во‑первых, политика беспрестанного наступления и обладание
мощным инструментом, способным приводить эту политику в действие, послужила
причиной того, что предприятия и свершения ассирийских военачальников в
четвертом и последнем приступе их милитаризма распространились далеко за
границы, в которых удерживались их предшественники. Ассирия зависела от
постоянного веского требования военных ресурсов для выполнения своей задачи
хранительницы границ вавилонского мира от горцев‑варваров в Загросе и Тавре, с
одной стороны, и от арамейских первопроходцев сирийской цивилизации – с другой.
В своих первых трех приступах милитаризма она довольствовалась переходом от
защиты к нападению на этих двух фронтах, не предпринимая наступления à
outrance[679] и не рассеивая своих сил в других
направлениях. Уже третий приступ, продолжавшийся на протяжении двух средних
четвертей IX в. до н. э., привел к образованию в Сирии временной коалиции
сирийских государств, которая остановила продвижение ассирийцев при Каркаре в
853 г. до н. э.[680] А в Армении ассирийцы получили еще более
страшный ответный удар в виде основания царства Урарту[681]. Несмотря на
эти предостережения, Тиглатпаласар III (746‑727 гг. до н. э.)[682], начиная
последнее и величайшее из ассирийских наступлений, позволил себе питать
политические амбиции и ставить перед собой военные задачи, что привело Ассирию
к столкновению с тремя ее противниками – Вавилоном, Эламом и Египтом, каждый из
которых потенциально являлся такой же мощной военной державой, как и сама
Ассирия.
Тиглатпаласар заложил основу для будущего конфликта своих
преемников с Египтом, взявшись за покорение мелких государств в Сирии. Египет
не мог оставаться индифферентным к расширению Ассирийской империи вплоть до
самых своих границ. Он оказался в состоянии расстроить или даже погубить дело
ассирийских создателей империи, пока они собирались завершить его, пустившись в
еще более грандиозное предприятие по завоеванию самого Египта. Самоуверенная
оккупация Палестины Тиглатпаласаром в 734 г. до н. э., возможно, явилась
стратегической уловкой, вознаграждением за которую стало временное подчинение
Самарии в 733 г. и падение Дамаска в 732 г. Однако это привело к столкновению
Саргона[683] с египтянами в 720 г. и Синаххериба[684] – в 700 г. Эти незавершенные столкновения, в
свою очередь, привели к завоеванию и занятию Асар‑хаддоном[685] Египта в кампаниях 675, 674 и 671 гг. до н. э.
Вслед за этим стало очевидно, что хотя ассирийская армия достаточно сильна,
чтобы разгромить египетскую армию, занять землю Египта и вновь повторить этот
подвиг, она была все же недостаточно сильна, чтобы удержать Египет в
подчинении. Сам Асархаддон еще раз собрался походом на Египет, когда смерть
настигла его в 669 г. до н. э. И хотя египетское восстание было подавлено в 667
г. до н. э. Ашшурбанипалом[686], в 663 г. ему
пришлось снова захватывать Египет. К этому времени ассирийское правительство
должно было осознать, что в Египте оно занималось решением задачи Психеи[687], и когда
Псамметих[688] незаметно изгнал ассирийские гарнизоны в 658‑651
гг. до н. э., Ашшурбанипал закрыл на происшедшее глаза. В таком преуменьшении
своих египетских потерь царь Ассирии, несомненно, поступил мудро. Однако эта
мудрость, крепкая задним умом, была признанием того, что силы, потраченные на
пять египетских кампаний, уже истощились. Кроме того, потеря Египта явилась
прелюдией к потере Сирии в следующем поколении.
Окончательные последствия вторжения Тиглатпаласара в
Вавилонию были гораздо тяжелее, чем последствия его скороспелой политики в
Сирии, поскольку они вызвали причинно‑следственную цепь, прямо приведшую к
катастрофе 614‑610 гг. до н. э.
На ранних стадиях ассирийской военной агрессии против
Вавилонии была очевидна некая политическая умеренность. Держава‑завоевательница
предпочитала откровенной аннексии установление протекторатов над марионеточными
князьками туземного происхождения. Лишь после великого халдейского восстания
694‑689 гг. до н. э. Синаххериб формально положил конец независимости
Вавилонии, официально объявив своего сына и наследника престола Асархаддона наместником
ассирийского царя. Однако этой политике умеренности не удалось умиротворить
халдеев. Она лишь побуждала их к более эффективному противодействию
ассирийскому военному вызову. Под сокрушительными ударами ассирийского
милитаризма халдеи навели порядок у себя на родине и заключили союз с соседним
Эламским царством. А на следующей стадии отказ от политики умеренности и
разграбление Вавилона в 689 г. до н. э. преподали урок, результаты которого
оказались противоположны ожидаемым. Доведенные до белого каления от ненависти,
которую вызвал этот ужасающий поступок ассирийцев как среди старого городского
населения, так и среди пришлых халдейских кочевников, горожане и члены племен
забыли свою взаимную неприязнь и слились в новую вавилонскую нацию, которая не
смогла ни забыть, ни простить и которая не смогла успокоиться, пока не
уничтожила своего угнетателя.
Однако в течение большей части столетия приступ неминуемого άτη (умопомрачения) был отсрочен благодаря
возраставшей эффективности ассирийской военной машины. Например, в 639 г. до н.
э. Эламу был нанесен настолько разрушительный удар, что опустевшая территория
этого государства перешла во владение персидских горцев на его восточной
окраине и стала тем плацдармом, с которого Ахемениды добились владычества над
всей Юго‑Западной Азией столетие спустя. Тем не менее сразу после смерти
Ашшурбанипала в 626 г. до н. э. Вавилония вновь восстала под руководством
Набопаласара[689], нашедшего в
новом Мидийском царстве союзника более мощного, нежели Элам. В течение
шестнадцати лет Ассирия была стерта с лица земли.
Оглядываясь назад на более чем полуторасотлетнюю
ожесточенную войну, начавшуюся со вступления на престол Тиглатпаласара в 745 г.
до н. э. и закончившуюся победой вавилонянина Навуходоносора над фараоном Нехо
при Кархемише в 605 г. до н. э.[690], мы видим,
что историческими вехами, которые можно выделить с первого взгляда, были
последовательные нокаутирующие удары, при помощи которых Ассирия уничтожила
целые общества, стирая города с лица земли и уводя целые народы в плен: Дамаск
в 732 г., Самарию в 722 г., Мусасир в 714 г., Вавилон в 689 г., Сидон в 677 г.,
Мемфис в 671 г., Фивы в 663 г., Сузы около 639 г. до н. э. Из всех столиц
государств, находившихся в пределах досягаемости ассирийской армии, только Тир
и Иерусалим остались неразрушенными ко времени разграбления самой Ниневии в 612
г. до н. э. Убыток и несчастья, которые Ассирия причинила своим соседям, не
поддаются исчислению. Однако легендарное замечание лицемерного школьного
учителя избиваемому им мальчику – «Мне больнее, чем тебе» – было бы более
подходящей критикой ассирийской военной деятельности, чем те бесстыдно‑жестокие
и наивно‑хвастливые повествования, в которых ассирийские военачальники
представляют собственные отчеты о своих подвигах. Все жертвы Ассирии,
перечисленные в этих параграфах, в результате тяжелой борьбы все же выжили, а
некоторые из них даже имели великое будущее. Ниневия одна пала и никогда уже не
поднималась вновь.
Причину такой противоположности судеб долго искать не
приходится. За фасадом своих военных триумфов Ассирия совершала медленное
самоубийство. Все, что мы знаем о ее внутренней истории в течение наблюдаемого
нами периода, позволяет сделать вывод о политической нестабильности,
экономическом крахе, упадочнической культуре и широко распространившейся
депопуляции. Ясно засвидетельствованные успехи арамейского языка за счет
аккадского в самой Ассирии в течение последних полутора столетий существования
этого государства говорят о том, что ассирийский народ был мирным путем
вытеснен пленниками ассирийского лука и копья в то самое время, когда
ассирийская военная мощь достигла своего зенита. Неукротимый воитель, принявший
на себя главный удар у Ниневии в 612 г. до н. э., был «трупом в доспехах». Его
скелет удерживался прямо лишь благодаря массивности военного снаряжения, в
котором этот самоубийца задохнулся до смерти. Когда мидийские и вавилонские
штурмовые отряды достигли застывшей зловещей фигуры и отбросили ее с грохотом
вдоль морены разрушенной кирпичной кладки в канаву внизу, они не ожидали, что
их страшный противник уже не живой человек в момент, когда они нанесли свой
дерзкий и, судя по всему, окончательный удар.[691]
Судьба Ассирии в своем роде типична. Живописная картина
«трупа в доспехах» вызывает в памяти видение спартанской фаланги в битве при
Левктрах в 371 г. до н. э.[692] и янычар в окопах под Веной в 1683 г. Ироничная
судьба милитариста, который до такой степени невоздержанно ведет войны по
уничтожению своих соседей, что невольно уничтожает самого себя, напоминает о
самоубийственной гибели Каролингов или Тимуридов. Они воздвигли великие империи
на страданиях своих саксонских или персидских жертв лишь затем, чтобы
предоставить их на разграбление скандинавским или узбекским авантюристам,
которые пережидали и использовали свой шанс, когда создатели империй
расплачивались за свой милитаризм, впав в импотенцию на протяжении периода
одной человеческой жизни. Другой формой самоубийства, вызываемой в памяти
ассирийским примером, является самоуничтожение тех милитаристов (варваров или
народов более высокой культуры), которые вторгались и разрушали некое
универсальное государство или же великую империю, обеспечивавшую
кратковременный мир народам и землям, находившимся под ее эгидой. Завоеватели
беспощадно раздирали императорскую мантию на клочки и оставляли миллионы людей,
которых она покрывала, незащищенными от ужасов тьмы и тени смертной. Однако
тень опускалась на преступников столь же неумолимо, как и на их жертв.
Деморализованные обширностью своего трофея, эти новые хозяева похищенного мира,
подобно килкеннским котам[693], вероятно,
продолжали оказывать друг другу «дружественную услугу» до тех пор, пока все
разбойники из банды не становились добычей.
Мы можем проследить, как македонцы, опустошив империю
Ахеменидов и отодвинув свои границы вплоть до Индии, затем с равной жестокостью
направляли свое оружие друг против друга в течение сорока двух лет между
смертью Александра в 323 г. до н. э. и поражением Лисимаха при Курупедионе в
281 г. до н. э.[694] Это страшное действие повторилось через тысячу
лет, когда первобытные арабы‑мусульмане захотели превзойти (и тем самым
уничтожили) македонское дело, опустошив за двенадцать лет римские и сасанидские
владения в Юго‑Западной Азии почти на столь же обширной территории, какую
некогда за одиннадцать лет завоевал Александр. За этим разбойным арабским актом
двенадцатилетнего завоевания последовали двадцать четыре года братоубийственной
борьбы. Снова завоеватели обрушили мечи друг на друга, и слава и выгоды от
восстановления сирийского универсального государства достались узурпировавшим
власть Омейядам и пришлым Аббасидам, а не перешли к соратникам и наследникам
Пророка, чьи молниеносные завоевания проложили дорогу. Ту же самую
самоубийственную ассирийскую склонность к милитаризму проявляли и варвары,
опустошавшие брошенные провинции находившейся в упадке Римской империи, как уже
было показано ранее на страницах данного «Исследования».
Существует еще одна разновидность милитаристского
отклонения, прототип которой мы также обнаружим в ассирийском милитаризме,
когда рассмотрим Ассирию в ее собственном окружении как составную часть более
обширной социальной системы, названной нами вавилонским обществом. В этом
обществе Ассирия была пограничной полосой. Ее особая функция заключалась в
защите не только себя, но и остального мира, частью которого она являлась, от
хищных горцев на севере и востоке и от агрессивных первопроходцев сирийского
общества – на юге и западе. Выделившись в пограничную полосу подобного рода из
прежде недифференцированного общественного строя, общество настаивает на
преимуществах перед всеми остальными членами этого строя. Ибо, в то время как
пограничные районы получают стимул, успешно отвечая на относящийся к ним вызов
растущего внешнего давления, внутренние районы освобождаются от этого давления
и становятся свободными для других вызовов и выполнения других задач. Это
разделение труда терпит неудачу, если жители пограничной полосы превращают
оружие, которое они привыкли использовать против внешнего врага, в средство для
достижения амбиций за счет внутренних членов своего собственного общества. То,
что за этим следует, по сути, является гражданской войной. Именно этим объясняется
вся важность последствий, вытекающих в конечном счете из выступления
Тиглатпаласара III в 745 г. до н. э., когда он повернул свои ассирийские войска
против Вавилонии. Отклонение пограничных районов, которые выступили против
внутренних, по самой своей природе гибельно для общества в целом, однако для
самих жителей границы оно самоубийственно. Его действие подобно действию правой
руки, которая вонзает зажатый в ней клинок в тело, частью которого она
является. Или же оно подобно лесорубу, пилящему сук, на котором он сидит, и
падающему вместе с ним на землю, тогда как изуродованный ствол дерева остается
стоять.
* * *
Карл Великий
Быть может, именно интуитивное опасение, что энергия будет
направлена в неверное русло (тема, обсуждавшаяся в предыдущем параграфе),
подвигло австразийских франков в 754 г. выступить столь резко против решения
своего военачальника Пипина[695] откликнуться на призыв папы Стефана о
вооруженной помощи против своих собратьев лангобардов[696]. Папство
обратило взоры на эту трансальпийскую державу и стало разжигать в Пипине
амбиции еще в 749 г., увенчав его королевской короной и тем самым de facto[697] признав законной его власть[698], поскольку
Австразия во времена Пипина была разделена, служа границей между двумя
фронтами: против язычников‑саксов по ту сторону Рейна и против арабо‑мусульманских
завоевателей Иберийского полуострова, оказывавших давление из‑за Пиренеев. В
754 г. австразийцев побуждали переключить энергию из тех сфер, где они уже
обрели свое истинное предназначение, на уничтожение лангобардов, стоявших на
пути политических амбиций папства. Опасения австразийского рядового состава
относительно этого предприятия оказались в конечном счете более обоснованными,
чем стремление их вождя к его осуществлению. Не приняв во внимание возражения
своих соратников, Пипин выковал первое звено в той цепи военных и политических
преступлений, которая привязала Австразию к Италии еще крепче, чем когда‑либо.
Итальянская кампания Пипина 755‑756 гг. привела к кампании Карла Великого 773‑774
гг., к кампании, которая роковым образом прервала завоевание Саксонии, только
что им тогда начатое. Впоследствии, в течение следующих тридцати лет, его
тщательно подготовленные операции в Саксонии прерывались вновь не менее четырех
раз из‑за вмешательства в итальянские кризисы, которые требовали его
присутствия на месте в различные по своей длительности периоды времени. Бремя,
возложенное на подданных Карла Великого его противоречившими друг другу
амбициями, превысило допустимый предел прочности для того груза, который
тяготил Австразию.
* * *
Тимурленк
Тимур подобным же образом потерпел крах в своей
Трансоксании. Он потратил на бесцельные экспедиции в Иран, Ирак, Индию,
Анатолию и Сирию те немногочисленные резервы трансоксанских сил, которые
следовало бы сосредоточить на его собственной миссии по обеспечению мира для
евразийских кочевников. Трансоксания была пограничной зоной оседлого иранского
общества, отделявшей его от мира евразийских кочевников. В течение первых
девятнадцати лет своего правления (1362‑1380) Тимур занимался своим собственным
делом в качестве хранителя границы. Сначала он отразил атаку кочевников
Джагатайского улуса[699], впоследствии
перешел в наступление против них и завершил завоевание своих владений,
освободив оазис Хорезм на Нижнем Оксе от кочевников улуса Джучи.[700] Завершив эту огромную задачу в 1380 г., Тимур
получил еще большее вознаграждение – ни больше, ни меньше, как наследие великой
евразийской империи Чингисхана, поскольку во время Тимура кочевники отступали
на всех участках вдоль пространной границы между пустыней и возделанными
землями. Следующей главой в истории Евразии должно было стать состязание между
оправлявшимися после поражения оседлыми народами за наследие Чингисхана. В этом
состязании молдаване и литовцы находились слишком далеко, чтобы иметь шансы на
выигрыш, московиты были преданы своим лесам, а китайцы – своим полям. Казаки и
трансоксанцы были единственными конкурентами, которым удалось обжиться в степи,
не вырывая с корнем оседлых оснований своего собственного образа жизни. Из двух
конкурентов трансоксанцы, казалось, имели больше шансов. Кроме того, что они
были сильнее сами по себе и находились ближе к центру степи, они также были
первыми на поле. В то же время как последователи сунны они имели потенциальных
приверженцев среди оседлых мусульманских обществ, которые были аванпостами
ислама на противоположном берегу [Евразийской] степи.
На какой‑то момент показалось, что Тимур оценил эту
возможность и решительно ухватился за нее. Однако после нескольких отважных и
блестящих предварительных шагов он повернулся в противоположном направлении,
направив свои войска во внутренние районы иранского мира и посвятив почти все
оставшиеся двадцать четыре года своей жизни ряду бесплодных разрушительных
кампаний в этой части света. Размах его побед был столь же поразителен, сколь
самоубийственны их результаты.
Это сведение Тимуром результатов своей деятельности на нет
является высшим примером самоубийственности милитаризма. Его империя не просто
не пережила его, но и лишилась каких бы то ни было позитивных последствий. Ее
единственное заметное последствие является всецело негативным. Сметая все, что
было на его пути, в безудержном стремлении к своему собственному уничтожению,
тимуровский империализм попросту образовал политический и социальный вакуум в
Юго‑Западной Азии. Этот вакуум в конечном итоге привел к столкновению Османов и
Сефевидов[701], что нанесло
раненому иранскому обществу смертельный удар.
Потеря иранским обществом наследия кочевнического мира
проявилась прежде всего в области религии. На протяжении четырех столетий,
завершающихся временем Тимура, ислам постепенно утверждал свою власть над оседлыми
народами, жившими по побережью Евразийской степи, и завоевывал самих
кочевников, где бы они ни вторгались из степи в область возделанной земли. К
XIV столетию, казалось бы, ничто не могло воспрепятствовать превращению ислама
в религию всей Евразии. Однако после того, как деятельность Тимура завершилась,
продвижение ислама в Евразии остановилось на мертвой точке, а два столетия
спустя монголы и калмыки были обращены в ламаистскую форму махаянского
буддизма. Этот поразительный триумф окаменевшего реликта религиозной жизни
давно умершей индской цивилизации дает представление о том, до какой степени
упал авторитет ислама в оценке евразийских кочевников в течение двух столетий,
прошедших со времени Тимура.
В политическом плане иранская культура, которую Тимур
сначала защищал, а затем предал, оказалась в равной мере несостоятельной.
Оседлыми обществами, осуществившими в конечном итоге подвиг политического
приручения евразийского кочевничества, были русские и китайцы. Эта
окончательная развязка монотонно повторявшейся драмы кочевнической истории
стала предсказуемой, когда в середине XVII столетия христианской эры казаки,
состоявшие на службе Московского государства, и хозяева Китая – маньчжуры –
столкнулись друг с другом, пробираясь в противоположных направлениях вдоль
северного края степи, и вступили в свою первую битву за господство над Евразией
неподалеку от родовых пастбищ Чингисхана в верховьях Амура. Спустя столетие
было завершено расчленение Евразии между этими конкурентами.
Странно, но если бы Тимур не повернулся спиной к Евразии и
не направил бы свои войска на Иран в 1381 г., то нынешние отношения между
Трансоксанией и Россией могли бы быть прямо противоположны тем, которые
существуют в настоящее время. В этих гипотетических обстоятельствах Россия сегодня
могла бы оказаться включенной в состав империи, по своим размерам почти такой
же, как нынешний Советский Союз, однако с совершенно иным центром тяжести. Она
могла бы оказаться в составе Иранской империи, в которой Самарканд управлял бы
Москвой, а не наоборот. Эта воображаемая картина может показаться странной,
поскольку реальный ход событий на протяжении четырех с половиной столетий был
совершенно иным. Однако, по крайней мере, открылась бы столь же странная
картина, если бы мы проложили альтернативный курс западной истории, исходя из
предположения, что менее жестокое и фатальное отклонение военной мощи Карла
Великого оказалось бы столь же гибельным для западной цивилизации, сколь
отклонение Тимура – для иранской. По этой аналогии мы должны были бы изобразить,
что Австразия подчинена венграм, а Нейстрия – викингам во мраке X столетия.
Центр империи Каролингов оставался бы после этого под варварской властью вплоть
до XIV в., пока не вмешались бы османы, для того чтобы навязать меньшее зло
чужеземного господства над этими заброшенными окраинами западно‑христианского
мира.
Однако величайшее из разрушительных деяний Тимура обернулось
против него же самого. Он обессмертил свое имя ценой вычеркивания из памяти
потомков всякого воспоминания о делах, которые можно было бы вспомнить как
хорошие. У многих ли народов христианского или исламского мира имя Тимура
вызывает в памяти образ защитника цивилизации против варварства, приведшего
духовенство и народ своей страны к тяжелой победе в результате длившейся
девятнадцать лет войны за независимость? Для подавляющего большинства из них
имя «Тимурленк» или «Тамерлан» ничего подобного не означает. Оно напоминает о
милитаристе, совершившем столько ужасов на протяжении двадцати четырех лет,
сколько последние пять ассирийских царей совершили за сто двадцать. Мы думаем о
том чудовище, которое стерло с лица земли Исфару в 1381 г., возвело из двух
тысяч пленников живой холм, а затем обложило его кирпичами в 1383 г. в
Сабзаваре, сложило из пяти тысяч человеческих голов минареты в Зири в том же
году, сбросило лурских узников в пропасть живыми в 1386 г., убило семьдесят
тысяч человек и сложило из голов убитых минареты в Исфахане в 1387 г., убило
сто тысяч пленников в Дели в 1398 г., заживо зарыло в землю четыре тысячи
христианских воинов гарнизона Сиваса после их капитуляции в 1400 г. и построило
двадцать башен из черепов в Сирии в 1400 и 1401 гг. В сознании людей, которые
знают о нем лишь по подобным его делам, Тимур заставляет смешивать себя с
великанами‑людоедами из степи – Чингисханом, Аттилой и им подобными, против
которых он вел священную войну в первую и лучшую половину своей жизни.
Неразумная мания величия этого одержимого желанием убийства душевнобольного,
чьей единственной мыслью было потрясти воображение человечества своей военной
мощью и ее ужасным употреблением, блестяще выражена в гиперболе, которую
английский поэт Марло вложил в уста своего Тамерлана:
«Сам бог войны мне уступает место
И во владенье мир передает;
Меня в доспехах боевых увидев,
Юпитер и бледнеет, и дрожит,
Боясь, что я столкну его с
престола;
Моим победам отдавая дань,
Из рук не выпускают ножниц Парки
И мечется, изнемогая, Смерть…
Мильоны душ в тоске Харона ждут,
Толпясь на берегах безмолвных
Стикса.
Я душами убитых переполнил
Элизий и Аид, чтоб обо мне
На небе и в аду гремела слава»{128}.
* * *
Марк‑граф обернулся разбойником
Анализируя деятельность Тимура, Карла Великого и последних
ассирийских царей, мы обнаружили одно и то же явление во всех трех случаях.
Воинская доблесть, которую общество развивает среди жителей своих границ для
защиты от внешних врагов, подвергается гибельной трансформации в душевную
болезнь милитаризма, когда она отклоняется из собственного поля действия в
«ничейную землю», находящуюся по ту сторону границы, и обращается против
собратьев внутри общества. С легкостью мы можем вспомнить и множество других
примеров этого социального зла.
Мы вспомним о Мерсии, повернувшей против других английских
«государств‑наследников» Римской империи оружие, которое она отточила, выполняя
свою первоначальную функцию в качестве пограничной полосы между Англией и
Уэльсом. Вспомним об английском королевстве Плантагенетов, пытавшемся во время
Столетней войны завоевать братское королевство Францию вместо того, чтобы
заниматься своим собственным делом по расширению границ их общей матери –
латинского христианства – за счет кельтской окраины. Вспомним и о норманнском
короле Роджере Сицилийском[702], обращающем
свою военную мощь на расширение владений в Италии вместо того, чтобы продолжать
дело своих предков по расширению границ западного христианства в
Средиземноморье за счет православного христианства и исламского мира. Подобным
же образом микенские форпосты минойской цивилизации на Европейском материке
злоупотребили доблестью, которую приобрели в противостоянии континентальным
варварам, чтобы обратиться против своей матери – Крита – и разорвать его на
части.
В египетском мире классическая южная граница в районе долины
Нила непосредственно за Первым порогом тренировалась в военном деле для
выполнения своего долга по сдерживанию нубийских варваров, обитавших в
верховьях реки, только лишь затем, чтобы повернуться в противоположном
направлении против общин внутри страны и установить при помощи грубой силы
Объединенное царство двух корон. Этот акт милитаризма был изображен преступником
со всей искренностью самодовольства в одном из самых ранних обнаруженных до
настоящего времени письменных свидетельств египетской цивилизации. Палетка
Нармера[703] показывает триумфальное возвращение
верхнеегипетского военачальника из похода против Нижнего Египта. Раздутый до
сверхчеловеческого роста, царь‑завоеватель марширует позади ряда шагающих с
важным видом знаменосцев к двойному ряду обезглавленных вражеских тел, в то
время как внизу в образе быка он давит поверженных противников и разрушает
стены укрепленного города. Соответствующая надпись, как полагают, перечисляет
добычу в 120 000 пленников, 400 000 голов крупного рогатого скота и 1 422 000
овец и коз.
В этом отвратительном произведении архаического египетского
искусства мы видим, как трагедия милитаризма разыгрывается вновь и вновь со
времен Нармера. Возможно, наиболее тяжелым из всех представлений этой трагедии
было то, виной которого явились Афины, когда они превратились из «освободителя
Эллады» в «город‑тиран». Это афинское отклонение накликало не только на сами
Афины, но и на всю Элладу непоправимую беду в виде Афино‑Пелопоннесской войны.
Военная сфера, которую мы рассматривали в данной главе, наилучшим образом
проливает свет на исследование роковой цепочки κόρος – ϋβρις – άτη ,
поскольку военное искусство и доблесть являются опасным оружием, способным
причинить смертоносный ущерб тем, кто неправильно им пользуется. Однако
несомненно истинное относительно военного действия истинно и по отношению к
другим видам человеческой деятельности в менее опасных сферах, где пороховая
цепь, ведущая от κόρος через ϋβρις к άτη, не столь
взрывоопасна. Какую бы человеческую способность или сферу ее применения мы ни
взяли, предположение о том, что раз эта способность оказалась подходящей для
исполнения ограниченной задачи в пределах ее собственной сферы, то можно
считать, что она породит некое неумеренное действие при другом стечении
обстоятельств, является не чем иным, как интеллектуальным и нравственным отклонением
и никогда ни к чему не приведет, кроме как к некоторому бедствию. Сейчас мы
должны перейти к рассмотрению примера, на котором видно действие той же самой
последовательности причины и следствия в невоенной сфере.
7. Опьянение победой: папский престол
Одной из наиболее общих форм, в которых представлена
трагедия κόρος – ϋβρις – άτη, является опьянение победой, будь эта
борьба, в которой выигрывается роковой приз, войной армий или конфликтом
духовных сил. Оба варианта этой драмы можно было бы проиллюстрировать примерами
из истории Рима: опьянение военной победой в период надлома Республики во II в.
до н. э. и опьянение духовной победой в период надлома папства в XIII в. н. э.
Однако поскольку мы уже рассматривали вопрос о надломе Римской республики в другой
связи, то мы ограничимся здесь последней темой. Глава, интересующая нас в
истории папского престола, этого величайшего из всех западных институтов,
началась 20 декабря 1046 г. с открытия Собора в Сутри[704] императором Генрихом III и закончилась 20
сентября 1870 г. занятием Рима королем Виктором Эммануилом.
Папская Respublica Christiana[705] является единственным в своем роде
человеческим институтом. Попытки установить его характер по аналогии с
институтами, развивавшимися в других обществах, вскрывают отличия столь
фундаментальные, что все мнимые аналогии оказываются тщетными. Наилучшим
образом его можно описать в негативных понятиях – как прямую инверсию
цезарепапистского режима[706], в ответ на
который он явился социальной реакцией и духовным протестом. Это описание лучше,
чем другие, дает представление о масштабе достижения Гильдебранда.
Когда тосканец Гильдебранд поселился в Риме во второй
половине XI столетия, он оказался в заброшенном форпосте Восточной Римской
империи, занятом выродившейся боковой ветвью византийского общества. Эти новые
римляне в военном отношении были презираемы, в социальном – несдержанны, а в
финансовом и духовном – несостоятельны. Они были неспособны справиться со
своими соседями лангобардами. Они утратили все папские вотчины на родине и за
морем. А когда возник вопрос о поднятии уровня монашеской жизни, им пришлось
обратиться за руководством в Клюни, за Альпами. Первые попытки возродить
папство приняли форму игнорирования римлян и назначения трансальпийцев. В этом
презренном чуждом Риме Гильдебранду и его преемникам удалось создать ведущий
институт западного христианства. Они завоевали для папского Рима Империю,
которая обладала большим влиянием на человеческие сердца, чем империя
Антонинов, и которая в чисто физическом плане охватывала огромные пространства
Западной Европы по ту сторону Рейна и Дуная, куда никогда не ступала нога
легионеров Августа и Марка Аврелия.
Эти папские завоевания частично были обусловлены
конституцией той «христианской республики», границы которой папы расширяли,
поскольку эта конституция вызывала доверие, а не враждебность. Она была
основана на соединении церковного централизма и единообразия с политическим
разнообразием и передачей власти. А поскольку верховенство духовной власти над
светской было основным пунктом в ее конституционной доктрине, то это соединение
делало ноту единства доминирующей, не лишая при этом молодое западное общество
тех элементов свободы и эластичности, которые являются неотъемлемыми условиями
роста. Даже в тех областях Центральной Италии, над которыми папство утвердило
не только церковную, но и светскую власть, папы XII столетия одобряли движение
за самоуправление городов‑государств. На рубеже XII‑XIII вв., когда это
гражданское движение было в самом разгаре в Италии и когда авторитет папства
достиг своего зенита в западно‑христианском мире, валлийский поэт «обращал
внимание на то… как удивительно, что папское неодобрение, которое в Риме
никогда не могло изменить и мелочи, в других местах заставляло трястись
скипетры королей»{129}. Гиральд Камбрийский[707] чувствовал, что здесь он столкнулся с
парадоксом, который стал темой для сатиры. Однако сама причина, по которой в
это время большинство государей и городов‑государств западно‑христианского мира
соглашалось с папским верховенством почти не колеблясь, заключалась в том, что
папа находился тогда вне всякого подозрения в попытках посягнуть на владения
светской власти.
Эта государственная отчужденность от светских и
территориальных амбиций соединялась в папской иерархии в период ее зенита с
активным и предприимчивым применением административного дара, который был
византийским наследием папского Рима. В православном христианстве этот дар
роковым образом был использован для того, чтобы насильственно наполнить
содержанием воскрешенный призрак Римской империи и, таким образом, раздавить
подрастающее православно‑христианское общество под гнетом института слишком
тяжелого, чтобы его выдержать на своих плечах. Римские же архитекторы Respublica
Christiana использовали свои административные возможности лучшим образом,
возведя более легкую конструкцию по новому плану и на более широких основаниях.
Тончайшие нити, из которых была первоначально выткана папская паутина, стянули
средневековое западное христианство в естественное единство, равно выгодное и
частям, и целому. И лишь позднее, когда ткань стала грубой и твердой под
напряжением противоречий, шелковые нити превратились в железные обручи, которые
легли таким тяжелым грузом на местных государей и народы, что те в конце концов
в раздражении разорвали узы. В этом состоянии они вряд ли заботились о том,
что, освобождаясь, разрушают вселенское единство, созданное и сохранявшееся
папством.
Но, конечно же, ни административная способность, ни
отсутствие территориальных амбиций не были оживотворяющей творческой силой
этого папского создания. Папство было способно к творчеству, поскольку оно без
колебаний и оговорок бросилось на выполнение задач по направлению, выражению и
организации пробуждающихся стремлений подрастающего общества к более высокой
жизни и к более широкому росту. Оно придало этим стремлениям форму и сделало их
популярными. Тем самым оно превратило их из мечтаний изолированного меньшинства
или отдельных индивидов в общие дела, которые убеждали, что они в высшей
степени достойны борьбы за них. Они сшибали людей с ног, когда те слышали, как
проповедуют об этих делах папы, поставившие на них судьбу папского престола.
Победа «христианской республики» была обеспечена благодаря папским кампаниям за
очищение клира от двух моральных зол – половой распущенности и финансовой
коррупции, а также благодаря кампаниям за освобождение жизни Церкви от
вмешательства светских властей и за избавление восточных христиан и святых мест
из когтей турецких последователей ислама. Однако это не было всецело делом
Гильдебранда. Даже во времена тяжелейшего напряжения великие папы, под чьим
руководством велись эти «священные войны», оставляли запас мысли и воли для
мирных дел. В них Церковь проявляла свои наилучшие стороны и осуществляла свою
наиболее созидательную деятельность в рождающихся университетах, новых формах
монашеской жизни и в нищенствующих орденах.
Падение Гильдебрандовой Церкви представляет собой столь же
замечательное зрелище, сколь и ее подъем. Все добродетели, которые привели эту
Церковь к ее зениту, казалось, превратились, как только она опустилась до
своего надира, в свою прямую противоположность. Священный институт, сражавшийся
и выигравший битву за духовную свободу против материальной силы, теперь
оказался зараженным тем же самым злом, которое сам взялся изгонять. Папский
престол, который вел борьбу с симонией, ныне требовал у духовенства уплаты
пошлин в римскую казну за те продвижения по церковной службе, которые сам Рим
запрещал им покупать у любой местной светской власти. Римская курия, некогда
шедшая во главе нравственного и интеллектуального прогресса, теперь
превратилась в оплот духовного консерватизма. Неограниченная церковная власть
теперь оказалась лишенной своими местными светскими чиновниками – правителями
возвышающихся местных государств – львиной доли плодов деятельности тех
финансовых и административных институтов, которые само папство изобрело для
того, чтобы сделать свою власть более эффективной. В конце концов, в качестве
местного правителя Папского государства, верховный понтифик должен был
удовольствоваться жалким утешительным призом верховной власти над одним из
самых маленьких «государств‑наследников» своей собственной утраченной империи[708]. Давал ли
какой‑либо другой институт такое огромное количество поводов врагам Господа для
богохульства? Это, несомненно, самый крайний пример кары Немезиды за
творчество, с которым мы столкнулись в нашем «Исследовании». Как это случилось
и почему?
Предзнаменование того, как это случилось, можно увидеть в
общественной деятельности Гильдебранда в ее первоначально записанном виде.
Творческий дух Римской церкви, направленный в XI столетии на
освобождение западного общества от феодальной анархии с помощью установления
«христианской республики», столкнулся с той же самой дилеммой, с которой
столкнулись их духовные наследники, попытавшиеся в свое время заменить
международную анархию мировым порядком. Существом их намерения была замена
духовным авторитетом физической силы, и духовный меч был тем оружием, с которым
они одержали величайшие из своих побед. Однако были и такие случаи, когда, по‑видимому,
упрочившаяся власть физической силы безнаказанно оказывала неповиновение
духовному мечу. Именно в подобных ситуациях воинствующей Римской церкви был
брошен вызов – дать ответ на загадку Сфинкса. Должен ли воин Бога отказываться
от использования иного, кроме духовного оружия, в случае, если его слова
окажутся бездейственными? Или он должен сражаться за Бога против дьявола
оружием своего противника? Гильдебранд согласился со второй альтернативой,
когда был назначен папой Григорием VI хранителем папской сокровищницы и
обнаружил, что ее постоянно расхищают разбойники. Он применил вооруженную силу
и искоренил разбойников тапи militari[709].
В тот момент, когда Гильдебранд предпринял этой действие,
внутренний нравственный характер его поступка было сложно определить. В его
последний час, сорок лет спустя, ответ на эту загадку был уже менее темен. В
1085 г., когда он, будучи папой, умирал в ссылке в Салерно, сам Рим лежал
поверженным под тяжестью подавляющей катастрофы, к которой его привела
собственная политика Римского епископа всего лишь за год до того. В 1085 г. Рим
только что был разорен и сожжен норманнами, которых папа призвал для помощи в
его вооруженной борьбе, начавшейся у ступеней алтаря святого Петра – папской
сокровищницы – и втянувшей в себя весь западно‑христианский мир. Высшая точка
физического конфликта между Гильдебрандом и императором Генрихом IV
предзнаменовала еще более беспощадную и опустошительную борьбу, которая должна
была быть доведена до конца спустя более чем полтора столетия, между
Иннокентием IV и Фридрихом II.[710] А когда мы подходим ко времени понтификата
Иннокентия IV, юриста, превратившегося в милитариста, нашим сомнениям наступает
конец. Гильдебранд сам направил свою Церковь по пути, приведшему к победе его
противников – Mipa, плоти и дьявола – над Градом Божиим, который он стремился
оставить после себя на Земле.
Не признает политик, не признавал
никогда
Втайне учитель, ни даже Церковь,
С иерархией на конклаве,
замыслившем посадить
Святого Петра на трон Цезаря и,
таким образом, дать людям
Обещания, за которые они полюбили
и поклоняются Христу,
Ослабив Его небесный закон в
пользу своих земных правил{130}.
Если нам удалось объяснить, как папством завладел демон
физического насилия, которого оно попыталось изгнать, то мы нашли объяснение и
тому, как превратились в свою противоположность иные папские добродетели.
Замена духовного меча материальным была тем основополагающим изменением,
естественным следствием которого явились и все остальные. Как, например,
случилось, что папский престол, чьей основной заботой в отношении доходов
священства было искоренение симонии в XI столетии, в XIII оказался столь
глубоко вовлеченным в распределение прибылей своих кандидатов, а к XIV – во
взимание налогов в свою пользу с тех самых доходных статей Церкви, которые
некогда были избавлены от скандального проституирования и переданы светским
властям для покупки церковных должностей? Ответ прост: папство превратилось в
милитариста, а война стоит денег.
Исход великой войны между папами XIII в. и Гогенштауффенами
явился обычным исходом всех войн, ведущихся до последней капли крови.
Номинальному победителю удалось нанести роковой удар своей жертве ценой
собственных смертельных ранений. Подлинными победителями обеих воюющих сторон
стали нейтральные tertii gaudentes[711].
Когда, спустя полстолетия после смерти Фридриха II, папа Бонифаций VIII[712] метнул в короля Франции папскую молнию,
которая некогда поразила императора, последующие события показали, что папство
в результате смертельной битвы 1227‑1268 гг. оказалось столь же слабым, как и
Империя. В то же время королевство Франция стало таким же сильным, какими были
папство или Империя до того, как они уничтожили друг друга. Король Филипп
Красивый[713] сжег папскую буллу перед собором Нотр‑Дам при
всеобщем одобрении своего духовенства и народа, подготовив похищение папы, а
после смерти своей жертвы добился переноса местопребывания папской
администрации из Рима в Авиньон. За этим последовали «Пленение» (1305‑1378)[714] и «Великий раскол» (1379‑1415).[715]
Теперь уже было ясно, что местные светские государи рано или
поздно унаследуют на подвластных им территориях всю ту административную и
финансовую организацию и власть, которые папство постепенно создавало для себя.
Процесс передачи был только делом времени. Мы можем отметить в качестве вех на
этом пути: английские статуты 1351 и 1353 гг.[716]; уступки
светским властям во Франции и Германии, на которые курия была вынуждена пойти
спустя столетие, заплатив, таким образом, за их отказ поддержать Базельский
собор; франко‑папский конкордат 1516 г. и английский закон о главенстве короля
над Церковью, утвержденный в 1534 г.[717] Передача папских прерогатив светским
правительствам началась за два века до Реформации и была осуществлена как в
государствах, которые оставались католическими, так и в государствах, которые
стали протестантскими. XVI в. явился свидетелем завершения этого процесса.
Конечно же, далеко не случайно, что этот же самый век увидел и закладку тех
оснований, на которых были возведены «тоталитарные» государства современного
западного мира. Наиболее важным фактором в данном процессе, на отдельные
внешние признаки которого мы указали, явилось перенесение набожности со
Вселенской церкви на эти местные светские государства.
Эта власть над человеческими сердцами – самый драгоценный из
всех трофеев, которые государства‑наследники захватили у более обширного и
благородного института, разграбленного ими, поскольку, скорее, именно благодаря
доминирующей преданности, нежели благодаря увеличению доходов и армии, эти
государства‑наследники сами остались в живых. К тому же, именно эти духовные
наследники Гильдебрандовой Церкви превратили прежде безобидный и полезный
институт местного государства в угрозу для цивилизации, что особенно очевидно в
наши дни. Ибо дух набожности, являвшийся благотворной творческой силой, когда
он направлялся по каналам Civitas Dei[718] к Самому Богу, выродился в разрушительную
силу, когда отклонился от своего первоначального объекта и стал поклоняться
идолам, созданным человеческими руками. Местные государства, какими их знали
наши средневековые предки, были созданными руками человека институтами. Будучи
полезными и необходимыми, они заслуживали того, чтобы мы добросовестно, хотя и
не восторженно выполняли те же самые незначительные социальные обязанности,
которые теперь передаем муниципалитетам и советам графств. Идолизировать эти
части социального механизма – значит накликать несчастье.
Теперь мы нашли ответ на вопрос, каким же образом в судьбе
папства произошла необычайная περιπέτεια (внезапная перемена). Однако,
описывая этот процесс, мы не объяснили причину. Почему средневековое папство
стало рабом своих собственных средств и позволило себе, используя материальные
средства, соблазниться на отклонение от духовных целей, которым эти средства
должны были служить? Объяснение, по‑видимому, заключается в неблагоприятных
результатах первоначальной победы. Опасный замысел противопоставить силе силу,
оправданный в тех границах, которые могут быть угаданы интуитивно, но которые
никак невозможно точно очертить, имел роковые последствия, поскольку на первый
раз все закончилось слишком успешно. Опьяненные успехами этого смелого маневра
на первых этапах борьбы со Священной Римской империей, Григорий VII
(Гильдебранд) и его преемники продолжали использовать силу, пока победа в этом
недуховном плане не превратилась в самоцель. Таким образом, если Григорий VII
боролся с Империей с целью устранить создаваемые ею помехи на пути
реформирования Церкви, то Иннокентий IV уже боролся с Империей, чтобы
уничтожить светскую власть самой Империи.
Можем ли мы определить тот момент, в который Гильдебрандова
политика «сошла с рельс» или, выражаясь языком более древней традиции,
отклонилась с трудного и узкого пути? Давайте попытаемся разобрать, где
произошел этот неверный поворот.
К 1075 г. двойной крестовый поход против половой
распущенности и финансовой коррупции духовенства был успешно начат по всему
западному миру. Блестящая победа была одержана благодаря нравственному героизму
папского престола, чье распутство было величайшим из всех скандалов в Церкви
всего лишь полвека назад. Эта победа была личной заслугой Гильдебранда. Он
боролся за нее по ту сторону Альп и за спиной папского престола, пока его
борьба не принесла ему, наконец, должность, которая воздвигла его из праха. И
он сражался всяким оружием – духовным и материальным, – которое оказывалось в
его руках. Именно в этот момент триумфа, на третий год своего правления в
качестве папы Григория VII, Гильдебранд сделал шаг, который его сторонники
могут правдоподобно представить как почти неизбежный, а его критики – не менее
правдоподобно – как почти неизбежно гибельный. В этом году Гильдебранд расширил
поле битвы с не вызывавшей никаких сомнений почвы внебрачного сожительства и
симонии на спорную территорию инвеституры[719].
Логически конфликт по поводу инвеституры можно было бы оправдать
как неизбежное последствие конфликтов по поводу внебрачного сожительства и
симонии, если бы на все три эти битвы смотрели как на одну единую битву за
освобождение Церкви. Гильдебранду в этот критический момент его деятельности
показалось бы напрасным трудом освобождение Церкви от рабства Венеры и Маммоны,
если бы он оставил ее в оковах политической зависимости от светской власти.
Если так долго эти третьи кандалы отягощали ее, то могла ли она не отказаться
от исполнения определенной ей свыше задачи по возрождению человечества? Однако
этот аргумент отвечает на вопрос, который имеют право задать критики
Гильдебранда, даже если они не могут неизбежно дать на него того или иного
окончательного ответа. В 1075 г. таковы ли были обстоятельства, чтобы любой ясно
видящий и здравомыслящий человек, занимавший папский престол, обязан был
предположить, что более уже нет возможности для искреннего и плодотворного
сотрудничества между партией реформаторов в Церкви, представленных римской
курией, и светской властью в христианском содружестве, представленном Священной
Римской империей? В этом вопросе бремя ответственности лежит на Гильдебранде и
его сторонниках, по крайней мере, по двум причинам.
Во‑первых, ни сам Гильдебранд, ни его сторонники никогда не
пытались – ни до, ни после постановления 1075 г. – отрицать, что светские
власти имеют законное право участвовать в процедуре избрания должностных лиц
Церкви, включая самого папу. Во‑вторых, на протяжении тридцати лет,
предшествовавших 1075 г., папский престол действовал рука об руку со Священной
Римской империей в старом конфликте по поводу последствий внебрачного
сожительства и симонии. Следует признать, что взаимодействие с Империей при
решении этих задач приостановилось и не достигло своей цели после смерти
Генриха III и во время малолетства его сына, а после того как Генрих IV достиг
совершеннолетия в 1069 г., его поведение было неудовлетворительным. Именно в
этих обстоятельствах папство начало проводить политику ограничения и запрещения
вмешательства светской власти в распределение церковных должностей. Быть может,
эта политика была оправданна, но следует признать, что это был шаг почти
революционный по своему характеру. Если бы, несмотря на все провокации,
Гильдебранд воздержался и не бросил вызов в 1075 г., вероятно, хорошие
отношения могли бы быть восстановлены. Трудно освободиться от впечатления, что
Гильдебранд поддался соблазну нетерпимости, которая является одним из
отличительных признаков ϋρβις (необузданности), и от дальнейшего
впечатления, что к благороднейшим из его мотивов подмешивалось желание
отомстить имперской власти за унижение вырождающегося папства на соборе в Сутри
в 1046 г. Это последнее впечатление усиливается благодаря тому факту, что
Гильдебранд по принятии папской тиары принял имя Григория, которое прежде носил
папа, смещенный тогда с папского престола.
Поднятие нового вопроса об инвеституре с той
воинственностью, которая неизбежно должна была привести к столкновению между
Империей и папством, было гораздо рискованнее ввиду того, что этот третий
вопрос оказался гораздо менее очевидным, чем два других, по поводу которых обе
власти еще так недавно сходились во взглядах.
Один источник двусмысленности возник из того факта, что ко
времени Гильдебранда установилось такое положение, при котором для назначения
на церковную должность епископского ранга требовалась согласованность
нескольких различных партий. Одним из первых правил церковной дисциплины
являлось то, что епископ должен был избираться духовенством и народом своей
епархии и рукополагаться кворумом епископов своей области. И светская власть
никогда, ни в какое время – с тех пор, как этот вопрос был поднят впервые в
связи с обращением в христианство Константина, – не пыталась узурпировать
обрядовые прерогативы епископов или же отрицать, во всяком случае в теории,
избирательные права духовенства и народа. Роль, которую светская власть играла de
facto (не затрагивая вопроса о том, какой могла быть ситуация de jure),
заключалась в выдвижении кандидатов и использовании права вето в выборах.
Гильдебранд сам определенно признавал это право не один раз.
Кроме того, к XI столетию традиционные доводы для
осуществления некоторой степени светского контроля над церковными должностями
усилились благодаря соображениям практического плана. Духовенство в течение долгого
времени и во все возрастающей степени выполняло не только церковные, но и
светские обязанности. К 1075 г. весьма значительная часть гражданской
администрации в западно‑христианском мире находилась в руках церковников. Они
обладали властью благодаря системе феодального владения, так что освобождение
духовенства от светской инвеституры повлекло бы за собой отмену подсудности
светским властям больших площадей их же собственных земель и превращение Церкви
не только в церковное, но и в гражданское imperium in imperio[720].
Бесполезно говорить о том, что эти гражданские обязанности могли бы быть
переданы светским администраторам. Обе конфликтующие стороны прекрасно
осознавали, что светского персонала, способного исполнять подобного рода
обязанности, не существовало.
О значительности поступка Гильдебранда в 1075 г. говорят
размеры той катастрофы, которая явилась его следствием. В вопросе об
инвеституре Гильдебранд поставил на карту весь нравственный авторитет, который
папство приобрело в течение тридцати предыдущих лет. Его власть над сознанием Plebs
Christiana[721] в трансальпийских владениях Генриха IV была
достаточно велика в соединении с силой саксонского оружия, чтобы привести
императора в Каноссу[722]. Однако, хотя
Каносса и смогла нанести по имперскому достоинству удар, от которого оно так
никогда до конца и не оправилось, ее последствием явился не конец, но
возобновление борьбы. Пятьдесят лет конфликта привели к разрыву между папством
и Империей, разрыву слишком широкому и слишком глубокому, чтобы можно было
восстановить его каким‑либо политическим компромиссом по одному из тех частных
вопросов, в связи с которым этот конфликт возник. Спор по поводу инвеституры
уже давно разложился в своей могиле после конкордата 1122 г.[723], однако
враждебность, порожденная им, продолжала оставаться в силе, находя всегда новые
предметы для разногласий в жестких человеческих сердцах и упрямстве
человеческих амбиций.
Мы так долго рассматривали решение Гильдебранда 1075 г.,
поскольку полагаем, что оно явилось решающим событием, обусловившим весь
дальнейший ход истории. Опьяненный победой, Гильдебранд направил институт,
который сам воздвиг из глубин бесчестья до вершин нравственного величия, по
ложному пути, и уже никто из его наследников не смог вернуться на истинный. Нет
нужды продолжать эту историю дальше в подробностях. Понтификат Иннокентия III
(1198‑1216) был «веком Антонинов» или «бабьим летом» Гильдебрандова папства.
Однако этот папа был обязан своим преимущественным положением случайным
обстоятельствам, таким как продолжительное малолетство в роду Гогенштауффенов.
Его деятельность просто является иллюстрацией того факта, что великолепный
администратор может оказаться недальновидным государственным деятелем. За этим последовали
папская война с Фридрихом II и его отпрыском, трагедия в Ананьи, которая
явилась грубым ударом светской власти в ответ на Каноссу, Авиньонское пленение
пап и Великий раскол, неудачная попытка Соборного движения, обращение Ватикана
в язычество в эпоху итальянского Возрождения, раскол католической Церкви во
время Реформации, нерешительная, но жестокая борьба, начавшаяся
Контрреформацией, духовное ничтожество папства в XVIII столетии и его активный
антилиберализм в XIX.
Однако этот уникальный институт выжил[724]. В столь
решительный час, который мы переживаем сейчас, необходимо, чтобы все мужчины и
женщины западного мира, «во Христа крестившиеся», в качестве «по обетованию
наследников»{131}, а вместе с нами и все язычники, которые сделались
«сопричастниками обетования» и «сонаследниками, составляющими одно тело»{132}благодаря
усвоению западного образа жизни, воззвали к наместнику Христа, дабы он
подтвердил свой грозный титул. Разве не сказал Учитель Петра самому Петру, что
«кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше
взыщут»?{133} Апостолу в Риме наши предки вверили судьбу западного
христианства, которое было всем их богатством. А когда «раб тот, который знал
волю господина своего», «не был готов, и не делал по воле его» и в наказание за
это был бит много, то эти удары падали с одинаковой тяжестью и на тела «слуг и
служанок», чьи души должен был сохранять Servus Servorum Dei[725].
Наказание за ufigig (необузданность) раба пало на наши головы. И именно
благодаря ему, приведшему нас к этому положению, мы можем освободиться от
наказания, кем бы мы ни были – католиками или протестантами, верующими или
неверующими. Если в этот решительный момент появится второй Гильдебранд,
вооружится ли на этот раз наш освободитель заранее мудростью, рожденной
страданием, и сумеет ли избежать рокового опьянения победой, которое погубило
великое создание папы Григория VII?

Краткое
содержание I тома
I. Введение
I. Единица исторического исследования
Умопостигаемыми единицами исторического исследования
являются не нации или периоды, но «общества». Последовательное рассмотрение
глав английской истории показывает, что она представляет собой не
умопостигаемую «вещь в себе», но лишь часть более обширного целого. Это целое
содержит в себе части (например, Англию, Францию, Нидерланды), которые
подвергаются одним и тем же вызовам и стимулам, но отвечают на них по‑разному.
Для иллюстрации этого приводится пример из эллинской истории. «Целое», или
«общество», к которому принадлежит Англия, идентифицируется как западно‑христианский
мир. Измеряется его пространственная протяженность в различные периоды,
устанавливается его происхождение во времени. Оно оказывается старше (хотя и
ненамного) выделившихся из него частей. Исследование его истоков открывает
существование другого общества, ныне уже мертвого, а именно – греко‑римского,
или эллинского, общества, по отношению к которому наше является
«аффилированным». Также становится очевидным, что существует определенное число
других живых обществ – православно‑христианское, исламское, индусское и
дальневосточное общества, а также несколько «окаменевших» реликтов пока еще не
идентифицированных обществ, таких как евреи и парсы.
II. Сравнительное исследование цивилизаций
Цель этой главы – идентифицировать, описать и дать названия
всем обществам (или, правильнее, цивилизациям, поскольку существуют также
примитивные и «нецивилизованные» общества), которые возникли до сих пор. Первый
метод поиска заключается в том, чтобы взять существующие цивилизации, уже нами
идентифицированные, исследовать их происхождение и посмотреть, не можем ли мы
найти ныне угасшие цивилизации, по отношению к которым живые являются
аффилированными, как западно‑христианский мир был аффилированным по отношению к
эллинской цивилизации. Признаками этого отношения являются: (а) универсальное
государство (например, Римская империя), само являющееся результатом «смутного
времени», за которым следует (б) междуцарствие, когда возникает (в) Церковь и
(г) Völkerwanderung (переселение народов) варваров в героический век. Церковь и
Völkerwanderung – плоды соответственно внутреннего и внешнего «пролетариата»
умирающей цивилизации. Используя эти ключевые понятия, мы обнаруживаем, что
православно‑христианское общество, как и западно‑христианское, является
аффилированным по отношению к эллинскому.
Проследив историю исламского общества вплоть до его истоков,
мы обнаружили, что оно является смесью двух первоначально раздельно
существовавших обществ – иранского и арабского. Проследив, в свою очередь,
историю этих обществ до их истоков, мы обнаружили отделенное от них
тысячелетием «эллинского вторжения» угасшее общество, названное сирийским.
Мы обнаружили, что индусскому обществу предшествовало
общество индское.
Дальневосточному обществу предшествовало общество
древнекитайское.
Было обнаружено, что «ископаемые» общества – остатки того
или иного угасшего общества из уже нами идентифицированных.
Перед эллинским обществом мы обнаружили минойское общество,
однако заметили, что эллинское, в отличие от других аффилированных обществ,
идентифицированных до этого времени, не переняло религию, открытую внутренним
пролетариатом предшествующего ему общества. Поэтому его следует рассматривать
как общество аффилированное не в строгом смысле слова.
Мы обнаружили, что индскому обществу предшествовало
шумерское общество.
В качестве ответвлений шумерского общества (вдобавок к
индскому) мы обнаружили еще два общества – хеттское и вавилонское.
Египетское общество не имело ни предшественника, ни наследника.
В Новом Свете мы можем идентифицировать четыре общества:
андское, юкатанское, мексиканское и майянское.
Таким образом, всего мы имеем девятнадцать представителей
«цивилизаций». Если же мы разделим православно‑христианское общество на
православно‑византийское (в Анатолии и на Балканах) и православно‑русское, а
дальневосточное – на китайское и японско‑корейское, то у нас будет двадцать
один представитель.
III. Сравнимость обществ
1. Цивилизации и примитивные общества
Цивилизации имеют, по меньшей мере, одну общую черту, а
именно то, что все они принадлежат к классу, отличному от примитивных обществ.
Эти последние гораздо более многочисленны, но вместе с тем проявляют гораздо
меньше индивидуальности.
2. Ложная концепция «единства цивилизации»
Исследуется и опровергается ошибочная идея о том, что
существует только одна цивилизация, а именно наша собственная. Также
исследуется и опровергается «диффузионистская» теория о том, что цивилизация
происходит из Египта.
3. Доказательства в пользу сравнимости цивилизаций
Цивилизации, собственно говоря, весьма редкое явление в
человеческой истории. Древнейшие из них появились не более 6 000 лет назад.
Предлагается рассматривать их в качестве «одновременных с философской точки
зрения» членов единого «вида». Полуправда о том, что «история не повторяется»,
отбрасывается, поскольку не представляет собой обоснованного возражения
предлагаемому методу.
4. История, наука и вымысел
Это – «три различных метода видения и представления
предметов нашей мысли, а среди них и явлений человеческой жизни». Исследуются
различия между тремя этими техниками и обсуждаются возможности применения науки
и художественного вымысла в представлении предмета истории.
* * *
II. Возникновение цивилизаций
IV. Проблема и неверные пути ее решения
1. Формулировка проблемы
Из наших двадцати одного «цивилизованного» общества
пятнадцать являются родственно‑связанными с предшествующими цивилизациями, а
шесть возникают прямо из примитивной жизни. Примитивные общества, существующие
на сегодняшний день, статичны, однако понятно, что первоначально они должны
были динамично развиваться. Социальная жизнь старше самого человеческого рода.
Ее можно встретить уже среди насекомых и животных, и, должно быть, именно под
эгидой примитивных обществ дочеловек достиг уровня человека – достижение
гораздо более значительное, чем все достижения любой из цивилизаций. Проблема
заключается в следующем: почему и каким образом был разбит этот примитивный
«кристалл обычая»?
2. Раса
Фактором, который мы ищем, должно быть или некое особое
свойство человеческих существ, давших начало цивилизациям, или некие особые
черты окружающей среды того времени, или же взаимодействие двух этих факторов.
Рассматривается и отвергается первая из этих точек зрения, а именно
утверждающая, что в мире существует некая по своей природе высшая раса,
например нордическая, которая «ответственна» за создание цивилизаций.
3. Окружающая среда
Рассматривается и отвергается точка зрения, согласно которой
определенная окружающая среда, предоставляющая легкие и удобные условия жизни,
дает нам ключ к объяснению происхождения цивилизаций.
V. Вызов‑и‑ответ
1. Мифологический ключ
Ошибочность двух уже рассмотренных и отвергнутых точек
зрения заключается в том, что они применяют методы естественных наук, биологии
и геологии, к проблеме, являющейся духовной. Обзор великих мифов, в которых
хранится мудрость рода человеческого, подтверждает возможность того, что
человек достиг уровня цивилизации не благодаря высшему биологическому дару или
географическому окружению, но в результате ответа на вызов в ситуации особой
сложности, которая побудила его предпринять беспрецедентную до того попытку.
2. Миф применительно к проблеме
До появления цивилизации Афразийская степь (Сахара и
Аравийская степь) представляла собой хорошо увлажненную саванну.
Продолжительная постепенная засуха этой саванны бросила ее обитателям вызов, на
который они отвечали различными способами. Некоторые остались на своей земле и
изменили свои привычки, развив, таким образом, кочевнический образ жизни. Другие
переместились на юг, следуя за отступающей саванной в сторону тропиков, и тем
самым сохранили свой примитивный образ жизни, которым продолжают жить и
сегодня. Другие проникли в болота и джунгли дельты Нила и, встретившись с новым
вызовом, принялись за работу по ее осушению, развив египетскую цивилизацию.
Шумерская цивилизация возникла таким же образом и по тем же
самым причинам в дельте рек Тигр и Евфрат.
Древнекитайская цивилизация возникла в долине реки Хуанхэ.
Природа вызова, давшего ей начало, неизвестна, однако ясно, что условия здесь
были, скорее, суровыми, чем легкими.
Майянская цивилизация возникла в результате вызова
тропического леса, андская – в результате вызова лишенного растительности
плоскогорья.
Минойская цивилизация возникла в результате вызова моря. Ее
основателями были беженцы с подвергшихся засухе берегов Африки, переправившиеся
по воде и осевшие на Крите и других островах Эгейского моря. Главное, что они
пришли не с ближайших континентов – Азии и Европы.
В случае родственно‑связанных цивилизаций вызов, послуживший
причиной их появления, должен был первоначально исходить не от географических
факторов, но от человеческого окружения, т. е. от «правящих меньшинств»
обществ, для которых они являются дочерними. Правящее меньшинство, по определению,
является правящим классом, который перестает быть ведущим и становится
деспотическим. На этот вызов внутренний и внешний пролетариат слабеющей
цивилизации отвечают, отделяясь от нее и, таким образом, закладывая основание
новой цивилизации.
VI. Достоинства неблагоприятных условий
Объяснение, данное в последней главе возникновению
цивилизаций, основывается на гипотезе о том, что, скорее, тяжелые, а не легкие
условия приведут к достижению этого уровня. Данная гипотеза подвергается теперь
дальнейшей проверке при помощи примеров, заимствованных из тех местностей, где
цивилизация некогда процветала, но впоследствии пришла в упадок, а земля
возвратилась к своему первоначальному состоянию.
То, что некогда было местом действия майянской цивилизации,
теперь снова стало тропическим лесом.
Индская цивилизация на Цейлоне процветала на безводной
половине острова. Теперь эта половина совершенно бесплодна, хотя руины индской
ирригационной системы остались в качестве доказательства того, что цивилизация
некогда процветала и здесь.
Руины Петры и Пальмиры возвышаются среди небольших оазисов в
Аравийской пустыне.
Остров Пасхи, одно из наиболее удаленных мест в Тихом
океане, некогда, как доказывают его статуи, был центром полинезийской
цивилизации.
Европейские колонисты, населявшие Новую Англию, некогда
сыграли ведущую роль в истории Северной Америки. Теперь это одна из самых
мрачных и бесплодных частей континента.
Латинские селения Римской Кампании, до недавнего времени
представлявшие собой дикую малярийную местность, внесли огромный вклад в
возвышение римской державы. Противоположностью этого является благоприятное
положение и бедность свершениями Капуи. Приводятся также примеры из Геродота,
«Одиссеи» и Книги Исхода.
Туземцы Ньясаленда, где жизнь легка, оставались примитивными
дикарями вплоть до прихода захватчиков из далекой и суровой Европы.
VII. Вызов окружающей среды
1. Стимул суровых стран
Приводятся пары стран, близких друг другу по природной
среде. В каждом случае первой из двух оказывается более «суровая» страна, и она
же показывает более блестящий результат, явившись создательницей той или иной
формы цивилизации: долина реки Хуанхэ и долина реки Янцзы; Аттика и Беотия;
Византии и Халкедон; Израиль, Финикия и Палестина; Бранденбурги Рейнская
область; Шотландия и Англия; различные группы европейских колонистов в Северной
Америке.
2. Стимул новой земли
Мы обнаружили, что «девственная почва» порождает более
сильные ответы, чем та земля, которую уже обрабатывали и «удобряли»
предшествующие «цивилизованные» жители. Так, если мы возьмем аффилированные
цивилизации, то обнаружим, что наиболее выдающиеся из своих ранних достижений
каждая из них породила в тех местах, которые находились за пределами области,
занимаемой их «родительской» цивилизацией. Превосходство ответа, порождаемого
вызовом новой земли, наиболее ясно подтверждается в том случае, когда новой
земли приходится достигать морским путем. Устанавливаются причины этого факта,
а также причины того явления, что эпос развивается на родине, а драма – в
заморских поселениях.
3. Стимул ударов
Приводятся различные примеры из эллинской и западной истории
для иллюстрации той точки зрения, согласно которой неожиданное сокрушительное
поражение способно стимулировать побежденную сторону к приведению своих дел в
порядок и подготовке победоносного ответа.
4. Стимул давлений
Различные примеры показывают, что народы, занимающие
пограничные позиции и подвергающиеся постоянным нападениям, достигают более
блестящего развития, чем их соседи, занимающие более защищенные позиции. Так,
удел османов, поселившихся у границы с Восточной Римской империей, оказался
лучше, чем удел караманов, проживавших к востоку от них. Австрия сделала более
блестящую карьеру, чем Бавария, благодаря тому, что подвергалась
продолжительному нападению оттоманских турок. С этой точки зрения
рассматривается местоположение и судьба различных общин в Британии между
падением Рима и нормандским завоеванием.
5. Стимул ущемления
Определенные классы и расы на протяжении веков страдают от
различных форм ущемления со стороны других классов или рас, имеющих господство
над ними. Ущемленные классы или расы обычно отвечают на этот вызов лишения
определенных возможностей и привилегий, прикладывая исключительную энергию и проявляя
исключительные способности в тех направлениях, которые остались для них
открытыми, – точно так же, как слепой развивает исключительную слуховую
чувствительность. Рабство является, возможно, самой тяжелой формой ущемления,
но из полчищ рабов, вывезенных в Италию из Восточного Средиземноморья на
протяжении двух последних столетий до нашей эры, возник класс
«вольноотпущенников», который тревожным образом стал набирать силу. Из этого
рабского мира также пришли новые религии внутреннего пролетариата, в том числе
и христианство. Судьбы различных групп завоеванных христианских народов при
османском правлении исследуются с той же самой точки зрения – в частности,
случай фанариотов. Этот пример, а также пример евреев используется для
доказательства того, что так называемые расовые характеристики в
действительности вовсе не являются расовыми, но обусловлены историческим опытом
данных общин.
VIII. Золотая середина
1. Достаточно и слишком много
Можем ли мы сказать просто: чем суровее вызов, тем выше
ответ? Или: существует такое явление, как чрезмерно суровый вызов, на который
нельзя ответить? Несомненно, некоторые вызовы, наносившие поражение одной или
нескольким группам, сталкивавшимся с ними, в конечном итоге провоцировали
победоносный ответ. Например, вызов эллинистической экспансии оказался
чрезмерно сильным для кельтов, но породил победоносный ответ со стороны их
преемников тевтонов. «Эллинское вторжение» в сирийский мир вызвало ряд
безуспешных сирийских ответов – зороастрийский, иудейский (маккавейский), несторианский
и монофизитский – но лишь пятый ответ, исламский, оказался успешным.
2. Сравнение по трем элементам
Тем не менее может оказаться так, что вызовы будут слишком
суровыми: то есть максимальный вызов не всегда породит оптимальный
ответ. Викинги‑эмигранты из Норвегии блестяще ответили на суровый вызов
Исландии, но потерпели крах перед более суровым вызовом Гренландии. Массачусетс
бросил европейским колонистам более суровый вызов, чем «Дикси», и породил
лучший ответ, однако еще более суровый вызов, брошенный Лабрадором, оказался
для них чрезмерным. Следуют другие примеры: в частности, стимул ударов может
оказаться чрезмерным, особенно если он затягивается, как в случае воздействия
Ганнибаловой войны на Италию. Китайцев стимулирует социальный вызов, с которым
они сталкиваются при эмиграции в Малайю, но они терпят поражение при попытке
ответить на более суровый социальный вызов в стране белокожих, например в
Калифорнии. Наконец, дается обзор вызовов различных уровней суровости,
бросаемых цивилизациям соседями‑варварами.
3. Две недоразвившиеся цивилизации
Этот раздел является развитием аргумента, содержащегося в
последнем примере предыдущего раздела. Две группы варваров на границах западно‑христианского
мира в первой главе его истории получили такой сильный стимул, что начали
развивать собственные конкурирующие цивилизации, которые, однако, были
пресечены в зародыше. Это дальнезападные кельтские христиане (в Ирландии и на
острове Иона) и скандинавские викинги. Рассматриваются два этих случая и те
последствия, которые произошли бы, если бы христианская цивилизация,
распространявшаяся из Рима и Рейнской области, не поглотила и не присоединила к
себе этих конкурентов.
4. Воздействие ислама на христианский мир
На западно‑христианский мир это воздействие было всецело
благотворным, и западная культура средневековья весьма многим обязана
мусульманской Иберии. На византийское христианство воздействие было чрезмерным
и привело к безуспешной попытке восстановления Римской империи при Льве
Сириянине (Исавре). Также отмечается случай Абиссинии – христианской
«окаменелости» в цитадели, окруженной мусульманским миром.
* * *
III. Рост цивилизаций
IX. Задержанные цивилизации
1. Полинезийцы, эскимосы и кочевники
Может показаться, что раз цивилизация возникла, то ее рост –
дело, само собой разумеющееся. Однако это не так, как свидетельствует история
некоторых цивилизаций, достигших своего уровня, но впоследствии не сумевших
вырасти. Уделом этих задержанных цивилизаций оказалось столкновение с вызовом,
балансировавшим на грани между уровнем суровости, ведущим к успешному ответу, и
более суровым уровнем, влекущим за собой поражение. Представлены три случая, в
которых вызов подобного рода исходил от природного окружения. В каждом из
случаев результатом являлся tour de force (рывок) со стороны отвечавших,
который поглотил все их силы, так что на дальнейшее развитие ничего уже не
осталось.
Полинезийцы предприняли tour de force межостровных
путешествий по островам Тихого океана. Это в конце концов надломило их, и они
снова впали в состояние примитивной жизни на своих нескольких, теперь уже
изолированных, островах.
Эскимосы достигли необыкновенно искусного и
специализированного годового цикла, приспособленного к жизни на берегах
Арктики.
Кочевники дошли до аналогичного годового цикла в качестве
пастухов полупустынной степи. Океан с его островами и пустыня с ее оазисами
имеют много общих черт. Анализируется эволюция кочевничества в периоды
наступления засухи. Отмечается, что охотники стали земледельцами до того, как
сделать следующий шаг и стать кочевниками. Каин и Авель – это типы земледельца
и кочевника. Нашествия кочевников на земли цивилизации всегда вызваны или
усиливающейся засухой, «выталкивающей» кочевников из степи, или надломом
цивилизации, создающей вакуум, «затягивающий» в себя кочевников в качестве
участников Völkerwanderung.
2. Османы
Вызовом, ответом на который явилась оттоманская система,
было перемещение общины кочевников в окружение, где им пришлось управлять оседлыми
общинами. Они решали эту проблему, обращаясь со своими подданными как с
человеческим скотом и вводя человеческие эквиваленты кочевнических овчарок в
форме рабской «гвардии» администраторов и солдат. Приводятся другие примеры
аналогичных кочевнических империй, например, мамлюки; но османская система
превосходила остальные по своей эффективности и продолжительности. Однако,
подобно самому кочевничеству, и она явилась жертвой фатальной косности.
3. Спартанцы
Спартанским ответом на вызов перенаселенности эллинского
мира был tour de force, который во многих отношениях напоминал
османский, с той разницей, что в случае Спарты военной кастой являлись сами
спартанские аристократы. Однако они были также и «рабами», порабощенными
долгом, который на них накладывала необходимость постоянно держать в подчинении
своих греческих собратьев.
4. Общие черты
Эскимосы и кочевники, османы и спартанцы имеют две общие
черты: специализацию и кастовость. (В первой паре собаки, олени, лошади и скот
занимают место человеческих рабских каст османов.) Во всех этих обществах
человеческие существа деградировали, превратившись в процессе специализации в
лодочников, всадников или воинов, до недочеловеческого уровня в сравнении с
разносторонними людьми – идеалом погребальной речи Перикла, которые одни
способны достичь роста в цивилизации. Эти задержанные общества похожи на
общества пчел или муравьев, которые остались неизменными со времени
возникновения человеческой жизни на земле. Они напоминают также общества,
изображенные в «утопиях». Следует обсуждение «утопий», где показано, что
«утопии», как правило, – продукты цивилизаций, находящихся в упадке, и
представляют собой попытки (в той мере, в какой являются практическими
программами) задержать упадок, искусственно поддерживая общество на том его
уровне, на котором оно находится в данный момент.
X. Природа роста цивилизаций
1. Два ложных следа
Рост происходит в том случае, когда ответ на отдельный вызов
не только успешен сам по себе, но и влечет за собой дальнейший вызов, на
который вновь дается успешный ответ. Каким же образом мы можем определить
наличие подобного роста? Не определяется ли он увеличением власти общества над
внешним окружением? Подобное увеличение власти может быть двух видов:
увеличение власти над человеческим окружением, обычно принимающее форму
завоевания соседних народов, и увеличение власти над природным окружением,
выражающееся в материально‑технических усовершенствованиях. Затем приводятся
примеры, чтобы показать, что ни одно из этих явлений – ни военно‑политическая
экспансия, ни усовершенствования в области техники – не являются
удовлетворительным критерием подлинного роста. Военная экспансия обычно
является результатом милитаризма, который уже сам по себе есть симптом упадка.
Усовершенствования в технике – в сельском хозяйстве или промышленности – или
показывают малое отношение к подлинному росту, или вообще никак с ним не
связаны. Фактически, техника может совершенствоваться во времена, когда
настоящая цивилизация находится в состоянии упадка, и наоборот.
2. Движение к самоопределению
Как обнаруживается, подлинный прогресс заключается в
процессе, определяемом как «этерификация» – преодоление материальных
обстоятельств, освобождающее энергию общества для ответов на вызовы, которые с
этого времени становятся, скорее, внутренними, а не внешними, духовными, а не
материальными. Природа этой «этерификации» иллюстрируется примерами из
эллинской и современной западной истории.
XI. Анализ роста
1. Общество и индивид
Бытуют два традиционных взгляда на отношение общество– индивид:
один представляет общество просто как совокупность «атомов»‑индивидов, другой
же рассматривает общество как организм, а индивидов – как части этого
организма, которые так же нельзя исключить, как и членов, или «клетки»,
общества, к которому они принадлежат. Показано, что оба эти взгляда
неудовлетворительны, а истина состоит в том, что общество – это система
отношений между индивидами. Люди не могут существовать сами по себе, без
взаимодействия со своими собратьями, а общество является полем действия, общим
для множества человеческих существ. Но «источником действия» являются индивиды.
Всякий рост начинается с творческих индивидов или меньшинств, и перед ними
стоит двойная задача: во‑первых, достижение вдохновения или открытия в какой бы
то ни было области, а во‑вторых, обращение общества, к которому они
принадлежат, к этому новому образу жизни. Теоретически это обращение может
проходить двумя путями: или через массовое претерпевание подлинного опыта, уже
преобразившего творческих индивидов, или же посредством подражания его внешним
чертам – другими словами, через мимесис. На практике путь через мимесис
является единственной альтернативой, открытой для всех людей, за исключением
немногочисленного меньшинства. Мимесис – это «кратчайший путь», но это та дорога,
по которой рядовые члены общества могут следовать за лидерами всей массой.
2. Уход‑и‑возврат: индивиды
Деятельность творческих индивидов может быть описана как
двойное движение ухода‑и‑возврата: уход – с целью своего личного просвещения,
возврат – с целью просвещения своих собратьев. Это иллюстрируется Платоновой
притчей о пещере, аналогией с зерном из апостола Павла, примерами из Евангелия
и др. Затем это движение показано на примере практических действий из жизни
великих первопроходцев: апостола Павла, св. Бенедикта, св. Григория Великого,
Будды, Мухаммеда, Макиавелли, Данте.
3. Уход‑и‑возврат: творческое меньшинство
Уход с последующим возвратом также характерен для «суб‑обществ»,
являющихся составными частями «обществ» в собственном смысле слова. Периоду,
когда подобные «суб‑общества» вносят свой вклад в рост обществ, к которым
принадлежат, предшествует период, когда они явно удалены из общей жизни своего
общества: например, Афины во второй главе роста эллинского общества; Италия во
второй главе роста западного общества и Англия в его третьей главе. Обсуждается
возможность того, что Россия будет играть аналогичную роль в четвертой главе.
XII. Дифференциация в процессе роста
Рост, как он описан в предыдущей главе, очевидным образом
предполагает дифференциацию между различными частями растущего общества. На
каждой стадии какие‑то из этих частей дадут оригинальный и успешный ответ;
какие‑то – преуспеют в том, что будут следовать руководству первых посредством
мимесиса; каким‑то не удастся ни достичь оригинального решения, ни мимесиса, и
они погибнут. Существует также увеличивающаяся дифференциация между историями
различных обществ, и очевидно, что различные общества имеют различные доминирующие
характеристики: некоторые выделяясь в искусстве, некоторые – в религии, другие
– в промышленной изобретательности. Однако не следует забывать о
фундаментальном сходстве всех цивилизаций в целях. Каждое семя имеет свою
судьбу, но все семена – одного рода, посеянного Сеятелем в надежде на единый
урожай.
* * *
IV. Надломы цивилизаций
XIII. Природа проблемы
Из двадцати шести установленных нами цивилизаций шестнадцать
являются мертвыми, а девять из оставшихся десяти – фактически, все, за
исключением западной, – как оказывается, уже находятся на стадии надлома.
Природу надлома можно обобщить в трех пунктах: нехватка творческой энергии у
творческого меньшинства, которое с этого времени становится просто «правящим»
меньшинством; ответная потеря преданности и прекращение мимесиса со стороны
большинства; последующая утрата социального единства в обществе в целом. Следующей
нашей задачей будет раскрытие причин подобных надломов.
XIV. Детерминистские решения
Некоторые философские школы утверждали, что надломы
цивилизаций вызваны факторами, находящимися вне человеческого контроля.
1. Во время упадка эллинской цивилизации как языческие, так
и христианские авторы полагали, что распад их общества вызван процессом
«космического старения». Однако современные физики относят процесс космического
старения к невероятно отдаленному будущему. Это означает, что данный процесс не
может воздействовать ни на одну из цивилизаций прошлого или настоящего.
2. Шпенглер и другие утверждали, что общества – суть
организмы, естественно переходящие от юности и зрелости к упадку, подобно
другим живым существам. Но общество – это не организм.
3. Другие полагали, что существует процесс неизбежного
вырождения, связанный с влиянием цивилизации на человеческую природу, и что
после периода цивилизации раса может быть восстановлена лишь благодаря приливу
варварской «свежей крови». Эта точка зрения рассматривается и отклоняется.
4. Остается циклическая теория истории в том виде, в каком
она представлена в платоновском «Тимее», в IV эклоге Вергилия и в других
местах. Эта теория, вероятно, восходит к халдейским открытиям, связанным с
нашей солнечной системой, и более широкий взгляд современной астрономии лишает
ее астрономического основания. Нет никаких доказательств в пользу этой теории,
а против нее – масса.
XV. Потеря господства над окружающей средой
Аргументация этой главы представляет собой аргументацию, обратную
высказанной в т. I, где было показано, что увеличение контроля над природным
окружением, выражающееся в технических усовершенствованиях, и увеличение
контроля надчеловеческим окружением, выражающееся в географической экспансии
или военных завоеваниях, не являются критериями или причинами роста. Здесь
показано, что упадок в технической сфере и географическое сокращение
территории, вызванное военной агрессией извне, не являются критериями или
причинами надломов.
1. Природное окружение
Приводятся различные примеры, чтобы показать, что упадок в
технических достижениях являлся результатом, а не причиной надлома. Запустение
римских дорог и месопотамской ирригационной системы было результатом, а не
причиной надломов тех цивилизаций, которые прежде поддерживали их. Приближение
малярии, которое, как полагают, было причиной надломов цивилизаций, на самом
деле, как показано, было результатом надломов.
2. Человеческое окружение
Исследуется и отклоняется тезис Гиббона о том, что «упадок и
разрушение Римской империи» были вызваны «варварством и религией» (то есть
христианством). Эти проявления внешнего и внутреннего пролетариатов эллинского
общества явились последствиями того надлома эллинского общества, который уже
произошел. Гиббон начинает свою историю далеко от ее подлинного начала. Он
заблуждается, принимая век Антонинов за «золотой век», в то время как на самом
деле это «бабье лето». Приводятся различные примеры успешной агрессии против
цивилизаций. Показано, что в каждом из случаев успешная агрессия имела место после
надлома.
3. Отрицательный приговор
Агрессия против общества, еще находящегося в процессе роста,
обычно побуждает его к большему усилию. Даже когда общество уже находится в
упадке, агрессия против него может побудить его к действию и заставить воспрянуть
духом. (Редактор добавляет примечание о значении слова «надлом» как
специфического термина, употребляемого в данном «Исследовании».)
XVI. Неудача в самоопределении
1. Механичность мимесиса
Единственным способом, каким нетворческое большинство может
последовать за своими творческими вождями, является мимесис, представляющий
собой род «муштры», механического, внешнего подражания великим вдохновенным
оригиналам. Этот неизбежный «путь наименьшего сопротивления» к прогрессу влечет
за собой явные опасности. Вожди могут заразиться механичностью своих
последователей, и результатом станет задержанная цивилизация. Или же они могут
нетерпеливо поменять волшебную дуду убеждения на кнут принуждения. В этом
случае творческое меньшинство становится «правящим» меньшинством, а
«последователи» становятся сопротивляющимся и отчужденным «пролетариатом».
Когда это случается, общество вступает на путь распада. Общество утрачивает
способность самоопределения. Следующие параграфы показывают способы, как это
может произойти.
2. Новое вино в старых мехах
В идеале всякая новая социальная сила, освобожденная
творческим меньшинством, должна порождать новые институты, посредством которых
она может действовать. Фактически же гораздо чаще она действует посредством
старых институтов, задуманных в других целях. Однако старые институты часто
оказываются непригодными и неподатливыми. За этим может последовать один из
двух результатов: или распад институтов (революция), или их сохранение и
последующее искажение новых сил, действующих посредством них («чудовищное
извращение»). Революцию можно определить как запоздалый и, следовательно,
несдержанный акт мимесиса; чудовищное извращение – как крах мимесиса. Если
приспособление институтов к силам происходит гармонично, то рост продолжается. Если
оно приводит к революции, рост становится опасным. Если оно приводит к
чудовищному извращению, то можно поставить диагноз надлома. Затем следует ряд
примеров воздействия новых сил на старые институты. Первую группу составляют
примеры воздействия двух новых великих сил, действующих в современном западном
обществе:
– воздействие индустриализма на рабство на примере южных
штатов США;
– воздействие демократии и индустриализма на войну, то есть
интенсификация приемов ведения войны со времен Французской революции;
– воздействие демократии и индустриализма на суверенные
государства, что показано в гипертрофии национализма и провале фритредере кого
движения;
– воздействие индустриализма на частную собственность, что
иллюстрируется появлением капитализма и коммунизма;
– воздействие демократии на образование, что иллюстрируется
появлением «желтой прессы» и фашистских диктатур;
– воздействие итальянской политической системы на
трансальпийские формы правления, что иллюстрируется (за исключением Англии)
появлением деспотических монархий;
– воздействие солоновской революции на эллинские города‑государства,
что иллюстрируется явлениями тирании, стасиса и гегемонии;
– воздействие местничества на западно‑христианскую Церковь,
что иллюстрируется протестантской революцией, «божественным правом королей» и
отступлением христианства на второй план перед патриотизмом;
– воздействие чувства единства на религию, что
иллюстрируется появлением фанатизма и преследований;
– воздействие религии на касту, что показано на примере
индусской цивилизации;
– воздействие цивилизации на разделение труда, проявляющееся
в эзотеризме вождей (которые становятся ίδιώται и односторонности их
последователей (которые становятся βάναυσοι. Последний дефект
иллюстрируется на примерах ущемленных меньшинств, например евреев, и на примере
перегибов современного атлетизма;
– воздействие цивилизации на мимесис, который более не
направлен, как в примитивных обществах, на традиции племени, но на первопроходцев.
Слишком часто первопроходцы, выбираемые в качестве предмета для подражания,
являются не творческими вождями, а коммерческими эксплуататорами или
политическими демагогами.
3. Кара Немезиды за творчество: идолизация эфемерной
личности
История показывает, что группа, которая успешно отвечает на
один вызов, редко успешно отвечает на следующий. Приведены различные примеры,
которые показывают, что данное явление соответствует некоторым фундаментальным
постулатам как греческой, так и еврейской мысли. Те, кто некогда добился
успеха, при следующем случае, вероятно, будут «почивать на лаврах». Евреи,
ответившие на вызовы Ветхого Завета, были побеждены вызовом Нового Завета.
Афины времен Перикла выродились в Афины времен св. апостола Павла. В эпоху
итальянского Рисорджименто центры, которые дали успешные ответы в эпоху
Ренессанса, оказались неспособными, и инициатива была перехвачена Пьемонтом,
который не принимал участия в предшествующих успехах Италии. Южной Каролине и
Виргинии, ведущим штатам США в первой и второй четверти XIX столетия, не
удалось оправиться после Гражданской войны, в отличие от прежде
непримечательной Северной Каролины.
4. Кара Немезиды за творчество: идолизация эфемерного
института
Идолизация города‑государства на последних стадиях эллинской
истории оказалась ловушкой, в которую попали греки, но не римляне. «Призрак»
Римской империи явился причиной надлома православно‑христианского общества.
Примерами могут также служить затормаживающее воздействие идолизации королей,
парламентов и правящих каст, будь то бюрократия или жречество.
5. Кара Немезиды за творчество: идолизация эфемерного
технического средства
Примеры из биологической эволюции показывают, что
совершенная «техника», или совершенная адаптация к окружающей среде, часто
оказывается эволюционным «тупиком» и что менее специализированные и более
«экспериментальные» организмы доказывают свою живучесть. Амфибии успешно
контрастируют с рыбами, а крысообразные предки человека – со своими
современниками, гигантскими рептилиями. В промышленной сфере успех отдельного
общества на первых стадиях развития новой техники, например в случае
изобретения лопастного парохода, заставляет это общество медленнее других
усваивать более эффективный винт. Краткий обзор истории военного искусства от
Давида и Голиафа до наших дней показывает, что в каждый период изобретатели и
люди, пользующиеся их изобретениями, продолжают почивать на лаврах и позволяют
сделать следующее изобретение своим врагам.
6. Самоубийственность милитаризма
Три предыдущих параграфа – это примеры «почивания на
лаврах», которые представляют собой пассивный способ стать жертвой кары
Немезиды за творчество. Теперь мы переходим к активной форме отклонения,
суммированной в греческой формуле κόρος, ύβρις, άτη (пресыщение,
необузданность и умопомрачение). Милитаризм – несомненный тому пример. Причина,
по которой ассирийцы погубили себя, заключалась не в том, что они, подобно
победителям, рассмотренным нами в конце предыдущей главы, позволили своему
оружию «заржаветь». С военной точки зрения, они были умело подготовлены и
постоянно прогрессировали в этой области. Их гибель произошла из‑за того, что
их агрессивность истощила их (кроме того, что сделала их нетерпимыми по
отношению к соседям). Ассирийцы представляют собой пример того, как военная приграничная
провинция обращает оружие против внутренних областей своего же общества.
Рассматриваются аналогичные примеры австразийских франков и Тимура. Приводятся
также и другие примеры.
7. Опьянение победой: папский престол
Тема, аналогичная изложенной в предыдущем параграфе,
иллюстрируется на заимствованном из невоенной сферы примере гильдебрандовского
папства – института, который потерпел поражение после того, как вознес себя и
христианство из пучин до высот. Он потерпел поражение, поскольку, опьянев от победы,
соблазнился беззаконным использованием политического оружия в погоне за
неумеренными целями. Спор об инвеституре рассматривается с этой точки зрения.
Ссылки
1
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник.
СПб., 1995. С. 222.
2
Хюбшер А. Мыслители нашего времени (62 портрета):
Справочник по философии Запада XX века. М., 1994. С. 60.
3
Валери П. Об искусстве. М., 1993. С. 83.
4
God, History and Historians. An Anthology of Modern
Christian Views of History. Ed. by С. Т. Mclntire. New York, 1977. P. 7.
5
Франк С. Л. Духовные основы общества: Введение в
социальную философию//Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли.
Л., 1991. С. 265.
6
Sorokin P. A. Modern Historical and Social
Philosophies. New York, 1963. P. 8‑9.
7
Хюбшер А. Указ. соч. С. 60.
8
Toynbee A. У. Civilization on Trial. New York, 1948.
P. 9‑10.
9
Ibid.
10
Toynbee A. J. A Study of History. Abridgement of
volumes I–VI. New York; London, 1947. P. 214.
11
Диалог Тойнби – Икеда. Человек должен выбрать сам. М., 1998.
С. 368.
12
Sorokin P. A. Op. cit. P. 242‑243.
13
Dawson Ch. Toynbee's Odyssey of the West // The
Commonweal, LXI, № 3 (Oct. 22, 1954). P. 62‑67.
14
Диалог Тойнби – Икеда. С. 369.
15
Там же.
16
Там же. С. 370.
17
Там же. С. 384.
18
Диалог Тойнби – Икеда. С. 385.
19
Тойнби А. Дж. Христианское понимание истории/
/Философия истории: Антология. М., 1995. С. 224.
20
Там же. С. 226.
21
Там же.
22
См.: Singer С. G. Toynbee. Grand Rapids, Michigan,
1965.
23
Диалог Тойнби – Икеда. С. 126.
24
Evans, Sir Arthur. The Earlier Religion of Greece in
the Light of Cretan Discoveries. London. 1931. P. 37‑41.
25
Whyte A. F. China and Foreign Powers. London, 1927.
P. 41.
26
Freeman E. A. Comparative Politics. London, 1874. P.
31‑32.
27
Murphy J. Primitive Man: His Essential Quest. London,
1927. P. 8‑9.
28
Jeans, Sir James. The Mysterious Universe. Cambridge,
1930. P. 1,2.
29
Means P. A. Ancient Civilizations of the Andes.
London, 1931. P. 25‑26.
30
Иов 1,6.
31
Гёте И. В. Фауст: Драматическая поэма/Пер. с нем. Б.
Пастернака. М., 1993. С. 89‑90.
32
Huntington, Ellsworth. Civilization and Climate. New
Haven, 1924. P. 405‑406.
33
Myres J. L. Who were the Greeks? London, 1930. P. 277‑278.
34
Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых
раскопок/Пер. с англ. М. Б. Граковой‑Свиридовой. М., 1956. С. 44‑47.
35
Childe V. G. The Most Ancient East. London, 1928. Ch.
III.
36
Garstin, Sir William. Report upon the Basin of the
Upper Nile. 1904. P. 98‑99.
37
Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых раскопок. С.
31 ‑32.
38
Spinden Н. J. Ancient Civilizations of Mexico and
Central America. New York, 1917. P. 65.
39
Still У. The Jungle Tide. Edinburgh & London,
1930. P. 74‑75.
40
Still J. Op. cit. P. 76‑77.
41
Геродот. История, IX, 122.
42
Drummond H. Tropical Africa. New York, 1888. P. 55‑56.
43
Геродот. История, IV, 144.
44
Полибий. Всеобщая история, IV, 38.
45
Быт. 10, 15.
46
Геродот. История, II, 104; VII, 89.
47
3 Цар. 3,5‑13.
48
Ин. 1, 46.
49
Мф. 13, 57.
50
Gronbech V. The Culture of the Teutons. London, 1931.
Part II. P. 306‑307.
51
Phillpotts В. S. The Elder Edda and Ancient
Scandinavian Drama. Cambridge, 1920. P. 204.
52
Ibid. P. 207.
53
См.: Деян. 1,9‑10.
54
См.: Деян. 1, 10‑1.
55
См.: Деян. 2, 1‑4.
56
Гораций. Оды IV, 9 (пер. Н. С. Гинцбурга).
57
Сатиры III, 62 (пер. Ф. А. Петровского).
58
Пс. 45. 2.
59
The British Admiralty: Manual on the Turanians and Pan‑Turanianism.
P. 181‑184.
60
Гиббон Э. Указ. соч. С. 295.
61
Steensby H. P. An Anthropological Study of the Origin
of the Eskimo Culture. Copenhagen, 1916. P. 43.
62
Ibid. Р. 42.
63
Быт. 4, 1‑5.
64
Toynbee A. J. The Western Question in Greece and
Turkey. London, 1922. P. 339‑342.
65
Быт. 4, 11‑12.
66
Lybyer A. N. The Government of the Ottoman Empire in
the Time of Suleiman the Magnificent. Cambridge, Mass., 1913. P. 36, 45‑46, 57‑58.
67
Busbecq О. G. Exclamatio, sive de Re Militari contra
Turcarn instituenda Consilium. Leiden, 1633. P. 439.
68
Плутарх. Ликург, XV (пер. С. П. Маркиша)/ /Плутарх.
Сравнительные жизнеописания. В 3 т. М., 1961‑1964. Т. I. С. 65.
69
Аристотель. Политика, 1333b‑1334а.
70
Фукидид. История, I, 17.
71
Геродот. История, VI, 98.
72
Carr‑Saunders A. М. The Population Problem. Oxford,
1922. P. 116‑117.
73
Heard G. The Ascent of Humanity. London, 1929. P. 277‑278.
74
Demolins E. Comment la Route crée le Type Social.
Vol. II. Paris, 1918.
75
Housman A. Е. A Shropshire Lad, XXVIII.
76
Гомер. Одиссея, IX, 112‑115 (пер. В. А. Жуковского).
77
Huxley J. S. The Individual in the Animal Kingdom.
Cambridge, 1912. P. 36‑38, 125.
78
Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. Образ и
действительность. Пер. Н. Ф. Гарелина. Новосибирск, 1993. С. 172.
79
Cole G. D. H. Social Theory. London, 1920. P. 13.
80
Бергсон А. Два источника морали и религии. Пер. с фр.
А. Б. Гофмана. М., 1994. С. 335.
81
Там же. С. 102.
82
Там же. С. 248‑253.
83
Мф. 10, 34‑36; ср.: Лк. 12,51‑53.
84
Бергсон А. Два источника… С. 184.
85
Там же. С. 104.
86
См. с. 123.
87
Исх. 19, 3; 31, 18. См. гл. 19 и далее.
88
Ibn Khaldun. Muqaddamat Vol. II. Paris, 1863‑1868. P.
437 (фр. пер. барона М. де Слана).
89
Платон. Государство, VII, 517 а.
90
Пс. 106, 10.
91
1 Кор. 15, 35‑38, 42‑45, 47.
92
Мф. 17, 1.
93
Bryce J. The Holy Roman Empire. London, 1904. Ch. XI,
ad fin.
94
Bagehot W. Physics and Politics. London, 1887. P.
214.
95
Кол. 3, 11.
96
Гал. 1, 15‑18.
97
Шекспир. Ричард II. Действие II, картина I (пер. М.
Донского).
98
См.: Мф. 13, 3‑10. 18‑23; Мк. 4, 3‑8. 14‑20; Лк. 8, 5‑15.
99
К Деметриану//Св. Киприан, епископ Карфагенский.
Творения. М., 1999. С. 275‑276.
100
Jeans, Sir J. Eos, or the Wider Aspects of Cosmogony.
London, 1928. P. 12‑13,83‑84.
101
Гораций. Оды. III, 6 (пер. Н. С. Гинцбурга).
102
Вергилий. Буколики. IV, 4‑7, 34‑36 (пер. С.
Шервинского).
103
Шелли П. Б. Эллада (пер. К. Чемена).
104
Суд. 5, 20.
105
Rostovtzejf M. The Social and Economic Life of the
Roman Empire. P. 302‑305, 482‑485.
106
Jones W. И. S. Malaria and Greek History. Manchester,
1909.
107
Bridges R. The Testament of Beauty. Book 1,11. 594‑595.
108
Пс. 89, 10.
109
Шекспир В. Король Иоанн (пер. Н. Рыковой)//Собр. соч.
Т. 18. СПб., 1997. С. 191.
110
Мф. 9, 1617.
111
Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской
империи: Закат и падение Римской империи. В 7 т. Т. 4. М., 1997. С. 243‑244.
112
Плутарх. Фемистокл, II (пер. С. И. Соболевского).
113
Процитировано по: Woodward W. E. A New American
History. London, 1938. P. 260.
114
Лк. 15, 16.
115
Мф. 23, 12.
116
Мф. 20, 16.
117
Мф. 18, 3.
118
Пс. 117, 22.
119
Даодэцзин, §24 (пер. Ян Хин‑шуна).
120
Tennyson
A. In Memoriam.
121
Heard G. The Source of Civilization. London,
1935. P. 66‑67.
122
Heard G. The Source of Civilization. P. 67‑69.
123
Wells H.
G. The Outline of
History. London, 1920. P. 22‑24.
124
Heard G. The Source of Civilization. P.
71‑72.
125
Илиада, XVI, 211‑217.
126
Платон. Законы, 691с.
127
Мф. 26, 52.
128
Марло К. Тамерлан Великий (пер. Э. Линецкой)//Марло
К. Избранное. М., 1996. С. 102.
129
Mann,
the Right Reverend MonsignorH. K. The Lives of the Popes in the Middle Ages. Vol. XI. P. 72.
130
Bridges
R. The Testament of
Beauty, IV, 259‑264.
131
Гал. 3, 27‑29.
132
Еф. 3, 6.
133
Лк. 12, 48.
[1] Тойнби был полностью согласен с оценкой
Доусона, отмечая, что его мнение о смене циклической системы прогрессивной
справедливо (Toynbее A. J. A Study of History. Volume XII.
Reconsiderations. London; New York; Toronto, 1961. P. 27).
[2] Тойнби имеет в виду промышленный переворот,
или промышленную революцию, – скачок в развитии производительных сил,
заключавшийся в переходе от мануфактурного производства к машинному. В
Великобритании произошел в 60‑е гг. XVIII в. – 10‑20‑е гг. XIX в. В результате
промышленного переворота окончательно утвердился капитализм.
[3] Образованный еще во второй половине XIII в.
как орган сословного представительства, английский парламент вел долгую борьбу
с королями за право контроля над правительством, но лишь после так называемой
Славной революции 1688‑1689 гг. в Англии сложилась сохранившаяся до наших дней
система, по которой правительство (кабинет министров) назначается из
представителей партии большинства в палате общин и ответственно перед ней.
Революция 1688‑1689 гг. закрепила доступ буржуазии к государственной власти.
[4] Эпоху великих географических открытий в конце
XV в. начали испанцы и португальцы, и Англия включилась в данный процесс
позднее. Лишь в конце XVI столетия началось создание английских по селений на
атлантическом побережье Северной Америки (Виргиния), в конце XVIII в. – в
Австралии, в 20‑е гг. XIX в. – в Южной Африке, в середине XIX в. – в Новой
Зеландии. Открытие новых торговых путей и стран, захват и ограбление открытых
земель положили начало эпохе колониализма.
[5] Хотя идеи протестантизма начали проникать в
Англию уже в 10‑ 20‑е гг. XVI столетия, формальной причиной Реформации послужил
отказ римского папы признать развод короля Генриха VIII с Екатериной
Арагонской. Результатом явилось создание Англиканской церкви с королем во главе
(1534), с архиепископами и епископами, с сохранением большинства таинств, но
без культа мощей и икон и без целибата. В 1536 и 1539 гг. была проведена
секуляризация монастырей. Англиканская церковь стала государственной
(established) в Англии и вплоть до XVIII в. вела непрерывную борьбу как с
католиками, так и с различными протестантскими сектами, члены которых
именовались диссидентами.
[6] Термин «Ренессанс» (фр. renaissance; шпал,
rinascimento – «возрождение») был введен Якобом Бурхардтом для обозначения
периода в развитии культуры, особенно искусства, в Италии и других европейских
странах. Начавшийся в Италии на рубеже XIII–XIV вв., в других странах Европы
Ренессанс приходится на конец XV‑XVI в. Отличительными чертами культуры
Ренессанса являются ее светский, антиклерикальный характер, гуманистическое
мировоззрение, обращение к культурному наследию античности («возрождение»
античности, откуда и само название эпохи). Одновременно Ренессанс, будучи
переходным периодом от средневековья к Новому времени, явился не только
культурным движением, но и политическим (становление абсолютизма), и экономическим
(развитие мануфактуры и рынка).
[7] Процесс феодализации, сопровождавшийся
объединением страны и централизацией государственной власти, завершился после
нормандского завоевания 1066 г., когда в страну вторглись нормандские феодалы
во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом, ставшим после победы при Гастингсе
королем Англии под именем Вильгельма I Завоевателя и установившим прямую
вассальную зависимость всех феодалов от короля.
[8] В британской историографии «героическими
веками» называют период (приблизительно 450‑600 гг.), когда германские племена
англов, саксов и ютов завоевывали бывшую римскую провинцию Британию, населенную
кельтскими племенами бриттов. В результате завоевания сложилось несколько
варварских королевств. Хотя в начале V – середине VII в. активную миссионерскую
деятельность в Англии вели ирландские монахи, принадлежавшие к достаточно
независимой от римского престола ветви Вселенской церкви, началом
христианизации Англии обычно считают 597 г., когда папа Григорий I направил
туда миссию во главе со св. Августином. Завершение этого процесса историки
относят к VII в.
[9] Виноградов Павел Гаврилович (1854‑1925)
– русский историк, представитель либерально‑буржуазной историографии, академик
Российской Академии наук (член Петербургской АН с 1914 г.). В 1902‑1008 гг. и с
1911 г. – в Великобритании. Основные труды – по аграрной истории средневековой
Англии (дал классическую характеристику английской вотчины‑манора),
историографии.
[10] Переселение народов (нем.).
[11] Здесь имеется в виду период с конца VIII по
начало XI в. («век викингов»), когда происходили набеги викингов (на Руси они
назывались варягами, в Западной Европе – норманнами), выходцев из Скандинавии,
по всему побережью Европы. Постепенно викинги переходи ли от пиратских набегов
к захвату земель и оседанию на них. В IX в. они захватили Северо‑Восточную
Англию, в X в. – Северную Францию, где создали герцогство Нормандия. С 90‑х
годов X в. датчане снова начали завоевание Англии, стремясь присоединить ее к
Датскому королевству. Король Канут (Кнуд) Великий (ок. 995‑1035) стал в конце
концов государем объединенных Дании (с 1018), Норвегии (с 1026) и Англии (с
1016), однако, когда он умер, между его наследниками начались междоусобицы, и в
1042 г. господство датчан в Англии закончи лось.
[12] Родиной Реформации считается Германия – 31
октября 1517г. в немецком городе Виттенберге местный монах, доктор теологии
Мартин Лютер прибил к дверям церкви для всеобщего обсуждения свою работу «95
тезисов об индульгенциях», в которой критиковал отпущение грехов за плату.
Поднявшаяся волна осуждения со стороны Католической церкви сделала Лютера
вождем нового религиозного движения, получившего название «протестантизм».
Идеологи протестантизма выдвинули ряд тезисов, которыми отрицалась
необходимость Католической церкви с ее иерархией и духовенства вообще (тезис об
«оправдании одной верой» без посреднической роли духовенства в спасении
верующего и идея священства всех верующих), единственным источником религиозной
истины провозгласили Священное Писание, отвергнув католическое Священное
Предание, требовали «дешевой Церкви», отрицали права Церкви на земельные
богатства и т. д.
[13] Под «умершими и ушедшими мирами» Тойнби имеет
в виду Грецию и Рим, служившие идеалами для деятелей итальянского Возрождения.
[14] Актон Джон Эмерик Эдуард Дальберг, лорд
(1834‑1902) – английский историк и политический деятель, профессор истории в
Кембриджском университете, один из редакторов «Кембриджской истории Нового
времени». Основные работы Актона посвящены истории политической и религиозной
свободы (веротерпимости), рассматриваемой с позиций викторианского либерализма.
[15] Бурбоны – королевская династия,
правившая во Франции в 1589‑1792, 1814‑1815 и 1815‑1830 гг. Наиболее известные
представители династии – Генрих IV, Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI,
Людовик XVIII.
Стюарты – королевская династия в Шотландии (1371 ‑1714)
и в Англии (1603‑1649, 1660‑1714). Главные представители – Мария Стюарт, Яков I
(в Шотландии Яков VI), Карл I, Карл II, Яков II.
[16] Тем более (лат.).
[17] Греческая колонизация первоначально была
направлена на решение проблем, связанных с острой нехваткой зерна в родном
городе, и только позже стала способом расширения торговых связей, средством
завоевания новых земель, пригодных для сельского хозяйства. Тойнби здесь имеет
в виду вторую, или Великую, колонизацию VIII‑ VI вв. до н. э., которая
проходила в трех направлениях: а) западном – Сицилия, Южная Италия,
называвшаяся также Великой Грецией, иллирийское побережье, Южная Галлия и
Иберия (наиболее известные колонии: Кумы, Тарент, Сибарис, Кротон, Наксос,
Сиракузы, Массилия и Эмпорий); б) северо‑восточном – Фракия, Пропонтида, Черное
море (колонии Фасос, Кизик, Византии, Сеет, Абидос, Синопа, Трапезунд, Истрия,
Ольвия, Одесс, Пантикапей, Феодосия); в) южном – Африка (колонии Кирена,
Навкратис). Наиболее значительными метрополиями были Халкида (на о. Эвбея),
Коринф, Мегары, Фокея и Милет.
[18] Перикл (ок. 490‑429 гг. до н. э.) –
крупнейший из афинских государственных деятелей, стратег. Законодательные меры
Перикла (отмена имущественного ценза, замена голосования жеребьевкой при
предоставлении должностей, введение оплаты должностным лицам и др.)
способствовали расцвету афинской рабовладельческой демократии. Время его
деятельности было самой блистательной эпохой в истории Афин («золотое
пятидесятилетие»).
[19] Понятие «эллинизм» вошло в историческую науку
после опубликования работы И. Г. Дройзена «История эллинизма» (1836‑1843). В
немецкоязычной литературе это понятие стало означать историческую эпоху,
которая началась с воцарением Александра Македонского и окончилась включением
птолемеевского Египта в состав Римского государства (336‑30 гг. до н.э.).
Борьба за власть между диадохами (полководцами Александра Македонского) привела
к образованию на месте завоеванной Александром империи нескольких государств:
Селевкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и других, политический
строй которых сочетал элементы древневосточных монархий с особенностями греческого
полиса. Культура эллинизма представляла собой синтез греческой и местных
восточных культур.
[20] Романовы – царская (с 1721 г. –
императорская) династия, правившая в России с 1613 по 1917 г.
Османы – династия турецких султанов в 1299/1300‑1922
гг. (основатель – Осман I). От них происходит название султанской Турции –
Османская империя (сложилась в XV‑XVI вв. в результате турецких завоеваний в
Азии, Европе и Африке).
Тимуриды – династия, правившая в Средней Азии в 1370‑
1507 гг. Основатель – Тимур. Наиболее известны: Шахрух (1377‑ 1447), Улугбек
(1394‑1449), Бабур (1483‑1530), основавший в Индии в 1526 г. династию Великих
Моголов.
Маньчжурская династия (другое название – Цин) –
императорская династия в Китае в 1644‑1911 гг. Пришла к власти в результате
завоевания Китая маньчжурами.
Токугава – династия сегунов (правителей) в феодальной
Японии в 1603‑1867 гг., при которых императорская династия была лишена реальной
власти.
[21] В 664 г. в английском городе Уитби на
побережье Северного моря собрался собор Английской церкви, на котором
встретились римские миссионеры во главе со св. Августином и миссионеры ирландские.
Формальной целью собора было урегулирование обрядовых разногласий (форма
тонзуры, день празднования Пасхи), но на деле речь шла о том, каким путем
пойдет Английская церковь: путем церкви Ирландской или Римской? Ирландская
церковь, которую Тойнби считает элементом неразвившейся дальнезападной
христианской цивилизации, представляла собой достаточно разнородное собрание
отшельников и бродячих проповедников, иногда в епископском сане,
группировавшихся вокруг бедных монастырей, приходская организация среди мирян
вообще отсутствовала. Римская же церковь, которая и победила на этом соборе,
являлась мощной централизованной иерархической структурой.
[22] Другой мир (лат.).
[23] Военные походы арабов в середине VII – начале
IX в. завершились завоеванием стран Ближнего и Среднего Востока, Северной
Африки и Юго‑Западной Европы. В ходе арабских завоеваний был создан Халифат –
феодально‑теократическое государство. Во второй половине VII в. у Византии были
отвоеваны Сирия, Палестина, Египет, Северная Африка, в конце VII в. арабы
захватили остров Сицилию. В 711 г. они начали завоевание Испании и, разгромив
вестготское королевство, покорили почти всю страну и вторглись даже во Францию,
но 4 октября 732 г. были разбиты франкским королем Карлом Мартеллом в битве при
Пуатье и вынуждены были отойти к Пиренеям.
[24] Христологические споры, развернувшиеся в
христианском мире в V в., привели к появлению ряда ересей. Так, несториане
(по имени основателя течения Нестория, патриарха Константинопольского в 428‑431
гг.) учили о том, что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии
стал Сыном Божьим.
Монофизиты, крайние противники несториан, утверждали,
что Христос имеет одну природу (по‑гречески – μόνος φύσις) – Божественную.
Ортодоксальным было объявлено учение о том, что Христос двуприроден, –
Божественное и человеческое пребывает в нем нераздельно и неслиянно.
Несторианство было осуждено на Ефесском Вселенском соборе 431 г., а его
сторонники бежали в Иран, Среднюю Азию, Индию и Китай, где образовали
сплоченные группы, объединявшие в основном купцов и ремесленников. Монофизитство
распространилось в восточных провинциях Византии (Египте, Сирии, Армении) и
стало знаменем политического сепаратизма. Осуждено в 451 г. на Халкидонском
Вселенском соборе. Господствует в Армянской, Эфиопской, Коптской (Египетской) и
«Яковитской» сирийской церквах.
[25] Аридная зона (от лат. aridus –
«сухой», «засушливый») – область засушливого климата, зона сухих степей,
полупустынь и пустынь.
[26] Парсы – религиозная община
зороастрийцев в Западной Индии. Парсы являются потомками выходцев из Ирана,
поселившихся в Индии в VII–X вв. (главным образом в Гуджарате) после завоевания
Ирана арабами. Поклоняются огню, мертвых отдают на растерзание грифам, чтобы не
осквернять священных для парсов стихий – огня, воды, воздуха и земли.
[27] Основанный в VI‑V вв. до н. э. Сиддхартхой
Гаутамой (Буддой), буддизм разделился в I в. н. э. на две ветви: хинаяну
(«малая колесница», или «узкий путь») и махаяну («большая колесница», или
«широкий путь»).
Приверженцы хинаяны (южный буддизм) считают Будду
образцом и идеалом поведения, но при этом обычным человеком, отличающимся от
остальных лишь тем, что он открыл путь спасения. Достижение нирваны (в переводе
с санскрита «угасание» – высшее психологическое состояние полноты бытия,
отсутствия желаний, совершенной удовлетворенности и самодостаточности,
абсолютной отрешенности от внешнего мира) возможно для каждого человека, но
исключительно путем личных усилий (идеал архата).
Приверженцы махаяны (северный буддизм) подчеркивали
черты терпимости в этическом учении буддизма и выдвинули идеал бодхисатвы (личности,
получившей благодаря святой жизни возможность перейти в нирвану еще при земном
существовании, но остающейся в миру для помощи остальным верующим). Нирвана
понимается ими как абсолютная реальность, отождествляемая с органической
общностью всех вещей – космическим телом Будды (Дхармакая). Провозглашение
божественности Будды привело в махаяне к появлению сложного культа,
возникновению ритуала.
[28] Джайны – последователи индийской
религии джайнизма (по имени основателя – Махавиры Вардхаманы, именуемого
Джиной, что в переводе означает «победитель»). Подобно буддизму, явился
реакцией на ритуализм и отвлеченную умозрительность брахманизма. Джайны
отвергали авторитет Вед, открыли доступ в свою общину мужчинам и женщинам всех
варн (каст). Целью джайнизма является освобождение от перерождений (нирвана),
достижимое для аскета, соблюдающего строгие правила, в частности правило ахимсы
– непричинения вреда живым существам. Джайны делятся на монахов‑аскетов и
мирян, занимающихся преимущественно торгово‑ростовщической деятельностью
(поскольку, согласно джайнскому учению, соблюдение ахимсы делает невозможным
для джайна земледелие, ибо вспашка земли может повлечь за собой убийство живых
существ – червей, насекомых).
[29] Верденский договор 843 г. закрепил раздел
империи Карла Великого между его внуками – Лотарем (ок. 795‑855), Карлом Лысым
(823‑877) и Людовиком Немецким (ок. 807‑876), которые после смерти своего отца
вели между собой борьбу. Согласно договору, Лотарь, сохранивший за собой титул
императора, получил Италию и земли вдоль Рейна и Роны (впоследствии часть этих
земель была по его имени названа Лотарингией), Карл Лысый – земли на запад от
Рейна, а Людовик Немецкий – земли на восток от Рейна. Так было положено начало
королевствам Франции и Германии.
[30] Римский вал – система укреплений,
пересекающих Великобританию от устья реки Тайн до залива Солуэй‑Ферт.
Воздвигнут по приказу императора Адриана в 122‑124 гг. для защиты от набегов с
севера. При императоре Антонине Пие в 143 г. граница римских владений была
продвинута на север и укреплена еще одним оборонительным валом, однако уже в
184 г. Септимий Север был вынужден отойти к Адрианову валу. До ухода римлян Адрианов
вал оставался северной границей империи.
[31] Период от начала вторжения гуннов и
переселения части готов на территорию империи до окончательного складывания
варварских королевств в Европе и перехода варваров из арианства в
ортодоксальное христианство.
[32] Имеется в виду Вторая Пуническая война (218‑201
гг. до н. э.), в ходе которой Ганнибал, предприняв поход через Пиренеи и Альпы,
в 218‑216 гг. до н. э. чуть не завоевал Италию, но после потери Капуи, Сиракуз,
Тарента и Испании вынужден был вернуться в Африку, где потерпел в 202 г. до н.
э. от Сципиона поражение в битве при Заме.
[33] Слово «пролетариат» здесь и далее используется
для обозначения всякого социального элемента, или группы, существующего в
каждом данном обществе, но не являющегося его частью в каждый период истории
этого общества (Прим. А. Дж. Тойнби).
[34] В Древнем Риме пролетарии (от лат.
proles – «потомство» [как единственное достояние пролетариев]) принадлежали к
беднейшему гражданству и стояли вне системы классов сервианского центурионного
порядка. Были фактически исключены из голосования в народ ном собрании, не
платили налогов и не должны были нести военную службу. Римский люмпен‑пролетариат
принадлежал к паразитирующим слоям общества, хотя, несомненно, какая‑то его
часть была занята производительным трудом.
[35] Термин, употребляемый Тойнби для обозначения
«сыновне‑родственных» обществ (от лат. filius – «сын»; англ. to
affiliate – «принимать в члены», «устанавливать отцовство»).
[36] Выделенные здесь курсивом слова и фразы далее
будут постоянно использоваться как технические термины данного «Исследования» (Прим.
А. Дж. Тойнби).
[37] Вандалы – восточно‑германское племя,
первоначально населявшее полуостров Ютландию. Во II в. н. э. приняли участие в
Маркоманнских войнах и продвинулись на территорию современной Северной Венгрии,
в IV в. обосновались в Паннонии. В 406 г. вместе с аланами и свевами двинулись
на запад и, перейдя Рейн и пройдя всю Галлию, в 409 г. достигли Испании. Одна
часть вандалов была полностью уничтожена, другая же в 429‑439 гг. под
предводительством Гейзериха захватила римскую Северную Африку и обосновалась на
территории современного Туниса. Королевство вандалов стало первым германским
королевством на территории Римской империи. Флот вандалов завоевал господство
на Средиземном море. В 455 г. вандалы разграбили Рим, захватили Балеарские
острова, Сардинию и Корсику. Усиление религиозных разногласий между вандалами‑арианами
и местным православным населением облегчило в 533‑534 гг. византийскому
полководцу Велизарию завоевание королевства.
[38] Остготы – готские племена, бывшие
подданными гуннов. С концом гуннского владычества проникли в Паннонию. Их царь
Теодорих (ум. 526) покорил Италию, затем победил Одоакра в 493 г., время от
времени под его власть попадала Испания. В 552 г. византийцы положили конец
державе остготов.
[39] Губительный, смертельный удар (фр.).
Выражение связано с названием последнего удара палача, прекращающего мучения
казнимого (буквально «удар милосердия»).
[40] Вестготы – ветвь германского племени
готов. В 475 г. стали независимыми и образовали Тулузское королевство, после
чего началась их экспансия в Испании, где в 507 г. возникает Толедское
королевство. В 507 г. король вестготов Аларих II в битве при Пуатье потерпел
поражение от короля франков Хлодвига и был вынужден отдать франкам почти все
владения в Галлии. С 552 и приблизительно до 625 г. некоторые части Южной
Испании находились под властью Византии, однако Толедскому королевству удалось
укрепить свое могущество за счет включения в 585 г. в свой состав государства
свевов и официального принятия христианства в 589 г. (с тех пор соборы Западной
церкви проводились в Толедо). В VII в. произошел значительный культурный подъем
в государстве вестготов, одновременно наблюдались и экономические сдвиги.
Однако несмотря на усилившееся самосознание и харизматический ореол
божественного происхождения королевской власти в государстве вестготов, она
оказалась неспособной противодействовать центробежным тенденциям готской знати
и свободолюбивым устремлениям отдельных народов. В силу этих причин государство
вестготов в период правления Родериха в 711 г. пало под ударами арабов.
[41] Исмаил был сыном Авраама от наложницы его Агари.
Вместе с матерью был изгнан в пустыню Авраамом, когда жена Авраама Сарра родила
Исаака. Он имел 12 сыновей, которые были князьями или родоначальниками 12
племен аравийских, почему арабов и называли исмаилитами (или агарянами).
[42] Меровинги были первой королевской
династией во Франкском государстве (конец V в. – 751 г.). Названы по имени
полулегендарного основателя рода – Меровея. Последний король из этой династии
Хильдерик III (ок. 714‑755, король с 743) был свергнут в 751 г. и пострижен в
монахи своим мажордомом Пипином Коротким, отцом Карла Великого, основателем
династии Каролингов. Королевство Ломбардия, основанное в 568 г.
вторгшимся в Италию германским племенем лангобардов, в 773‑774 гг. было
завоевано Карлом Великим и присоединено к его империи.
[43] Австразия (Austrasia) – меровингское
королевство в восточной части Франкской державы в VI–VIII вв. Его условными
граница ми служили река Маас, Арденны и Вогезы, главные города – Мец и Реймс. В
столкновении с Нейстрией одержало победу и стало колы белью династии
Каролингов.
[44] Альфред Великий (ок. 848‑901) – король
англосаксонского королевства Уэссекс с 871 г. Объединил под своей властью ряд
соседних англосаксонских королевств и победил датских завоевателей. Был
покровителем науки и искусства. Перевел на англосаксонский труды «Об утешении
философией» Боэция, «Обязанности пастыря» Григория Великого, «Всемирную
историю, или О несчастьях мира» Орозия, «Soliloquia» Августина Блаженного и
«Церковную историю англов» Беды Достопочтенного, а также составил первый
общеанглийский сборник законов и начал «Англосаксонские хроники» (890‑ 901).
[45] Фримен Эдуард (1823‑1892) – английский
историк, занимавшийся проблемами исторического познания, теоретик сравнительно‑
исторического метода. Его исторические работы посвящены средне вековой истории
Англии.
[46] Анатолия – в древности название Малой
Азии; в Османской империи название провинции на западе Малой Азии с центром в
Кютахье; с 20‑х гг. XX в. название азиатской части Турции.
[47] В основе разрыва между Западной и Восточной
церквями лежали как политические, так и культурные различия. Римская империя в
дохристианский и христианский период резко разделялась на две половины –
восточную и западную. В первой преобладало греческое население, во второй –
латинское или олатинившееся. Распространившись по всей Римской империи,
христианская Церковь в силу различия характера и образа жизни населения также
заметно распадалась на две половины – восточную и западную. Эти различия нашли
свое выражение в ряде особенностей, которые со временем привели к непримиримым
разногласиям в целом ряде областей, прежде всего в догматической, обрядовой и канонической
сферах. Так, в VI–IX вв. во всех западных Церквях утвердилось учение об
исхождении Святого Духа не только от Бога‑Отца, но и от Бога‑Сына (принцип
«филиокве», от лат. filioque – «и от Сына»). Далее, Западная церковь
допустила у себя много обрядовых отступлений – пост в субботу, совершение
миропомазания одними епископами, безбрачие для всего духовенства (в Восточной
церкви безбрачие обязательно только для монашества), совершение таинства
Евхаристии на опресноках (в Восточной церкви – на квасном хлебе), причем если в
Восточной церкви все участвующие в литургии причащаются хлебом и вином, то в
Западной Евхаристия под обоими видами доступна только для духовенства, миряне
же принимают причастие исключительно опресноками. Наконец, в области канонической
Западная церковь допустила невероятное нововведение, сделав папу римского
главой и верховным судьей Вселенской церкви. Учение о главенстве папы, которое
ставило его выше Вселенских соборов, ниспровергало все церковные порядки и на
практике могло привести к искажению всего христианского вероучения. Тем самым
Западная церковь подготовила свое отпадение от союза с Восточной, и все
разногласия в конечном итоге привели к тому, что в 1054 г. папа Лев IX отлучил
патриарха Константинопольского Михаила Керуллария от Церкви, а тот
анафематствовал папу.
[48] Иконоборчество – религиозное и
социально‑политическое движение в Византии в VIII – первой половине IX в., направленное
против культа икон. Использовалось в VIII в. провинциальной знатью в ее борьбе
со столичной знатью (за политическое влияние). Иконоборчество возглавлялось
императорами Исаврийской династии, которые одновременно с запретом
иконопочитания конфисковывали церковное имущество. Осуждено на Седьмом (Втором
Никейском) Вселенском соборе 787 г. и окончательно запрещено в 843 г.
[49] Следующий Каирский халифат Аббасидов был
эвокацией «призрака» Багдадского халифата, то есть феноменом того же рода, что
и «Восточная Римская империя», и «Священная Римская империя». Во всех трех
случаях аффилированное общество порождало или сохраняло «призрак»
универсального государства своего родительского общества (Прим. А. Дж.
Тойнби) .
[50] Аббасиды – династия арабских халифов,
потомков Аббаса, дяди Мухаммеда, пришедшая к власти в 750 г. в результате
гражданской войны. Опираясь на Иран, Аббасиды превратили Халифат, сто лица
которого была перенесена из Дамаска в Багдад, в общемусульманское государство с
развитым бюрократическим управлением и пышным двором. Расцвет Халифата – при
халифах аль Мансуре (754‑775), аль‑Махди (775‑785), Харун ар‑Рашиде (786‑809),
аль‑Мамуне (813‑833). С конца VIII в. от Халифата, включавшего первоначально
страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, начали отпадать отдельные
области. В 945 г. Бунды – династия правителей Западного Ирана и Ирака –
захватили столицу Аббасидов Багдад и лишили их светской власти. Но для
большинства мусульман аббасидские халифы оставались почетными духовными главами
всех мусульман, хотя и были безвластными. Последний халиф из династии Аббасидов
был казнен в 1258 г. ханом Хулагу, завоевавшим Багдад. Всего было 37 халифов из
этой династии.
Эвокация (от лат. evocatio – «призывание») –
религиозный обряд, посредством которого римляне при осаде города призывали
богов – покровителей осажденных и посвящали им в Риме культовые сооружения.
Римляне верили, что этим они лишали врагов защиты их богов, обеспечивая ее
себе. А. Дж. Тойнби называет эвокацией попытку обращения к традициям
предшествующей цивилизации.
[51] В конце X в. тюркские племена огузов,
обратившиеся в ислам, начали нашествие на Запад, предводительствуемые потомками
хана Сельджука (отсюда их название – сельджуки). В 1035 г. они овладели Средней
Азией, в 1055 г. – Месопотамией, в 1070 г. – Сирией и Палестиной, в 1071 году,
победив византийцев при Манцикерте в Армении, – Малой Азией. Наибольшего
политического могущества сельджуки достигли при Мелик‑шахе (1072‑1092). На
рубеже XI и XII вв. Сельджукское государство распалось ввиду внутренних рас
прей и натиска крестоносцев. Берберские племена, аборигенные на роды Северо‑Западной
Африки, приняли ислам от арабских завоевателей на рубеже VII–VIII вв., но
оставались достаточно независимыми от правителей Халифата. Что касается
аравийских кочевых племен, то они играли очень незначительную роль в истории
Халифата, за исключением начального периода, а также в истории движения
карматов – приверженцев наиболее радикальной из подсект мусульманской шиитской
секты исмаилитов. Их социальными идеалами были восстановление общинной
собственности на землю, всеобщее равенство (которое не распространялось на
рабов). Они создали в 874 г. в Бахрейне (Юго‑Восточная Аравия) государство,
которое просуществовало до XVI в.
[52] Раскол между двумя течениями в исламе
наметился сразу после смерти Мухаммеда в 632 г. и обозначился в середине VII в.
Одна из групп настаивала на том, что халиф должен избираться из рода курейш
всей общиной и обязан руководствоваться в своей деятельности согласным мнением
этой общины и главное – Кораном («ре чью Аллаха») и сунной (не вошедшими в
священную книгу мусульман высказываниями пророка, первоначально бытовавшими в
устной форме). Отсюда название самой группы – «сунниты». Их противники
настаивали на том, что повелитель правоверных мог происходить только из
ближайших родственников основателя ислама и передавать власть по наследству,
ибо его права определяются существующей в «доме пророка» особой духовной силой,
несущей благоденствие людям и обеспечивающей правильное толкование Корана. Они
группировались вокруг двоюродного брата Мухаммеда – Али ибн Абу‑Талиба,
женатого на дочери пророка Фатиме (ок. 605‑633), и называли себя «партия Али» (араб,
шия) – отсюда «шииты». Али был избран халифом, однако далеко не все мусульмане
признали его, и в результате разгоревшейся гражданской войны Али был убит в 661
г. Его приверженцы образовали особое направление в исламе, распавшееся со
временем на множество сект. Шиизм является государственной религией в Иране,
Йеменской Арабской Республике, распространен в Южном Ираке.
[53] Мамлюки (араб. – «невольники») – воины‑рабы,
составлявшие гвардию династии Айюбидов в XII–XIII вв. Быстро превратились в
военно‑феодальную элиту страны. В 1250 г. захватили власть, свергнув египетскую
ветвь Айюбидов, и объявили своего предводителя Мустафу Кутуза султаном.
Государство мамлюкских султанов включало в себя Египет и Сирию. Последний
мамлюкский султан Туман‑бей был повешен на воротах Каира в 1517 г. при
вступлении в город турецкого султана Селима I. Однако мамлюки остались правящей
группой в Египте, и их вожди (беи) были фактическими правителями страны с 1711 по
1798 г., когда они потерпели поражение от Наполеона. После занятия Египта
англичанами в 1801 г. и передачи его туркам мамлюки снова претендовали на
власть, но в 1805 г. турецким наместником (пашой) Египта стал албанец по
происхождению Мухаммед Али (1769‑1849), лавировавший между турками и мамлюками,
опираясь на войско из своих соотечественников. В 1811 г. он приказал перебить
всех бывших в стране мамлюков, избавившись не только от их претензий на власть,
но и от них самих.
[54] Лев Сириянин – имеется в виду Лев III
(ок. 675‑741) – византийский император с 717 г., основатель Исаврийской
династии (которую правильнее называть Сирийской, поскольку Лев был родом из Сирии,
а не из Исаврии, как ошибочно полагали, называя его Исаврийцем). Отразил натиск
арабов в 718 г. у Константинополя, в 740 г. – близ Акроиноса. В 726 г. издал
Эклогу (законодательный свод). В том же году своим эдиктом положил начало
иконоборчеству, думая, что уничтожение почитания икон вернет империи утраченные
ею области и что евреи и мусульмане сблизятся с христианством.
[55] Тимур (Тамерлан) (1336‑1405) –
среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир с 1370 г. Разгромил
Золотую Орду. Совершал грабительские походы в Иран, Индию, Малую Азию и другие
страны. Положил начало династии Тимуридов.
[56] Тойнби здесь имеет в виду Четвертый крестовый
поход (1202‑ 1204), который был организован по инициативе папы Иннокентия III и
направлен против Византии (главным образом благодаря проискам венецианского
купечества). Крестоносцы по пути к Гробу Господню вмешались в очередную распрю,
разгоревшуюся между членами правившей тогда в Византии династии. Западные
рыцари обратили свое оружие не против мусульман, а против византийцев,
поддержав одного из претендентов на византийский престол. С 9 по 13 апреля 1204
г. крестоносцы штурмовали Константинополь, и впервые в истории столица
Византийской империи стала добычей врагов. На завоеванной крестоносцами
византийской территории была основана Латинская империя со столицей в
Константинополе. Помимо непосредственных владений императора, в Латинскую
империю входили Фессалоникийское королевство, Ахейское княжество, Афинское
герцогство и др. В 1261 г. никейский император Михаил VIII Палеолог занял
Константинополь, и Латинская империя пала.
[57] Селим I Грозный (Явуз) (1467/ 1468‑1520)
– турецкий султан с 1512 г. В ходе завоевательных войн подчинил Восточную
Анатолию, Армению, Курдистан (1514), Северный Ирак, Палестину, Сирию (1516),
Египет и Хиджаз (1517).
[58] Омейяды –династия арабских халифов в
661‑750 гг., происходившая из рода Омейя арабского мекканского племени курейш.
При Омейядах арабы завоевали Северную Африку, большую часть Пире нейского
полуострова, Среднюю Азию и другие территории. Столицей халифата Омейядов был
Дамаск. В результате восстания 747‑ 750 гг. под руководством Абу Муслима
Омейяды были свергнуты и к власти пришли Аббасиды. Один из Омейядов –
Абдаррахман I, бежавший в Испанию, основал там Кордовский эмират, положив
начало династии кордовских Омейядов.
[59] Селевкиды – царская династия, правившая
в 312‑64 гг. до н. э. на Ближнем и Среднем Востоке (основная территория –
Сирия). Основана Селевком I (ум. 280 г. до н. э.) – полководцем Александра
Македонского, диадохом, который захватил в 312 г. до н. э. Вавилон и
провозгласил себя царем. Границы царства Селевкидов более или менее
определились к 270 г. до н. э. при Антиохе I (280‑261 гг. до н. э.) и
охватывали большую часть владений бывшей персидской монархии, кроме Египта и
некоторых областей на севере и западе Малой Азии. Наивысшего расцвета
государство Селевкидов достигло при Антиохе III. В 64 г. до н. э. римский
полководец Гней Помпей Великий (106‑48 гг. до н. э.) присоединил Сирию к Риму.
[60] Тойнби прибегает здесь к аналогии,
заимствованной из античного стихосложения: в античной лирике и драматических
хорах антистрофой называлась вторая строфа в паре строф, написанных одним и тем
же метром. Греческий хор при исполнении торжественных од располагался в три
шеренги – сперва он двигался в одну сторону, затем в другую, потом стоял на
месте. Соответственно этому строилась и строфика: двигаясь в одну сторону, хор
пел «строфу» на заданный поэтом сложный ритм; потом, двигаясь в другую сторону,
пел «антистрофу», повторяя точно тот же ритм; а остановившись на исходном
месте, пел «эпод» в похожем, но не тождественном ритме.
[61] На македонский манер (лат.).
[62] Ахемениды – династия древнеперсидских
царей, берущая начало от мифического царя Гахаманиса (греч. Ахеменес).
До середины VI в. до н. э. Персида (небольшая область на юге Ирана) находилась
под властью Мидии. Воцарившийся в 559 г. до н. э. царь Персии Кир II Великий
(ум. 530 г. до н. э.) сверг царя Мидии Астиага и присоединил его земли к своим
в 550 г. до н. э. Завоевал также Малую Азию и Вавилонию (539 г. до н. э.). Его
сын Камбис II (530‑522 гг. до н. э.) покорил Кипр и Египет в 527 г. до н. э., а
Дарий I (522‑486 гг. до н. э.) расширил империю Ахеменидов (на востоке –
включив в нее Индию, а на западе – Ливию), воевал с греками и скифами, жившими
вдоль побережья Черного моря. Держава Ахеменидов пала под ударами Александра
Македонского (330 г. до н. э.) и прекратила свое существование.
[63] Арамеи (арамейцы) – семитические
племена, выходцы из Аравии. В XIV‑XI вв. до н. э. расселились по Передней Азии.
Арамейский язык принадлежит к семитской ветви семито‑хамитской семьи языков.
Арамейское письмо представляет собой вид консонантного (то есть передающего
только согласные) письма, возникшего в начале 1‑го тысячелетия до н. э. на
основе финикийского. Древнейшие памятники относятся к IX–VIII вв. до н. э. К
арамейскому письму восходят сирийское, еврейское квадратное, арабское,
пехлевийское, уйгурское, монгольское письмо.
[64] Нововавилонское царство – название
последнего периода существования Вавилонского государства. Другое его название
– Халдейское (по названию западносемитского народа, проникшего в XI в. до н. э.
из Аравии в Междуречье и смешавшегося здесь с местным населением).
Нововавилонское царство основано 23 ноября 626 г. до н. э., когда в результате
восстания ассирийский наместник Вавилона халдеянин Набопаласар (Набуаплууцур)
объявил себя не зависимым царем. Расцвет Нововавилонского царства приходится на
время правления Навуходоносора II (Набукудурриуцура) (605‑562 гг. до н. э.),
покорившего Сирию, Палестину (в 586 г. до н. э. был взят Иерусалим, и
значительная часть его населения была переведена в Междуречье – так называемое
вавилонское пленение евреев), совершившего в 598 г. до н. э. поход в Северную
Аравию и пытавшегося завоевать Египет. При нем сооружены так называемые
Вавилонская башня и висячие сады.
[65] Заратуштра (Зороастр) (между X и первой
половиной VI в. до н. э.) – пророк и реформатор древнеиранской религии, получив
шей название зороастризм. Составил древнейшую часть зороастрийского канона –
«Авесты», основными принципами которой являются: вера в единого бога
Ахурамазду, противопоставление двух «вечных начал» – добра и зла, борьба между
которыми составляет содержание мирового процесса; вера в конечную победу добра.
Зороастризм был распространен в древности и раннем средневековье в Средней
Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Ближнего и Среднего
Востока, в настоящее время – у парсов в Индии и гебров в Иране. Главную роль в
культе зороастрийцев играет огонь.
[66] Тойнби имеет в виду так называемых последних,
или младших, пророков, которые жили в VII–IV вв. до н. э.: четырех великих
(называются так по обширности оставленных ими после себя пророческих книг) –
Исайю, Иеремию, Иезекииля, Даниила и двенадцать малых – Осию, Иоиля, Амоса,
Авдия, Иону, Михея, Наума, Аввакума, Софония, Аггея, Захарию и Малахию.
[67] Соломон (ум. 922 г. до н. э.) – сын
израильского царя Давида, правил в 961‑922 гг. до н. э. При нем Израильско‑Иудейское
царство достигло своего расцвета, он провел административные реформы, добивался
централизации религиозного культа. Согласно библейской традиции, отличался
необычайной мудростью. Хирам – царь финикийского города Тира (969‑936
гг. до н. э.). Заключил союз с царями Израильско‑Иудейского царства Давидом и
Соломоном. Хирам поставлял в Иерусалим лес для строительства дворцов и Храма и
ремесленников, строивших вместе с подданными Соломона Иерусалимский храм. В
уплату он получал из Палестины хлеб, вино и масло. Не меньшее значение имело и
создание торгового союза между двумя монархами. Корабль Соломона был включен во
флот Хирама, торгующий с далеким Таршишем в Южной Испании, откуда доставлялись
в Финикию и Палестину золото, серебро, экзотические животные и птицы. Взамен
тирский царь получил доступ к порту Эцион‑Гебер на Красном море и тем самым
возможность плавать в богатый золотом Офир, точное местонахождение которого
неизвестно, но который располагался где‑то в районе выхода из Красного моря в
Индийский океан. Что касается алфавита, то в Восточном Средиземноморье долгое
время пользовались либо египетским письмом, либо клинописью. Но в течение 2‑го
тысячелетия до н. э. в Библе появляется особое слоговое линейное письмо,
условно называемое «протобиблским». В нем было около ста знаков, и это письмо
было намного легче для заучивания, чем аккадская клинопись или египетское
письмо, однако для финикийских купцов и мореходов, по‑видимому, обучение
«протобиблскому» письму оказалось недостаточно легким. Поэтому от Синая до
Сирии появляются различные виды упрощенного письма того же типа. Так удалось
создать консонантный алфавит с числом букв от 30 до 22. Форма букв могла быть
разной: в Угарите писали на глиняных плитках, как в Вавилонии, и буквы
«собирались» из клинообразных черточек, в ханаанейской Финикии разработали
линейные формы 22 согласных букв (вероятно, в XIII в. до н. э.), и этот‑то
финикийский алфавит является предком всех алфавитов как Запада, так и Востока.
[68] Древнейшая в Южной Азии цивилизация носит
название индской, поскольку она возникла в долине реки Инд в Северо‑Западной
Индии. Иногда она еще именуется хараппской (по названию Хараппы – одного из
крупнейших городских центров). Открытие культуры долины Инда произошло
сравнительно недавно (с 20‑х гг. XX в.), и по разным причинам она известна
хуже, чем существовавшие одновременно с ней культуры Египетского и Аккадского
государств. Для нее было характерно использование бронзы, строительство
городов, а также изобретение письменности. Эти Основные признаки и позволяют
говорить о возникновении цивилизации, то есть древнего гражданского общества и
государственности. Открытие городов 3‑го тысячелетия до н. э. в долине Инда
было столь неожиданным, что долгое время в науке господствовало убеждение, что
культура принесена сюда извне уже в готовом виде (предположительно, из Шумера),
однако в последнее время в результате многолетних археологических раскопок
начинает проясняться древнейшая история данного региона. По мнению ученых,
хронологические рамки индской цивилизации – 2330‑1700 гг. до н. э. Примерно к
концу XVIII в. до н. э. она перестала существовать. С достаточной уверенностью
можно утверждать, что она погибла в результате внезапной катастрофы:
постепенно, в течение столетий приходили в упадок некогда цветущие города,
ветшали величественные постройки, застраивались широкие улицы города,
нарушалась его планировка, происходила смена городов сельскими поселениями и
варваризация культуры. После гибели индской цивилизации на месте опустевших
городов остались одни лачуги, однако ее культурное наследие сохраняется в
религиозных верованиях и культах позднейшего индуизма.
[69] Период «Золотого века Гуптов» длился с IV по V
в. Основателем государства Гуптов явился Чандрагупта I – правитель одного из
мало значительных царств на территории Магадхи (область в Северо‑Вос точной
Индии в долине Ганга с центром в Паталипутре). Женитьбой на царевне из
могущественного и древнего рода Личчхи он обеспечил себе поддержку этого рода и
значительно увеличил территорию своего царства, присоединив в числе других
городов и город Паталипутру. Впоследствии распространил свою власть на всю
Магадху и на центральную часть долины Ганга. Дата вступления на престол
Чандрагупты I – 320 г. (начало «эры Гупта») – условно считается годом основания
государства Гуптов, получившего наименование от правящей династии. Сын
Чандрагупты I Самудрагупта (350‑370) совершил ряд успешных завоевательных
походов, подчинив государства в верхней части долины Ганга и в Центральной
Индии. Наивысшего могущества империя Гуптов достигла при сыне Самудрагупты
Чандрагупте II Викрамадитье (376‑415), который подчинил шакских царьков в
Западной Индии, распространив таким образом свою власть от Бенгальского залива
до Аравийского моря, а также овладел большей частью Пенджаба.
[70] В середине V в. начались вторжения в Индию из
Средней Азии кочевников‑эфталитов (этническая принадлежность которых до конца
не ясна, но которые в большинстве индийских источников называются гуннами).
Период с 450 по 455 г. был очень тяжелым для государства Гуптов. Первое
наступление эфталитов было с большим напряжением сил отражено, и при
Скандагупте (455‑467) государство еще сохраняло территориальное единство и
отражало отдельные набеги эфталитов; однако после смерти Скандагупты начинается
распад государства Гуптов, оказавшегося неспособным к длительному военному напряжению.
К концу V в. власть царей из династии Гуптов распространялась уже только на
Магадху и на не большие территории к востоку и югу от нее, а в середине VI в.
империя прекратила свое существование, хотя представители рода Гуптов
продолжали править в Магадхе вплоть до VII в.
[71] Шанкара (конец VIII–IX в.; традиционные
даты 788‑820) – индийский мыслитель, ведущий представитель веданты, создатель
системы религиозно‑философского умозрения индуизма, религиозный реформатор и
полемист, мистик и поэт. Синтезировал все предшествующие ортодоксальные (то
есть признающие авторитет Вед) системы, развил последовательно монистическое
учение адвайты‑веданты. Главные сочинения: комментарии на «Упанишады», «Веданта‑сутру»,
«Бхагаватгиту».
[72] Деметрий I – греко‑бактрийский царь
(200‑185 гг. до н. э.), сын бактрийского царя Евтидема I и зять сирийского царя
Антиоха III. Сделавшись царем Бактрии, Деметрий значительно расширил пределы
своих владений в южном направлении. По свидетельству Страбона, он и его ближайшие
преемники овладели Панталеной и завоевали индийские царства Сараостра и
Сигердиды (поскольку Панталеной в древности называли низовья Инда, а Сараостром
– Катхивар, то можно заключить, что в первой половине II в. до н. э. бактрийцы
распространили свою власть на значительную часть Индии). В первой половине I в.
до н. э. большинство греко‑индийских княжеств было завоевано саками.
[73] Чандрагупта Маурья (ум. 293 г. до н. э.) между
323 и 317 гг. до н. э. захватил престол в Магадхе и возглавил антимакедонское
восстание, которое привело к изгнанию македонских гарнизонов из Индии.
Чандрагупта явился основателем династии Маурьев, с правлением которой связано
образование самого мощного в истории Древней Индии государства – империи
Маурьев. Внук его Ашока (правил в 268‑232 гг. до н. э.) получил в наследство
огромное государство, со единив под своим владычеством почти весь субконтинент.
Время его правления называют «золотым веком Индии». Со времени правления Ашоки
буддизм становится в Индии государственной религией. После смерти Ашоки
начинается ослабление империи Маурьев. Последний представитель Маурьев
Брихадратха был около 187 г. до н. э. был свергнут и убит своим военачальником
Пушьямитрой, положившим начало новой династии Шунга.
[74] Будда (санскр. – «просветленный»,
«пробужденный») – имя, данное основателю буддизма принцу Сиддхартхе Гаутаме
(563‑473 гг. до н. э.), происходившему, по преданию, из царского рода племени
шакьев в Северной Индии. В возрасте тридцати лет он покинул дом, жену и сына,
чтобы постичь суть жизни и найти путь к преодолению человеческих страданий.
После семи лет отшельничества и скитаний вблизи местности Гайа поддеревом Бодхи
он достиг просветления и из бодхисатвы стал Буддой Шакьямуни («просветленным
мудрецом из рода шакьев»).
[75] Махавира Вардхамана – основатель
джайнизма. Традиционная его биография сходна с биографией Будды. Ему также
приписывается знатное происхождение, он также в зрелом возрасте покинул родительский
дом, чтобы жить отшельником. Двенадцать лет вел он жизнь аскета, а на
тринадцатом стал Джиной – победителем (отсюда и название религии – джайнизм).
[76] Веды (санскр. «Веда» – букв, «знание»)
– памятники древне индийской литературы (конец 2‑го – начало 1‑го тысячелетия
до н. э.) на древнеиндийском (ведийском) языке. Веды, или ведическую
литературу, составляют сборники гимнов, молитв и жертвенных формул (Ригведа,
Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа), теологические трак таты («Брахманы»,
«Упанишады»). Ведические тексты содержат как представления, которые
существовали у ариев до их прихода в Индию, так и элементы верований аборигенов
полуострова Индостан.
[77] Цинь – императорская династия в Китае в
221 ‑206 гг. до н. э. Правитель царства Цинь (одного из крупнейших государств в
Китае) Ин Чжен (259‑210 гг. до н. э.; правил с 246 г. до н. э.) объединил Китай
под своим владычеством и в 221 г. до н. э. принял титул Цинь Шихуанди (Первый
император Цинь). При нем была возведена знаменитая Великая Китайская стена. Был
противником конфуцианства (по его приказу сожжена гуманитарная литература и
казнены 460 ученых) и сторонником школы фацзя. Его сын и наследник Эр Шихуанди
(210‑207 гг. до н. э.) оказался вторым и фактически последним представителем
династии Цинь. Империя Цинь пала в результате народного восстания,
возглавленного деревенским старостой Лю Баном (207 г. до н. э.). Лю Бан,
выходец из бывшего царства Хань, стал в следующем году императором, основав
династию Хань (правила Китаем с 206 г. до н. э. по 220 г. н. э.). Время
правления династии разделяется на два периода: Старшая (Первая, Западная) Хань
(206 г. до н. э. – 8 г. н. э.) и Младшая (Вторая, Восточная) Хань (25 г. – 220
г.). В промежутке между временем правления двух династий в 9‑25 гг. правил
узурпатор Ван Ман, свергнутый в результате восстания «красных бровей». К власти
пришел дальний родственник ханьских императоров царевич Лю Сю (известный в
истории как император Гуан У‑ди (25‑57 гг.), положивший начало новой династии
Младшая Хань. Восстание «желтых повязок» (187‑204 гг.), хотя и было подавлено,
привело к ослаблению и распаду Ханьской империи на три самостоятельных царства
(220 г.).
[78] Чжаньго (Борющиеся царства) – период
эпохи Чжоу в Китае (403‑221 гг. до н. э.). Отмечен борьбой царств Цинь, Хань,
Вэй, Чжао, Янь, Ци, Чу за господство в стране. Окончился приходом к власти Цинь
Шихуанди и объединением Китая. Этот период отмечен подъемом китайской культуры
(прежде всего появлением философских школ – конфуцианства, даосизма, фацзя и
др.).
[79] Конфуций (Кунцзы)(ок. 551‑479гг. дон.
э.) – древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства. Основные его взгляды
изложены в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»). В центре философии Конфуция
проблемы человека, его умственного и нравственного облика. Первым разработал
концепцию идеального человека (цзюньцзы), благородного мужа – не по
происхождению, а благодаря воспитанию в себе вы сокиqх нравственных качеств и
культуры, – который должен прежде всего обладать жэнь – гуманностью,
человечностью, любовью к людям; проявления жэнь – справедливость, верность, искренность
и т. д. Особое место занимала концепция сяо – сыновней почтительности, уважения
к родителям и к старшим вообще; Конфуций считал сяо основой жэнь и других
добродетелей и самым эффективным методом управления страной (ибо страна – это
большая семья). Наконец, Конфуций придавал большое значение юе – музыке,
лучшему средству изменения плохих нравов и обычаев, а главенствующую роль
отводил ли – этикету, то есть правилам благопристойности, регулирующим
поведение человека в разных жизненных ситуациях. Исходной точкой учения
Конфуция о четком иерархическом разделении обязанностей в обществе была
концепция чжэн мин – исправления имен, то есть приведения вещей в соответствие
с их названием. Идеи Конфуция сыграли огромную роль в последующей истории Китая
и наложили свой отпечаток на все стороны жизни страны вплоть до наших дней, а
сам Конфуций стал объектом поклонения.
[80] Зенон из Китиона (Зенон Стоик) (ок. 333‑262
гг. до н. э.) – древнегреческий философ, основоположник стоицизма. Обратился к
философий после пережитого кораблекрушения. Около 300 г. до н. э. основал свою
школу. Во взглядах Зенона на мир как организм и в учении о дыхании (пневме)
сказалось влияние античных медицинских теорий, его космология и теория познания
обнаруживают влияние физики Гераклита, телеологических идей Сократа, Платона и
Аристотеля, а также критики платоновской теории общих понятий и идей у киников
и Стилпона. Этика Зенона исходит из сократовского представления о разумной
природе человека и его врожденной склонности к добродетели.
[81] При Акции (мыс в Северо‑Западной Греции) 2
сентября 31 г. до н. э. флот Октавиана под командованием Агриппы разбил морские
силы Антония и Клеопатры, что решило спор о единовластии в Римской державе в
пользу Октавиана.
[82] Лаоцзы (кит. – букв, «старый учитель»),
собственное имя Ли Эр (Ли Боян, Лао Дань) – древнекитайский легендарный
основатель даосизма. Согласно преданию, родился в 604 году до н.э., однако
историчность его личности вызывает сомнения. Был историографом‑архивариусом при
Чжоуском дворе; будучи уже стариком, встретился с Конфуцием; жил якобы 160 или
200 лет. Ему приписывается составление «Дао дэ цзина». В своих философских
построениях разрабатывал три основные концепции: дао, дэ и у‑вэй. Дао –
естественный путь возникновения, развития и исчезновения всех вещей и
одновременно материальная праоснова их существования. Дэ, которое в
конфуцианстве означает этическую норму, мораль, нравственное качество, у Лаоцзы
выступает лишь как постоянное свойство, качество, атрибут вещей, то, через что
обнаруживается незримое и неслышимое дао, благодаря чему оно проявляется в мире
вещей (своего рода «энергия»). Оригинальная концепция у‑вэй (букв. –
«недеяние», «бездействие») означает подчинение естественному процессу, гармонию
с дао, отсутствие всякого действия, идущего вразрез с ним. Учение Лаоцзы
оказало сильное воздействие на другие школы китайской философии.
[83] Первоначальным ядром Кушанской империи была
древняя Бактрия. Между 140и 130гг. дон. э. ее завоевали племена юэчжей,
вторгшиеся из‑за Сырдарьи (местом их первоначального расселения считается
Северный Китай, откуда их в первой половине II в. до н. э. вытеснили хунну).
Согласно свидетельствам китайских историков, расселившись в Бактрии, юэчжи
образовали здесь пять самостоятельных княжеств – Хюми, Шуанми, Гуйшуань
(самоназванием этого княжества было Кушан), Ситунь и Гаофу. Спустя полтора столетия
все они объединились под властью Кушана‑Гуйшуаня. Царь Кадфис I (30‑80)
объединил под своей властью Бактрию и двинулся дальше на юг, подчинив
разрозненные владения индо‑парфянских царьков в Арахосии и Гандхаре.
После этого он принял титул «царь царей». При царе Кадфисе II (80‑103) границы
Кушанской империи достигли низовьев Инда. Она включала в себя всю территорию
современного Афганистана, значительную часть Средней Азии и всю Северо‑Западную
Индию. Расширение империи шло и на северо‑восток. В последние годы царствования
Кадфиса II и в начале правления его преемника Канишки I (103‑126) расширение
владений кушанов в Индии временно приостановилось, так как в их среднеазиатские
владения вторглись китайские войска под командованием Бань Чао. На вторую
половину правления Канишки I приходится период наибольшего могущества Кушанской
империи. Происходит процесс индианизации кушанов. Взаимодействие индийской и
среднеазиатских культур привело к возникновению в пределах Кушанской империи
особого стиля в изобразительном искусстве, называемого кушанским. Канишка I
принял буддизм и был его ревностным покровителем. При нем был созван Второй
буддийский собор, определивший основы вероучения реформированного буддизма.
Канишка I основал много монастырей, возвел множество ступ и буддийских храмов,
поощрял миссионерскую деятельность буддийских монахов. Именно при нем буддизм
начал широко распространяться в Средней Азии и Китае. Однако Кушанская империя,
разноплеменная по своему составу и не имевшая более или менее прочных внутренних
связей, не могла быть устойчивым государством. Царь Канишка был задушен во
время восстания, а при его преемниках начинается ослабление государства. В 30‑х
гг. III в. империя кушанов окончательно пришла в упадок.
[84] Китайская традиция относит появление в Китае
первых буддийских проповедников еще ко II в. до н. э. Почва для буддизма была
подготовлена даосскими сектами. Есть сведения, что именно с этими секта ми был
в первое время связан напрямую постепенно проникавший в Китай буддизм. Однако
распространение буддизма в Китае началось значительно позднее (не ранее I–II
вв. н. э.). Буддизм внес новую струю в развитие китайской философии и оказал
сильное влияние на китайскую культуру. С III в. в Китае появляются буддийские
монастыри, которые становятся крупными землевладельцами, и уже с IV в. буддизм
приобретает огромное влияние в стране.
[85] «Талассократия» (греч. θαλασσoκρατία :
– «господство на море») – название, закрепившееся за островом Крит. Господство
царей критского города Кносса над архипелагами и побережьем Эгейского моря
отразилось в легендах о мудром и справедливом царе Миносе, жившем еще до
Троянской войны, сыне Зевса и Европы, суп руге Пасифаи, отце Ариадны и Федры.
Минос был выдающимся законодателем, а также приказал Дедалу построить лабиринт
для Минотавра. После смерти Минос стал вершить правосудие в Аиде вместе со
своими братьями Радамантом и Эаком. По имени царя Миноса древнекритская
культура была названа минойской.
[86] В археологии принято деление истории древнего
Крита на три периода: раннеминойский (3000‑2200 гг. до н. э.), среднеминойский
(2200‑1580 гг. до н. э.) и позднеминойский (1580‑1050 гг. до н. э.). Каждый из
этих периодов разделяется, в свою очередь, на три подпериода. Позднеминойский
II период приходится приблизительно на 1550‑1350 гг. до н.э.
[87] Имеется в виду Хеттское царство, государство в
Малой Азии в XVIII – начале XII в. до н. э. Основано хеттами в восточной
Анатолии. В истории Хеттского царства выделяют два периода: Древнехеттское
царство – ок. 1650‑1500 гг. до н. э. и Новохеттское царство – ок. 1430‑1200 гг.
до н. э. В период расцвета (XIV–XIII вв. до н. э.) охватывало обширную территорию
от Средиземного до Черного моря, включая Сирию и Финикию, и выступало
соперником Египта в борьбе за господство в Передней Азии. В конце XIII в. до н.
э. началось нашествие «народов моря» – грандиозное переселение индоарийских
племен из района Балкан в Азию. В это время из‑за разрыва старых торговых
связей в стране хеттов наступил голод. Последнему царю Суппилулиумасу II
пришлось вести тяжелые войны против нападавших на него племен и отпавших
правителей окраинных областей. Территория его державы быстро сокращалась.
Приблизительно к 1200 г. до н. э. царство Хатти пало под ударами племен, чья
этническая принадлежность еще не до конца ясна, и восточная Малая Азия
запустела на триста‑четыреста лет.
[88] Новое царство (XVIII‑XX династии) –
название периода в истории Египта с 1552 по 1070 г. до н. э. На него приходится
расцвет страны, когда были завоеваны Сирия, Палестина, Куш и другие территории.
[89] Здесь А. Дж. Тойнби имеет в виду вторжение в
Малую Азию племен эгейского мира, названных в египетских источниках «народа ми
моря». «Ни одна страна, начиная с Хатти, не устояла перед их войсками», –
отмечается в одной из египетских надписей. Причины и характер этого движения,
его этнический состав и хронология до сих пор не вполне ясны. Однако
несомненно, что к ним принадлежали греки‑ахейцы, разрушившие Трою, может быть,
протоармяне, поло жившие конец Хеттскому царству, и еще какие‑то племена,
известные только по именам. Они выступали в союзе с ливийцами, нападая вместе с
ними на Египет с суши (с востока и запада) и с моря (с севера). Нашествие
развернулось с конца XIII в., кульминации же достигло в начале XII в. с
разрушением Хеттского царства. Продвижение их на Египет было остановлено
фараоном Рамсесом III после середины XII в. Два племени из числа «народов
моря», известные в дальнейшем под названием филистимлян (от их имени происходит
само слово «Палестина»), осели на плодородном палестинском побережье и создали
здесь союз пяти самоуправляющихся городов.
[90] «Кольцо Нестора» – найденный при
раскопках древнего Пилоса золотой перстень. Название получил с легкой руки
известного археолога А. Эванса в память о царе Пилоса Несторе, упоминаемом
Гомером в «Илиаде».
[91] Дионис – греческий бог виноградарства и
виноделия, именовавшийся также Вакхом. Сын Зевса и Семелы, дочери фиванского
царя, после смерти матери был выношен Зевсом в бедре. Культ Диониса имеет
фракийско‑фригийское происхождение. Легенды повествуют о противодействии
введению культа Диониса в Греции. Культ Диониса преследовался его противниками
(Ликург, Пенфей), однако распространился до Индии. Почитательницы Диониса,
называемые менадами, или вакханками, прославляли его в оргиастическом культе. В
честь Диониса в Аттике праздновались дионисии, ленеи, анфестерии. Апогеем
празднеств были фаллические процессии. Из культовых песен Диониса постепенно
развивалась драма.
[92] Элевсинские мистерии – тайные обряды в
честь богини плодородия Деметры, проводившиеся два раза в год в городе Элевсине
близ Афин. Посвященный в мистерии обеспечивал себе нравственное очищение,
духовное возрождение и блаженство в загробном мире. О мистериях известно крайне
мало ввиду их эзотеричности, однако установлено, что, кроме молений и
жертвоприношений Деметре, Дионису и другим богам, там поклонялись безымянному
Богу и Боги не, покровителям плодородия.
[93] Асы (др.‑исл. aesir, ед. число – ass) –
в скандинавской мифологии основная группа богов, возглавляемая Одином (отцом
большинства асов), иногда – обозначение богов вообще. Обитают в небес ном
селении Асгарде. В «Младшей Эдде» перечисляются 12 асов: Один, Тор, Ньёрд, Тюр,
Браги, Хеймдалль, Хёд, Видар, Али, Улль, Форсети, Локи. Помимо них, называются
Бальдр и Фрейр в качестве сыновей Одина и Ньёрда. Кроме того, упоминаются также
и 14 богинь («асинь»). Включение слова «асы» в собственные имена у раз личных
германских племен и упоминание Иорданом культа асов у готов свидетельствует об
общегерманском распространении представлений об асах до принятия германцами
христианства.
[94] Орфики (учение Орфея) – течение,
отколовшееся, вероятно, в VI в. до н. э. от фракийских дионисийских мистерий и
провозгласив шее Орфея учредителем обрядов и автором орфических поэм.
Орфеотелесты (посвященные жрецы) учили, что Зевс породил Диониса Лисея
(«Отрешителя»), чтобы освободить (отрешить) душу, заключенную в человеческом
теле, как в гробнице, и приготовить ей путь к вечному блаженству. Люди,
согласно учению орфиков, состоят из двух противоположных начал (дионисийского и
титанического, благого и злого): они злы, поскольку появились из пепла титанов;
они обладают благим духовным качеством, так как титаны растерзали и пожрали
Диониса. Орфизм был попыткой спасти в человеке дионисийское начало. Мисты
(посвященные) обязывались не есть мяса, яиц и бобов. Орфики верили, что после
смерти их ожидает блаженная жизнь, описывающаяся как великое пиршество, в то
время как остальные люди погибнут в Тартаре.
[95] Имеется в виду так называемое дорийское
вторжение – распространенное название последней фазы переселения народов,
которое начиная с XIV в. до н. э. охватило бассейн Средиземного моря, достигло
Центральной Европы и Передней Азии. Предполагают, что в процессе этого
передвижения дорийские племена были вытеснены из их мест расселения в далмато‑албанском
регионе. Следует ли говорить о постепенном проникновении дорийских племен или о
вооруженном захвате этих территорий, однозначного ответа пока нет. Не ясен
также вопрос о непосредственном пути вторжения. К 900 г. до н. э. Пелопоннес,
остров Крит, южные острова Эгейского моря и юг Малой Азии были заселены
дорийцами.
[96] Эхнатон (Аменхотеп IV) (1379‑1347 гг.
до н. э.) – египетский фараон в 1364‑1347 гг. до н. э., сын Аменхотепа III.
Пытаясь сломить могущество фиванского жречества и старой знати, выступил как
религиозный реформатор, введя новый государственный культ бога Атона и сделав
столицей государства город Ахетатон. Сам принял имя «Эхнатон», что переводится
как «угодный Атону». В начале XX в. воз никла гипотеза о связи культа Атона с
иудейским монотеизмом, что достаточно сомнительно, поскольку основатель
монотеизма Моисей жил в XIII в. до н. э., а вся деятельность Эхнатона была
сразу же после его смерти предана проклятию и забвению.
[97] Шумеры – один из древнейших народов
Двуречья, названный по области Шумер, охватывавшей, по‑видимому, область вокруг
города Ниппур. В конце 4‑го тысячелетия до н. э. уже существовала шумерская
письменность и небольшие города‑государства (Лагаш, Ур, Киш, Урук), которые
вели между собой борьбу за гегемонию. Завоевания Саргона Древнего (XXIV в. до
н. э.) объединили Шумер под властью Аккада.
[98] Амориты (амореи, амурру) – семитические
племена, выходцы из Аравии. В XXIV‑XVI вв. до н. э. расселились по Сирийской
степи. Около 1894 г. до н. э. вождь аморейского племени Сумуабум овладел в
долине Евфрата небольшим городком Вавилоном и сделал его своей резиденцией.
Молодое государство быстро окрепло и рас ширило свои пределы. Своего наивысшего
могущества Вавилон достиг в середине XVIII в. до н. э. при царе Хаммурапи,
когда под его властью на короткий срок объединилась вся Месопотамия. Однако
вскоре после смерти Хаммурапи, вследствие внутренних смут и нашествия
кочевников‑касситов, территория страны резко сократилась. В 1595 г. до н. э.
Вавилон был взят и разрушен хеттами. Тогда же погиб последний царь I
Вавилонской династии Самсудитана.
[99] Арии (также арийцы, от санскр.
агуа – «благородный») – общее название народов, принадлежащих к индоевропейской
языковой семье. Этим именем древние индийцы и иранцы обычно выделяли себя из
среды покоренных ими иноязычных племен.
[100] Махмуд Газневи (970‑1030) – правитель
государства Газневидов (в которое при нем входили территории современного
Афгани стана, ряд областей Ирана, Средней Азии, Индии) с 998 г.; при его
правлении государство достигло наибольшего могущества. Совершил 17 походов в
Северную Индию.
[101] Бабур Захиреддин Мухаммед (1483‑1530) –
основатель (1526) государства Великих Моголов, праправнук Тимура (Тамерлана).
Выдающийся полководец и государственный деятель. Первоначально правитель удела
в Средней Азии, затем в Кабуле. В 1526– 1527 гг. завоевал большую часть
Северной Индии. Границы государства Бабура простирались от Кабула до Бенгалии.
Отличался также любовью к наукам и искусствам и написал широко известный
автобиографический труд «Бабур‑наме».
[102] Гиксосы – кочевые азиатские племена,
около 1700 г. до н. э. захватившие Египет. Поселившись в Дельте, гиксосы
основали свою столицу Аварис. Отсюда они совершали набеги и на более южные
районы страны, сжигая города, разрушая храмы, убивая и уводя в рабство многих
египтян. Гиксосы находились в Египте около 110 лет. Однако их цари, по традиции
причисляемые к XV, а возможно, и к XVI династиям, не смогли полностью подчинить
себе страну. В начале XVI в. до н. э. господство гиксосов было ликвидировано
египтянами.
[103] В конце 3‑го тысячелетия один из приближенных
правителя го рода Киш захватил власть и принял имя Саргона (Шаррумкен, т. е.
«царь – истинен»; в исторической литературе именуется Саргоном Древним) и титул
«царь страны» (2316‑2261гг. до н. э.). Он создал государство, которое
охватывало всю Месопотамию и часть Сирии. Столицей государства Саргон сделал
небольшой город Аккаде на се вере Нижнего Междуречья, отчего и вся область
стала называться Аккадом. Внук Саргона Нарам‑Суэн (2236‑2220 гг. до н. э.)
принял титул «царь четырех сторон света». Аккадская монархия пала под ударами
кочевников вскоре после 2176 г. до н. э. Позднее царь города Ура Ур‑Намму (Ур‑Енеур
– устаревшее чтение его имени; 2112‑2094 гг. до н. э.) и его сын Шульги
(2093‑2046 гг. до н. э.), явившиеся создателями III династии города Ура,
объединили все Междуречье и приняли титул «царь Шумера и Аккада». Но при Шу‑Суэне
(2036‑2028 гг. до н. э.), вследствие нашествия западносемитского народа
аморитов (амореев), начался быстрый распад державы, которая окончательно пала
около 2003 г. до н. э.
[104] Хаммурапи – царь Вавилонии в 1792‑1750
гг. дон. э., шестой представитель так называемой I Вавилонской династии,
ведущей свое происхождение от вождей могущественного аморейского племени
Амнанум. Политик и полководец. Подчинил большую часть Месопотамии, Ассирию.
Много сил отдал совершенствованию законодательства. Делом всей его жизни стало
создание знаменитого сборника законов, который составлялся и редактировался до
самой его смерти. Этот свод считается крупнейшим и важнейшим памятником права
древней Месопотамии и представляет собой результат тщательного обобщения и
систематизации разновременных писаных и неписаных норм права.
[105] Тойнби имеет в виду уже упоминавшуюся выше
индскую (хараппскую) цивилизацию. Первыми были исследованы два наиболее крупных
городских центра – Мохенджо‑Даро и Хараппа (по названию последнего и вся
археологическая культура именуется хараппской). Это были крупные города
(Мохенджо‑Даро занимал площадь 2,5 кв. км, население его составляло не менее
100 тыс. человек), построенные в соответствии со строгим планом. Ширина главных
их улиц достигала 10 метров, улицы шли параллельно друг другу. Дома возводились
на высоту двух‑трех этажей. Кроме жилых построек в городах имелись и
общественные здания (храмы, амбары для хранения зерна и т.д.), действовала
система водоснабжения и канализации.
[106] Здесь Тойнби ошибается. Покорив Халеб,
правитель хеттов Мурсилис I пошел на Вавилон, которым правил Самсудитана из
династии Хаммурапи, захватил город и в 1595 г. до н. э. (а не в 1750!) разрушил
его, взяв большую добычу. Во время походов в Халеб и Вавилон Мурсилис победил
также хурритов, живших на левом берегу Евфрата в Северной Месопотамии. Военные
операции Мурсилиса I имели известное влияние на ход событий на всем Ближнем Востоке.
Победы хеттов над Халебом и другими царствами заложили основы хеттского
господства в Северной Сирии, а победой над Вавилоном был положен конец
правлению I Вавилонской династии.
[107] Касситы – горные скотоводческие
племена, обитавшие во 2‑ 1‑м тысячелетиях до н. э. на территории современного
Западного Ирана – в верховьях реки Диялы и ее притоков у северо‑западных
пределов Элама. Неизвестно, были ли здесь они автохтонами или пришельцами.
Ничего также нельзя сказать о возможных родственных связях касситов с другими
народами древности, ясно только, что они не были индоевропейцами. Они были
хорошими коневодами, вследствие чего ударную силу их войска составляли боевые
колесницы. Во второй половине XVIII в. до н. э. касситы начали вторжение в
Верхнюю Месопотамию и около 1742 г. до н. э. овладели городом Терке на Евфрате,
неподалеку от устья Хабура. Здесь возникло касситское государство Хана. В XVII
в. до н. э., воспользовавшись ослаблением Вавилонии, касситы постепенно
распространили свою власть на большую часть Нижней Месопотамии, а около 1595 г.
до н. э., вскоре после разгрома Вавилона хеттами и падения I Вавилонской
династии, захватили Вавилон и основали так называемую Касситскую династию,
правившую около 400 лет (до 1157 г. до н. э.).
[108] Тутмос III – египетский фараон в 1490‑1436
гг. (фактически с 1468 г.) до н. э. С 1468 г. до н. э. вел войны, в результате
которых восстановил господство Египта в Сирии и Палестине. При нем Египет
превратился в могущественную мировую державу; за достигнутые при нем рубежи
(как на севере, так и на юге, в Нубии, где владения его простирались вплоть до
четвертого нильского порога) не вышел ни один из его преемников.
[109] Период между 729 г. до н. э., когда
ассирийский царь Тиглатпаласар III захватил Вавилон, короновавшись в качестве
вавилонского царя под именем Пулу и объединив таким образом всю Месопотамию
личной унией, и 626 г. до н. э., когда халдейский вождь Набопаласар встал во
главе восстания против ассирийцев и провозгласил себя царем. Весь этот
столетний период был наполнен борьбой Вавилона за независимость.
[110] Кир (Куруш) II Великий (ум. 530 г. до
н.э.) – первый царь (с 559 г. до н. э.) из династии Ахеменидов. Завоевал Мидию,
Лидию, греческие города в Малой Азии, значительную часть Средней Азии. В 539 г.
до н. э. покорил Вавилон и Месопотамию. Захватив Вавилон, приказал возвратить
иудеев, томившихся 70 лет в плену, в их отечество и щедро снабдил их денежными
средствами для возобновления Иерусалимского храма (что было в точности, вплоть
до имени Кира, предсказано за 140 лет до разрушения Храма пророком Исайей (Ис.
41, 2‑6; 44, 28; 45, 1). Погиб во время похода в Среднюю Азию.
[111] В качестве критерия для оценки срока жизни
египетского общества Тойнби, по‑видимому, принимает время существования
египетской письменности (древнейшие иероглифические надписи дошли до нас от
конца 4‑го тысячелетия до н. э., последняя датируется концом IV в. н. э.,
последние скорописные – от конца V в. н. э.). Археологические раскопки,
относящиеся к 6‑4‑му тысячелетиям дон. э., показывают, что жители поселений на
территории Египта вели уже оседлый образ жизни, занимались земледелием,
скотоводством, охотой, рыболовством, собирательством, а в первой половине 4‑го
тысячелетия до н. э. в Древнем Египте создается бассейновая система орошения,
ставшая основой ирригационного хозяйства страны на многие тысячелетия. Ко
второй половине 4‑го тысячелетия до н. э. относится объединение областей
(номов) в Верхнеегипетское и Нижнеегипетское царства. Историю Египта принято
делить на периоды Древнего (конец 4‑го – 3‑е тысячелетие до н. э.), Среднего
(до XVI в. до н. э.), Нового (до конца XI в. до н. э.) царств, поздний и
персидский (XI–IV вв. до н. э., в VI–IV вв. до н. э. – под властью персов),
эллинистический (IV–I вв. до н. э. в составе государства Птолемеев). В 30 г. до
н. э. Египет был завоеван римлянами и составил римскую провинцию Египет (до 395
г. н. э.). В 395‑639 гг. Египет был провинцией Византийской империи.
[112] Так называемый додинастический период
египетской истории, длившийся от времени появления первых земледельческих
культур близ Нильской долины вплоть до достижения страной государственного
единства, завершился к концу 4‑го тысячелетия до н. э. Именно в додинастический
период был заложен фундамент государства, экономической основой которого стала
ирригационная система земледелия в масштабах всей долины. К концу
додинастического периода относится и возникновение египетской письменности.
[113] Согласно традиции, идущей от жреца Манефона
(жившего после походов Александра Македонского, автора написанной на греческом
языке двухтомной «Истории Египта»), история династического Египта делится на
три больших периода – Древнее, Среднее и Новое царства (см. выше, прим. 102); каждое
из названных царств делится на династии, по десять на каждое царство, – всего
тридцать династий. Время правления четвертой династии – XXVI‑XXV вв. до н. э.
Основатель – царь Снофру, второй царь – Хуфу (Хеопс), третий – Хафра (Хефрен).
На IV династию приходится период наи высшего расцвета Древнего царства.
[114] С культом умершего царя теснейшим образом был
связан культ всеегипетского бога Осириса, представляющего собой ежегодно
умирающую и воскресающую растительность. Миф об Осирисе рассказывает, что
некогда он царствовал в Египте и научил людей земледелию и садоводству. Его
брат, бог Сет, желая править единолично, убил его. Жена Осириса – богиня Исида
– рождает сына Гора, который вступает в борьбу с Сетом за наследство отца.
После длительных споров боги признают Гора правомочным наследником, а Осирис
становится царем загробного мира. Основными местами поклонения Осирису были
Бусирис и Абидос, где его культ целиком впитал культы местных божеств. Здесь
проходили в конце периода разлива Нила пышные празднества, в которых
представлялась судьба Осириса: его гибель, поиски Исидой его тела, оплакивание
и погребение. После смерти фараон уподоблялся Осирису, даже отождествлялся с
ним и получал вечную жизнь. Эти верования отражены в текстах, вырезанных внутри
пирамид («Тексты пирамид»), – записях царского заупокойного ритуала. Осирис
очень долго сохранял черты царского божества, и лишь с конца Древнего, а
особенно со времени Среднего царства культ Осириса распространяется на культ
мертвых вообще. Не только царь, но и рядовой человек при помощи заклинаний
становился Осирисом и получал вечную жизнь. Вера в загробное существование не
менее прочно переплеталась с представлениями солярного культа, также вначале
связанного только с царем. Ра, как и Осирис, олицетворял источник вечной жизни,
и умерший, попавший путем колдовства в число спутников Ра в его ладью, разделял
с ним его судьбу.
[115] Последние три царя XI династии (все носили
одинаковое имя – Ментухотеп) правили уже объединенной страной в течение
примерно 40 лет, однако вершины своего могущества государство Среднего царства
достигло при правлении следующей XII династии. Начиная примерно с 1991 г. до н.
э. в течение более 200 лет в Египте правили только восемь царей. Основание
новой династии Аменемхетом I было ознаменовано перенесением столицы страны из
Фив на север, в город, носивший многозначительное название «Забравший обе
земли» (Иттауи). Достигнув значительного прогресса в утверждении своей власти
по всей территории Египта, цари XII династии вели весьма успешные войны к
западу и востоку от Дельты, борясь с ливийскими и переднеазиатскими племенами,
которые в период раздробленности не раз вторгались в Нижний Египет и разоряли
его. Основные представители XII династии: Аменемхет I (1991‑1962 гг. дон. э.),
Сенусерт I (1971‑ 1926 гг. до н. э.), Аменемхет II (1929‑1895 гг. до н. э.),
Сенусерт III (1878‑1841 гг. до н. э.), Аменемхет III (1844‑1797 гг. до н. э.).
[116] Инициатором освободительной борьбы египтян
против гиксосов стал Фиванский ном, расположенный на расстоянии 800 км к югу от
Дельты. Слабые вначале, но самостоятельные цари фиванской XVII династии
постепенно сплотили вокруг себя большинство номов Верхнего Египта и, опираясь
уже на значительные материальные и военные силы, возглавили борьбу за изгнание
гиксосских завоевателей. Окончательную же победу над гиксосами одержал
основатель XVIII династии Яхмос (Амасис I) (1552‑1527 гг. до н. э.). С этого
времени началась история Нового царства.
[117] Древние египтяне считали, что человек обладал
несколькими «душами». Одна из них – двойник человека, «ка», – обитала в
гробнице. «Ба», которую изображали в виде птицы с человеческой голо вой, должна
была при свершении специальных обрядов соединиться с телом, чтобы умерший ожил.
Для этого надо было сохранить тело, что привело к появлению искусства
мумификации и стремлению построить прочную гробницу. Египтяне строили гробницы
из камня или высекали их в скалах. Однако недостаточно было совершить
заупокойные обряды во время похорон и снабдить покойника необходимыми для
загробной жизни вещами и провизией. Вечная жизнь предполагала постоянные
жертвоприношения, затраты на которые, а также затраты на содержание жрецов и
гробницы падали на наследников, в первую очередь на старшего сына. Поэтому
царем и частными лицами даже выделялись специальные земли, доход с которых шел
на поддержание заупокойного культа.
[118] Ко времени Нового царства окончательно
формируется идея загробного суда, смутные представления о котором существовали
и ранее. Идея суда тесно связывает этический и магический элементы. Так,
письменная фиксация отказа от своих прегрешений (так называемая отрицательная
исповедь) как бы уничтожает их, а находящиеся в равновесии весы, на которые при
загробном суде Осириса бросают сердце, свидетельствуют о его праведности. Смерть
и состояние после нее считали продолжением земного существования. Общение живых
с покойными происходило не только во время жертвоприношений и молитв, но и в
виде письменных обращений к умершим с различными жалобами и просьбами.
Возможность вмешательства мертвых в дела живых считалась делом обыденным.
Существовала твердая вера в то, что умерший может помочь в несчастье или на
влечь бедствия. Покойных просили выиграть судебное дело, исцелить больного,
даровать потомство. Последнее было особенно важно для заупокойного культа.
Человек желал после смерти сохранить возможность бывать на земле и находиться
среди людей, чему должны были способствовать специальные тексты.
[119] Датой основания империи инков (государство
Тауантинсуйу) считается 1438 г. Это государство занимало территорию современных
Перу, Боливии, Эквадора, Северного Чили и Северо‑Западной Аргентины. Столицей
государства был город Куско. Государство Тауантинсуйу представляло собой
теократическую деспотию и славилось четкой организацией и единообразной
структурой, единым языком (кечуа), обязательным трудом, государственной
собственностью на землю, широким социальным обеспечением (помощь вдовам,
сиротам, престарелым, инвалидам), иерархически организованным управлением с
сыном Солнца – Великим Инкой – во главе. Созданная инками богатая культура была
разрушена испанскими конкистадорами, завоевавшими государство Тауантинсуйу в
1532‑1536 гг.
[120] Писарро Франсиско (между 1470 и 1475‑1541
гг.) – испанский конкистадор. Участвовал в завоевании Панамы и Перу, в 1532‑
1536 гг. разграбил и уничтожил государство инков – Тауантинсуйу. Основал город
Лима. Погиб в борьбе с другими конкистадорами.
[121] Ацтекская цивилизация существовала и
развивалась на протяжении примерно трех веков (ок. 1200‑1521). Ацтеки пришли в
Мексиканскую долину и обосновались на западном берегу озера Тескоко в районе
холма и одноименного источника Чапультепек в 1279 г. В 1325 г. была основана их
столица Теночтитлан. Ацтеки создали высокую цивилизацию, уничтоженную в XVI в.
испанцами. В плане периодизации история ацтеков может быть разделена на три
периода: период переселений, закончившийся основанием Теночтитлана; период, в
течение которого ацтеки утверждали свое положение в Мексиканской долине (от
основания Теночтитлана и до 1428 г., когда начался процесс их постепенного
возвышения после обретения полной самостоятельности); период независимости и
расцвета государства, закончившийся испанским завоеванием (1428‑1521).
[122] Кортес Эрнан (1485‑1547) – испанский
конкистадор. В 1504‑1519 гг. служил на Кубе. В 1519‑1521 гг. возглавил
завоевательный поход на Мексику, приведший к установлению там испанского
господства. В 1522‑1528 гг. – губернатор, в 1529‑1540 гг. – генерал‑капитан
Новой Испании (Мексики). В 1524 г. в поисках морского прохода из Тихого океана
в Атлантический пересек Центральную Америку.
[123] Тласкала (Тлашкала) – город‑государство
в центральной части Мексики. Тласкальцы, состоявшие из народов отоми и науа
(последние были родственны ацтекам), пришли в Центральную Мексику, судя по
всему, с северо‑запада и обосновались здесь около 1328 г. Из первоначального
племенного союза Тласкала выросла в союз городов‑государств, сохранивших
значительную автономию (в «республику Тласкала» входило четыре центра,
известные по хроникам как «города», вокруг которых группировалось около 30 более
мелких поселений). Тласкала вела долгие войны с ацтеками и их союзниками. Ко
времени прихода испанцев (1519) ацтеки, не достигнув своих целей военными
средствами, начали экономическую блокаду Тласкалы. Ее жители лишились
возможности обменивать маис, выращиваемый ими, на хлопок, соль и другие товары.
Оставшаяся фактически в одиночестве Тласкала приняла сторону конкистадоров.
[124] В начале X в. группа тольтеков (мексиканцев),
бежавших из своей страны вместе с бывшим правителем Толлана Се Акатль
Топильтцином, который носил титул Кетсалькоатля, объединила и возглавила
юкатанские племена и завоевала с их помощью в течение X – начале XI в.
майянские города‑государства на полуострове Юкатан. В результате возник целый
ряд городов‑государств, в которых тольтеки составили правящее сословие, но
довольно быстро смешались с местным населением. Культура этих государств
оставалась майянской, хотя и с целым рядом элементов мексиканской.
[125] Тойнби имеет в виду «Древнее царство майя» –
период существования городов‑государств майя в покрытых тропическими леса ми
районах Северной Гватемалы (II‑VIII вв.). Наиболее известные из них: Чичен‑Ица,
Копан, Майяпан, Ушмаль, Тикаль. Никаких исторических сведений об этих городах
нет, а иероглифические надписи (за исключением отдельных текстов календарно‑магического
характера) до сих пор не удается прочесть. О высоком уровне культуры в этих
городах можно судить по великолепным памятникам архитектуры, скульптуры и
настенной живописи. Подавляющее большинство городов было заброшено в конце
VIII–IX в. До недавнего времени считалось, что покинуты все населенные пункты,
но теперь выяснено, что отдельные города существовали до конца IX в., а может
быть, даже и позднее. По наиболее правдоподобной версии, причиной гибели го
родов было истощение полей в связи с особенностями подсечно‑огневого земледелия
майя.
[126] С порога, сразу же, немедленно (лат.).
[127] Левиафан – в Библии название громадного
змееподобного морского животного, подробно описанного в Книге Иова (Иов
40, 20). По всей вероятности, синоним крокодила. Слово это употребляет пророк
Исайя в качестве символа для обозначения враждебного евреям царства
Вавилонского (Ис. 27, 1). Впоследствии английский философ Т. Гоббс
употребил это слово в качестве метафоры государства.
[128] Следовательно (лат.).
[129] Подобным же образом основатели революционной
Французской Республики, воображая, что начинают новую историческую эпоху и все,
что было до них, есть «дохлый номер», начали I новый год 21 сентября 1792 г.;
здравый смысл и консерватизм Наполеона положили конец этой системе через
двенадцать лет, однако эти двенадцать лет до сих пор продолжают стеснять ученых
своими фрюктидорами и термидорами (Прим. А. Дж. Тойнби).
[130] Согласно классификации английского философа Ф.
Бэкона, «идолы рынка» – это заблуждения, возникающие в разуме вместе со словами
и именами. Они порождены формами общения между людьми, прежде всего неправильно
образованными понятиями и неверным употреблением слов. «Идолы рынка»
проявляются также в образовании неправильных научных абстракций.
[131] Эллиот‑Смит Графтон (1871‑1937) –
основоположник «панегипетской» теории. Анатом по специальности, чрезвычайно
заинтересовался древнеегипетской культурой, в особенности погребальным культом
и изготовлением мумий. В 1911 г. появилась его книга «Древние египтяне», в 1912‑м
– альбом «Египетские мумии». На основе сравнительного исследования различных
культур сделал вывод о том, что все взаимно связанные между собой явления
культуры за родились некогда в Египте (и частью в соседних с ним странах) и
около IX–VIII вв. до н. э. начали оттуда распространяться по всем странам,
особенно в восточном направлении: через Аравию, Персидский залив, Индию и
Цейлон в Индонезию, а оттуда далее на восток – в Океанию и через нее, а также
через северную часть Тихого океана – в Америку. Эту всемирную высокую
цивилизацию, распространившуюся из Египта по всем частям света, Эллиот‑Смит
назвал «гелиолитической» (т. е. культурой «солнечных камней») – по ее отличи
тельным признакам: культу Солнца и сооружению мегалитов. Свои взгляды впервые
изложил в книге «Миграции ранней культуры» (1915), а наиболее полно – в книге
«Человеческая история» (1930).
[132] Перри Уильям Джеймс (ум. 1949) –
исследователь Индонезии, историк религии. Основные произведения –
«Мегалитическая культура в Индонезии» (1918) и «Дети солнца» (1923). Придал
«панегипетской» концепции еще более законченный вид. Считал, что в истории
культуры человечества резко различаются два слоя: первоначальная, примитивная
культура «собирателей пищи», некогда распространенная повсеместно, и высокая
культура, основанная на земледелии, сложной технике камнестроительства,
обработке металлов и пр. Последняя зародилась в Древнем Египте около времени VI
династии. И вот эта‑то архаическая культура распространилась впоследствии по
всем странам мира.
[133] В Великобритании до перехода в феврале 1971 г.
на десятеричную систему шиллинг являлся монетой и счетно‑денежной единицей.
Равнялся 1 /20 фунта стерлинга, или 12 пенсам.
[134] Бремя доказательств (лат.).
[135] Уоллес Альфред Рассел (1823‑1913) –
английский естество испытатель, один из основоположников зоогеографии. Одновременно
с Ч. Дарвином создал на материале собственных исследований флоры и фауны
Малайского архипелага теорию естественного отбора. Однако признавал приоритет
Дарвина.
[136] Аллюзия на рассказ из Евангелия от Иоанна (8,
1‑11).
[137] Гиббон Эдуард (1737‑1794) – английский
историк‑просветитель. Автор монументального 6‑томного труда «История упадка и
разрушения Римской империи», охватывающего период со времени Коммода (II в.) до
гибели Византийской империи в 1453 г. Работу над ним Гиббон начал после
посещения Италии в 1764 г. Первый том сочинения вышел в свет в 1776 г. и был
очень хорошо принят читателями и критиками. Однако главы, повествующие о
распространении христианства в Римской империи, вызвали недовольство
представителей Церкви, что побудило автора написать в 1779 г. статью «В защиту
некоторых отрывков из пятнадцатой и шестнадцатой глав». Второй и третий тома
были опубликованы в 1781 г., а четвертый, пятый и шестой – в 1788 г.
Маколей Томас Бабингтон (1800‑1859) – английский
историк, публицист и государственный деятель, иностранный член‑корреспондент
Петербургской Академии наук (1858). В 1839‑1841 гг. военный министр. Основной
труд по истории Англии, охватывающий события 1685‑1702 гг., – апология «Славной
революции» 1688‑1689 гг.
[138] Некий «ученый доктор», вымышленный В. Скоттом,
который подписывал этим именем предисловия и примечания ко многим своим
романам. В английском языке это имя («Dryasdust» – букв, «сухой, как пыль»)
стало нарицательным для обозначения очень добро совестного, очень образованного
и очень скучного, педантичного человека, ученого‑«сухаря».
[139] Фукидид обычно считается первым и одним из
величайших строго фактических историков, но, как показал Ф. М. Корнфорд в книге
«Мифоисторик Фукидид», на все его представления об этом предмете влияли
условности современной ему греческой трагедии (Прим. А. Дж. Тойнби).
[140] Прямая речь (лат.).
[141] Косвенная речь (лат.).
[142] В своем трактате «Поэтика» Аристотель говорит
о том, что по этическое «технэ» «философичнее истории» и обладает ценностным
приматом над ней, поскольку «поэзия больше говорит об общем, а история – о
единичном» («Поэтика» 1451b5); поэт говорит не о том, что было, но о том, что
могло бы быть в соответствии с «вероятностью» (правдоподобием) и
«необходимостью» (1451а36), историк же говорит о том, что, например, сказал и
сделал Алкивиад.
[143] Беджгот (Bagehot) Уолтер (1826‑1877) –
английский экономист, политический аналитик и писатель. Представитель социал‑дарвинизма.
Основные произведения: «Английская конституция» (1867), «Физика и политика»
(1872), «Экономические исследования» (1880). В книге «Физика и политика»
попытался применить концепцию эволюции к происхождению и развитию обществ.
[144] Смэтс (Smuts) Ян Христиан (1870‑1950) –
политический деятель Южно‑Африканского Союза, британский фельдмаршал (с 1941).
Принимал активное участие на стороне буров в англо‑бурской войне 1899‑1902 гг.
Затем перешел к сотрудничеству с английскими властями. С 1910 г. занимал ряд
министерских постов в правительстве ЮАС. В 1919‑1924 и 1939‑1948 гг. премьер‑министр.
Вышел в отставку в 1948 г. В своих сочинениях отстаивал расистские теории.
[145] Инь и Ян – в древнекитайской мифологии
и натурфилософии два противоположных начала, выступающие всегда в парном
сочетании. Инь – начало темное, женское, север, тьма, смерть, земля, Луна,
четные числа и т. п. Ян – начало светлое, мужское, юг, свет, жизнь, небо,
Солнце, нечетные числа и т. п. Весь процесс мироздания и бытия рассматривался
китайцами как результат взаимодействия, но не противоборства Инь и Ян, которые
стремятся друг к другу.
[146] «Нельзя ли услышать это на другом языке?» –
спрашивает Горацио. Можно: «желтоволосая, сероглазая, длинноголовая
разновидность белокожего человека» (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[147] Гобино (Gobineau) Жозеф Артюр, граф де
(1816‑1882) – французский философ, писатель, дипломат, один из основателей
идеологии расизма. В своей романтико‑мифологической философии истории («Опыт о
неравенстве человеческих рас», тт. 1‑4, 1853‑1855) выступал как противник всех
форм равенства, утверждал иерархический характер деления на «белую» (ведущую),
«желтую» и «черную» расы и пытался доказать, что социальные институты и
культура детерминируются расами. Трагическая диалектика истории, по мысли
Гобино, состоит в том, что смешение рас, с одной стороны, является источником
возникновения и развития цивилизаций (при непременном участии «белой» расы), с
другой – причиной их последующего вырождения и гибели.
[148] Игра ума (фр.) .
[149] Чемберлен (Chamberlain) Хьюстон Стюарт
(1855‑1927) – немецкий социолог. Родился в Великобритании, затем принял
германское гражданство. Испытал влияние расовой теории Гобино. В работах,
посвященных творчеству Р. Вагнера и анализу европейской мысли и культуры XIX
столетия, выдвигал идеи расового превосходства «арийских элементов» в европейской
культуре. По мысли Чемберлена, немцы лучше всего предназначены для установления
нового порядка в Европе.
[150] Грант (Grant) Мэдисон (1865‑1937) –
американский писатель, популяризатор идей европейского расизма в США. Автор
книг «Смерть великой расы» (1916) и «Завоевание континента» (1933), в которых
отстаивал нордическую расовую теорию.
Стоддард Лотроп (1883‑1950) – американский писатель‑расист.
Автор книг «Восстание цветных против мирового господства белых» (1920) и
«Расовые реалии в Европе» (1924), в которых возрождал и популяризировал
нордические расовые теории.
[151] Айны – потомки древнейших жителей
Японии, отличающиеся необыкновенно густым волосяным покровом. Постепенно
вытесненные японцами из центральных районов страны, айны заселили остров
Хоккайдо, Курильские острова и южную оконечность Сахалина и Камчатки. После
того как Курильские острова и Южный Сахалин временно перешли (соответственно в
1875 и 1905 гг.) во владение Японии, айны были насильственно японизированы, а
затем выселены, главным образом на Хоккайдо, где живут и в настоящее время в
округе Хидака в нескольких деревнях. В результате ассимиляции айны в
значительной степени утратили самобытную культуру и язык, но выделяются своим
антропологическим типом.
[152] Г‑н Бернард Шоу находится здесь на стороне
греков. Читатели предисловия к «Другому острову Джона Буля» вспомнят, что он с
презрением отклоняет концепцию «кельтской расы» и приписывает все различия
между англичанами и ирландцами различию в климате их островов (Прим. А. Дж.
Тойнби).
[153] О воздухах, водах и местностях, 13, 24/ /Гиппократ.
Клятва. Закон о враче. Наставления/Пер. с греч. В. И. Руднева. Минск, 1998. С.
216,228‑229.
[154] Согласно новейшим археологическим данным, в
Иерихоне (в долине Иордана) уже в 8‑м тысячелетии до н. э. существовали
процветающие земледельческие поселки, обнесенные мощными каменными стенами еще
в раннем неолите. Здесь же в конце 3‑го – начале 2‑го тысячелетия до н. э.
возник целый ряд городов‑государств, которые, впрочем, не объединились в единую
монархию по типу египетской или шумерской.
[155] Ангкор – грандиозный комплекс храмов,
дворцов, водохранилищ и каналов близ города Сием‑Реап (Кампучия), сооружен в IX‑XIII
вв. Сохранились руины столиц Яшодхарапура (основана в конце IX в.) и Лнгкор‑Тхом
(конец XII в. – 1432 г., квадратный в плане, площадью свыше 9 кв. км,
центральный храм Байон), каменные цоколи деревянных дворцов, «храмы‑горы» в
виде ступенчатых пирамид, в том числе крупнейший из них – Ангкор‑Ват (около
1113‑1150), с богатым скульптурным оформлением.
[156] «Прорицание вёльвы» («Voluspa») –
первая (и наиболее известная) песнь скандинавского эпоса «Старшая Эдда». Как
предполагается, сочинена прорицательницей (вёльвой), рассказывающей историю
мира, богов, людей и чудовищ от самого начала до Рагнарёка («гибели богов») и
второго рождения, которое должно быть торжеством мира и справедливости. Песнь
представляет собой богатейшую и единственную в своем роде сокровищницу
мифологических сведений. Большинство исследователей склоняются к тому, что
песнь эта возникла в Исландии в эпоху, переломную между язычеством и
христианством, а именно во второй половине или конце X в.
[157] Тойнби перечисляет героев различных мифов и
литературных произведений: дочь аргосского царя Акрисия Даная была заточена в
подземную темницу, когда Дельфийский оракул предсказал царю смерть от руки
собственного внука, однако Зевс проник к Данае в виде золотого дождя, и она
родила Персея, которому суждено было исполнить пророчество; Европа, дочь
финикийского царя Агенора, была похищена превратившимся в ручного белого быка
Зевсом и родила на острове Крит Миноса, Радаманта и Сарпедона; Семела, дочь
фиванского царя Кадма, была возлюбленной Зевса и по совету ревнивой Геры
неосмотрительно потребовала у Зевса, чтобы тот явился ей во всем своем
божественном величии, в результате чего была испепелена (первоначально Семела
была фракийско‑фригийской богиней Земли); Креуса была дочерью афинского царя
Эрехтея и родила от Аполлона Иона, мифического прародителя ионийцев. Что
касается Гретхен и Фауста, – героев гетевского «Фауста» – то их можно отнести к
мотиву столкновения Девы и Отца ее Ребенка весьма условно, а Психея и Амур (лат.
Купидон) – герои сказки Апулея, входящей в его роман «Метаморфозы», – вообще
никак с этим мотивом не связаны.
[158] От имени Протея – морского божества
греческой мифологии, обладавшего способностью принимать облик различных
существ.
[159] Кредо, символ веры (лат.).
[160] Рагнарёк (древнеисланд. ragnarok– «судьба
[гибель]богов») – в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира,
следующая за последней битвой богов и хтонических существ. Предвестием
Рагнарёка являются смерть юного бога Бальдра, а затем нарушение родовых норм,
кровавые распри родичей, моральный хаос. В «Прорицании вёльвы» говорится о том,
что Солнце почернеет, звезды падут с неба. Происходят землетрясения, дрожит и
гудит мировой ясень Иггдрасиль, вода заливает землю. На свободу вырываются
хтонические чудовища, из царства мертвых приплывет корабль мертвецов, которым
правит Локи, появляются «инеистые великаны». Происходит последняя битва,
участники которой убивают друг друга. Огненный великан Сурт сжигает огнем мир.
При этом погибают и все люди. Однако за гибелью мира последует его возрождение.
[161] Ледниковый период – этап геологической
истории Земли, в течение которого многократно чередовались отрезки времени с
очень холодным климатом (резкое расширение площади ледников) с промежутками
более теплого климата, когда значительная часть материковых ледников стаивала
(«приливы» и «отливы» у Тойнби).
[162] Сеннаар – предположительно, область в
Вавилонии. Согласно Библии, в долине земли Сеннаар поселились ближайшие потомки
Ноя и воздвигли здесь Вавилонскую башню с городом того же названия. Здесь
произошло смешение языков и рассеяние народов (Быт. 11,1 ‑9). Название
Сеннаар нередко встречалось во времена пророка Исайи (Ис. 11, 11) и
Захарии (Зах. 5, 11). Самое раннее упоминание о Сеннааре встречается в
Библии в перечне городов, построенных царем Нимродом. Из этого свидетельства
видно, что города Вавилон, Эрех, Аккад и Халне находились в земле Сеннаар (Быт.
10, 10). Поэтому землю Сеннаар обыкновенно отождествляли именно с Вавилонией на
юге Месопотамии, хотя границы ее точно не определены.
[163] Бахр‑эль‑Джебель – название Нила в Южном
Судане.
[164] Бахр‑эль‑Газаль (Эль‑Газаль) – река в Судане,
левый приток Белого Нила.
[165] «Сэдд» – плавучие и неподвижные массы
водорослей и папируса. Весьма медленное течение Белого Нила и жаркий климат
благоприятны для интенсивного развития водной растительности. Русло реки
настолько загромождено здесь «сэддом», что водный поток с трудом преодолевает
этот район, теряя до половины своих вод на испарение, питание водной
растительности и заполнение впадин.
[166] Динка (самоназвание – дженг) и шиллук
– народы, живущие в Судане и принадлежащие к восточно‑суданской подгруппе шари‑нильской
группы нило‑сахарской языковой семьи.
[167] Рода человеческого (лат.).
[168] Умозрительно; до и вне всякого опыта (лат.).
[169] В аккадской космогонической поэме «Энума элиш»
Тиамат («море») предстает персонификацией первозданной стихии, воплощением
мирового хаоса. Тиамат – создательница вместе со своим супругом Апсу первых
богов. В космической битве между поколением старших богов (возглавленных ею) и
младших богов во главе с Мардуком Тиамат была убита Мардуком. Мардук рассек
тело Тиамат на две части, сделав из первой небо, а из второй – землю.
Изображалась предположительно в виде чудовищного дракона или семиголовой гидры.
[170] Древнейшее воплощение мифа о потопе
встречается в шумерской версии, возможно, послужившей источником более поздних
вавилонской и библейской версий. Мудрый и набожный правитель города Шуруппака
Зиусудра (букв, «нашедший жизнь после долгих дней») узнает от покровителя людей
бога Энки о предстоящем потопе, который должны были наслать на людей боги. По
совету Энки Зиусудра строит ковчег и в нем переживает потоп, длящийся семь дней
и семь ночей. После потопа он как «спаситель семени человечества» получает
«жизнь как боги» и «вечное дыхание» (т. е. вечную жизнь) и поселяется вместе со
своей супругой на острове блаженных Тильмун.
[171] Среди ученых до сих пор нет единого мнения
относительно этнического происхождения эгейцев. В первую очередь, это
объясняется тем, что пока еще не расшифрованы иероглифическая письменность
(XXII–XVII вв. до н. э.) и линейное письмо «A» (XVII‑XVI вв. до н. э.). По
одной версии, древнейшие жители Крита по своему языку принадлежали к хурритской
языковой группе, бытовавшей и в Малой Азии; подругой – они были крайними
западными представителями огромной группы протодравидских народов, занимавших в
древности пространство от Элама до Южной Индии. В середине XV в. до н. э. это
население, которое Гомер называл пеласгами, было завоевано вторгшимися из
материковой Греции ахейцами, которым принадлежат памятники линейного письма
«Б». На рубеже XIII–XII вв. до н. э. на Крите появилось еще одно греческое
племя – дорийцы, продолжавшие жить здесь и в античный период. Что касается
антропологических данных, то они указывают на то, что древнейшие жители как
материковой Греции, так и Крита принадлежали к средиземноморскому
долихокефальному (длинноголовому) типу, а подъем эгейской цивилизации связан с
вторжением в середине 3‑го тысячелетия до н. э. в Европу из Малой Азии племен
переднеазиатского брахикефального (короткоголового) типа. Версия об африканском
происхождении эгейской цивилизации в настоящее время не нашла подтверждения.
[172] На смертном одре; при смерти (лат.).
[173] Мы опустили обсуждение гном Тойнби ранее в
книге вопроса о том, является ли культура долины Инда отдельной цивилизацией
или же провинцией шумерской. Он оставляет этот вопрос открытым, но в главе II
трактует «культуру долины Инда» как часть шумерского общества (Прим. Д. Ч.
Сомервелла) .
[174] Г‑н Тойнби дает этой главе название «Xαλεπά
τά Kαλά» , что означает «прекрасное – трудно», или «высокое качество
требует тяжелого труда» (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[175] Копан, Тикаль, Паленке – заброшенные
города индейцев майя, ныне расположенные (соответственно) на территории
Гондураса, Гватемалы и Мексики.
[176] На протяжении всей своей истории как в
географическом, так и в историко‑культурном плане Цейлон был тесно связан с
Индией. Первые упоминания о Цейлоне имеются уже в древнеиндийском эпосе, где
Цейлон именуется Ланкой («Островом»). С достаточной долей уверенности можно
утверждать, что в V в. до н. э. на Цейлон прибыло морем значительное количество
переселенцев из Северной Индии. Переселенцы утвердились на острове, и их вождь
Виджая стал первым царем (485‑447 гг. до н. э.). Род, к которому он
принадлежал, назывался синхала. Этим именем затем стал называться остров, а
также основное его население (современные сингальцы). Появление на Цейлоне буддизма
относится к III в. до н. э. и связано с деятельностью миссии буддийских монахов
во главе с Махендрой, братом царя Ашоки. Правители Цейлона сами приняли буддизм
и охотно способствовали его распространению. Буддийские монахи принесли с собой
письменность брахми, из которой развилась современная сингальская письменность,
записали на языке пали в I в. н. э. буддийские канонические трактаты
(«Типитака»). Буддизм оказал сильное влияние на развитие литературы,
архитектуры, изобразительных искусств на острове, причем на Цейлоне буддизм
сохранился в его ранней форме (хинаяна), и всякая попытка распространения
буддизма в иной его разновидности решительно пресекалась.
[177] Рывок (фр.).
[178] Петра – город (конец 2‑го тысячелетия
до н. э. – V в. н. э.) в Южной Иордании. Расположена в скалистой части Вади‑Муши,
на полпути между Мертвым морем и Акабским заливом. Во II в. до н.э. – I в. н.
э. была столицей созданного арабскими племенами набатеев Набатейского царства.
В 106 г. н. э. царство стало римской провинцией Аравия. В городе обнаружены
пещерные жилища, храмы, театры, гробницы и другие общественные здания, в
которых можно проследить восточные традиции с сильным эллинистическим влиянием.
[179] Пальмира – древний город на территории
северо‑восточной Сирии (близ современного города Тадмор), крупный центр
караванной торговли и ремесла, который развился благодаря посредничеству в
торговле между Востоком и Западом. С I в. Пальмира находилась в сфере римского
владычества, от императора Каракаллы получила статус римской колонии. Оденат
расширил ее владения, захватив месопотамские земли. После убийства Одената его
жена и преемница Зенобия продолжила экспансионистскую политику. Она захватила
Египет и большую часть римских владений на Востоке. В 272 г. Пальмира была
вновь завоевана императором Аврелианом, при Диоклетиане заново укреплена, а в
634 г. захвачена арабами. Археологическими раскопками была вскрыта регулярная
планировка античного города, храмы, некрополь, статуи, мозаики, росписи.
[180] Вольней (настоящее имя Константин
Франсуа Буажире‑Шасбеф) (1757‑1820) – французский писатель и философ‑просветитель,
представитель так называемой группы идеологов, куда входили французские
философы, историки, экономисты и общественные деятели конца XVIII – начала XIX
в. Интересуясь историей и культурой древних народов, посетил ряд стран Ближнего
Востока в 1783‑1785 гг. и выпустил в 1791 г. книгу «Руины, или Размышления о
революциях империй» (рус. пер. [1928]), которая представляет собой попытку
объяснения исторических процессов с рационалистических и антирелигиозных
позиций. Вольнею принадлежит также идея объединения народов в Генеральные штаты
Европы.
[181] Тойнби, в частности, имеет здесь в виду
историю исхода евреев из Египта и последующего их странствования по пустыне: «И
двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению
Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И
укорял народ Моисея, и говорили: “Дайте нам воды пить”. И сказал им Моисей: “Что
вы укоряете меня? что искушаете Господа?” И жаждал там народ воды, и роптал
народ на Моисея, говоря: “Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и
детей наших и стада наши?” Моисей возопил к Господу и сказал: “Что мне делать с
народом сим? еще немного, и побьют меня камнями”. И сказал Господь Моисею: “Пройди
перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл
твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; вот, Я стану пред
тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и
будет пить народ”. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских» (Исх.
17, 1‑6).
[182] Это одна из «задержанных цивилизаций», о
которых будет сказано позднее (Прим. А. Дж. Тойнби).
[183] Хаусмен Альфред Эдвард (1859‑1936) –
английский поэт, филолог, специалист по Древнему Риму. Автор стихотворных
сборников «Шропширский парень» (1896), «Последние стихи» (1922), «Еще стихи»
(1936 г. – посмертно).
[184] Новая Англия (New England) – название
исторически сложившегося района в северо‑восточной части США, предложенное в
1614 г. английским капитаном Дж. Смитом. В Новую Англию входят штаты: Мэн, Нью‑Хэмпшир,
Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род‑Айленд.
[185] Георгианский – эпохи одного из четырех
английских королей Георгов из Ганноверской династии, последовательно сменявших
друг друга (Георг I вступил на престол в 1714 г., а Георг IV умер в 1830 г.).
[186] Римская Кампания (Campagna di Roma) –
низменность вокруг Рима, на северо‑западе ограниченная холмами, окружающими
озеро Браччано, на северо‑востоке – Сабинскими горами, на юго‑востоке –
Альбанской горой, а на юго‑западе – морем.
[187] Теперь это не совсем так, поскольку
правительство Муссолини оставило после себя один из благородных и прочных
памятников в результате своих энергичных и успешных попыток использовать этот
район для человека (Прим. А. Дж. Тойнби).
[188] Латины – жители Лация, одно из основных
италийских племен, проживавшее на территории от долины нижнего течения Тибра до
Альбанской горы и на побережье Центральной Италии. С древнейших времен
занимались земледелием, скотоводством и умели проводить осушение почвы. В
отношения с Римом вступили в период разложения родового строя. В 496 г. до н.
э. римляне разбили латинов в битве у Регильского озера и в 493 г. до н. э.
заключили с ними союз. Города, вошедшие в Латинский союз, обладали правами меньшими,
чем Рим, и попытались в 340 г. до н. э. избавиться от его господствующего
положения. В 338 г. до н. э. потерпели окончательное поражение.
[189] Вольски – италийское (оскское) племя,
населявшее долину реки Лириса на юге Лация. Успешно воевали с римлянами в
начале V в. до н. э. В 338 г. до н. э. были окончательно покорены римлянами,
вскоре романизовались и после этого в античных источниках как самостоятельный
народ не засвидетельствованы.
[190] Вероломная Капуя (лат.).
[191] Капуанская Кампания – область на западе
Италии с плодородной почвой вулканического происхождения. В VIII–VI вв. до н.
э. активно колонизовалась греками, которые основали здесь города Кумы,
Посидония, Путеолы. В конце VI в. до н. э. Кампанию захватили этруски, основали
город Капуя и правили этой областью вплоть до второй половины V в. до н. э. В
312 г. до н. э. Аппиева дорога связала Кампанию с Римом. Во 2‑й Пунической
войне Капуя и часть кампанских городов стояли на стороне Ганнибала. В 211 г. до
н. э. Рим снова захватил Кампанию, объявил всю землю ager publicus
(«государственной землей») и распределил ее между землевладельцами.
[192] Тойнби перечисляет многочисленные препятствия,
встречавшиеся Одиссею на его пути при возвращении на родину.
Кирка (Цирцея) – волшебница, обитавшая на острове Эя в
роскошном дворце среди лесов и превратившая спутников Одиссея в свиней, опоив
колдовским напитком.
Лотофаги («поедатели лотоса») – мирное племя,
питающееся плодами лотоса, к земле которых прибило корабли Одиссея. Посланные
им разведчики были встречены лотофагами «дружелюбной лаской», их угостили
сладко‑медвяным лотосом, отведав который, они позабыли обо всем и, утратив
желание вернуться на родину, захотели навсегда остаться в стране лотофагов.
Одиссею пришлось силой вернуть их на корабли и привязать к корабельным скамьям.
Сирены – полуптицы‑полуженшины, обитающие на скалах
острова, усеянных костями и высохшей кожей их жертв, которых сирены заманивают
пением. Одиссей проплыл мимо острова сирен, привязав себя к мачте корабля и
залив воском уши своих товарищей.
Калипсо – нимфа, владелица острова Огигии на крайнем
западе. Держала у себя в течение семи лет Одиссея, скрывая его от остального
мира, но не смогла заставить героя забыть родину и по приказу Зевса вынуждена
была его отпустить.
[193] «И возроптало все общество сынов Израилевых на
Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: “О, если бы мы умерли
от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда
мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это
уморить голодом”» (Исх. 16, 2‑3).
[194] В английском – непереводимая игра слов: «do‑as‑uou‑likes»,
то есть «делайте, как вам нравится».
[195] Ньясаленд – бывшее английское владение
в Восточной Африке (в 1891 г. создан британский протекторат Ньясаленд). В 1953‑1963
гг. входил в состав созданного Великобританией колониального объединения
Федерации Родезии и Ньясаленда. С 1964 г. – независимое государство Малави.
[196] Кингсли Чарлз (1819‑1875) – английский
писатель и публицист. Был священником и профессором новой истории.
Представитель христианского социализма. В романе «Олтон Локк» (1850) показал
превращение деятеля чартизма в смиренного реформатора. Его перу принадлежат
также исторические романы «Ипатия» (1852‑ 1853), «Два года назад» (1857),
религиозные проповеди.
[197] В одинаковой мере, одновременно (лат.).
[198] «Вся она (Аттика. – К. К.) тянется от
материка далеко в море, как мыс, и со всех сторон погружена в глубокий сосуд
пучины. Поскольку же за девять тысяч лет случилось много великих наводнений…
земля, во время подобных бедствий уносимая водой с высот, не встречала, как в
других местах, сколько‑нибудь значительной преграды, но отовсюду омывалась
волнами и потом исчезала в пучине. И вот остался, как бывает с малыми
островами, сравнительно с прежним состоянием лишь скелет истощенного недугом
тела, когда вся мягкая и тучная земля оказалась смытой и только один остов еще
перед нами» («Критий», 11 lab).
[199] Согласно легенде, оливковое дерево было
даровано афинскому народу богиней Афиной во время спора с Посейдоном за
господство над Аттикой. Олива считалась священным деревом Афины, «деревом
судьбы».
[200] Имеется в виду знаменитая «Ода греческой вазе»
великого английского поэта эпохи романтизма Джона Китса (1795‑1821).
[201] Калхедон (Халкедон) – город на южном
берегу Пропонтиды у входа в Босфор Фракийский. Основан жителями Мегары
приблизительно за 20 лет до основания Византия (680 г. до н. э.). Калхедон
возник как важный торговый центр, контролировавший перевоз хлеба через Босфор.
Выгодно расположенный, Калхедон имел также стратегическое значение и поэтому
вел войны со Спартой, Афинами, Персией, Македонией, Галатией. В 74 г. до н. э.
его захватили римляне.
[202] Иную версию предлагает Страбон: «Рог – это
залив, примыкающий к стене византийцев приблизительно в западном направлении на
60 стадий подобно оленьему рогу. Он разветвляется на множество маленьких бухт,
как бы на ветви. Сюда попадают пеламиды (род тунца. – К. К. ), ловля
которых облегчается их огромной массой, сильным течением, сгоняющим рыбу в
кучу, и узостью заливов; в этой тесноте их можно ловить даже голыми руками. Эта
рыба нерестится в болотах Меотиды, а когда немного подрастет и окрепнет, то
косяками устремляется через устье и идет вдоль азиатского берега до Трапезунта
и Фарнакии… Всякий раз, когда рыба достигает Кианеев и проходит мимо них, какая‑то
белая скала, выступающая со стороны халкедонского берега, так сильно пугает ее,
что она тотчас же поворачивает к противоположному берегу. Ее подхватывает
здешнее течение; но поскольку эта местность от природы благоприятствует
повороту морского течения к Византию и к лежащему у него Рогу, то, естественно,
рыба направляется сюда и доставляет византийцам и народу римскому значительный
доход. Халкедонцы же, хотя и живут поблизости на противоположном берегу, не
имеют доли в этом богатстве, так как пеламида не подходит к их гаваням. Отсюда
рассказ о том, как после основания Халкедона мегарцами Аполлон повелел тем, кто
вопрошали оракул, желая потом основать Византии, “заложить поселение напротив
слепцов”; бог назвал халкедонцев слепыми за то, что они, хотя и приплывали
прежде в эти места на кораблях, упустили возможность занять столь богатую
область на другом берегу и выбрали более бедную страну» («География». VII, VI,
2).
[203] Слово, острота (фр.).
[204] «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не
лучше всех вод Израильских?» – говорит сирийский военачальник Нееман (4 Цар. 5, 12). Авана – название реки в Сирии,
орошающей город Дамаск; Фарфар отождествляют с потоком Авадж,
протекающим по Дамасской долине с южной ее стороны и впадающим на восточной
стороне в озеро Хиджан. Реки эти изобиловали прекрасной, чистой и прозрачной
водой.
[205] Антиохия – одна из столиц царства
Селевкидов на реке Оронт. Город был основан в 300 г. до н. э. Селевком I наряду
с другими одноименными городами в честь своего отца Антиоха. Являлась
крупнейшим экономическим и культурным центром Ближнего Востока. В период
расцвета город насчитывал свыше полумиллиона жителей.
[206] «Множество тельцов обступили меня; тучные
Васанские окружили меня…» (Пс. 21, 13). Васан – холмистая область
на восток от Иордана, между горами Ермоном на севере и Галаадскими к югу.
Область эта в древности славилась огромными дубами, богатыми пастбищами и
прекрасными породами скота.
[207] Галаад – так называется гористая страна
за Иорданом от горы Ермон до реки Арнона. В Библии не раз указывается на
богатство и плодородие земли Галаад. Несмотря на то что Галаад считался
каменистой страной, там было множество водных источников, обширных пастбищ и
тенистых лесов и рощ.
[208] Кармель (Кармил) – гора в Палестине.
Она составляет одну из высочайших вершин цепи гор, носящих то же название и
берущих свое начало в долине Ездрилонской. Почва этой горы славилась некогда
своим плодородием. Гора Кармель служила местопребыванием пророков Илии и
Елисея.
[209] Ездрилон – обширная равнина в нижней
части Галилеи, простирающаяся к югу и юго‑западу от горы Фавор и Назарета.
Замечательна своей обширностью, красотой и плодородием. В древности на ней
происходило множество кровавых битв, в том числе между царем Саулом и
филистимлянами (I Цар. 29, 1). Шефель – приморская равнина к
западу от Иудейского нагорья.
[210] Ефрем – младший сын Иосифа,
родоначальник колена, которое занимало одну из лучших и плодородных частей
земли Обетованной. Границами его были: к западу – Средиземное море, к востоку –
река Иордан, к северу – часть колена Манасиина, а к югу – часть колен Данова и
Манасиина.
[211] Иуда – сын Иакова. При разделе земли
Обетованной получил наиболее обширную и важную ее часть – от Средиземного моря
до Мертвого и от потока Египетского до пределов Ефрема.
[212] У Геродота, собственно, ή Συρία Παλαιστινη –
«Сирия палестинская».
[213] Фридрих Великий – Фридрих II (1712‑1786)
– прусский король с 1740 г. из династии Гогенцоллернов, крупный полководец. В
результате его завоевательной политики (Силезские войны 1740‑1742 и 1744‑1745
гг., участие в Семилетней войне 1756‑1763 гг., в первом разделе Польши в 1772
г.) территория Пруссии почти удвоилась.
[214] Джонсон Сэмюэл (1709‑1784) – английский
писатель и лексикограф. Составитель «Словаря английского языка» (1755), автор
философской повести «Расселас, принц Абиссинский» (1759), морально‑дидактических
эссе, литературно‑критического «Жизнеописания наиболее выдающихся английских
поэтов» (1779‑1781).
[215] Босуэлл (Босвелл) Джеймс (1740‑1795) –
шотландский писатель, автор биографической книги «Жизнь Сэмюэла Джонсона»
(1791), считающейся одним из лучших образцов мемуаристики. Неутомимость
Босуэлла в добывании мельчайших подробностей биографии своего героя и друга при
жизни последнего и его безграничное восхищение личностью доктора Джонсона стали
притчей во языцех.
[216] Анна (1665‑1714) – королева
Великобритании и Ирландии с 1702 по 1714 г., дочь Якова II. Последняя
представительница династии Стюартов на английском престоле.
[217] Имеются в виду Уильям Стюарт Гладстон (1809‑1898)
и Бенджамин Дизраэли (1804‑1881). Гладстон был премьер‑министром Великобритании
в 1868‑1874, 1880‑1885, 1886, 1892‑1894 гг., Дизраэли – в 1868 и 1874‑1880 гг.
Шотландец Гладстон возглавлял Либеральную, а еврей Дизраэли – Консервативную
партию.
[218] Розбери, Бальфур, Кэмпбелл‑Баннерман и
Макдональд; можно добавить сюда Бонара Лоу – из шотландско‑ирландской семьи,
который родился в Канаде, но мать которого была чистокровной шотландкой, а сам
он поселился в Глазго. Таким образом, пять. Нешотландцев было семеро (Прим.
Д. Ч. Сомервелла).
[219] Виргиния – первая английская колония в
Северной Америке (с 1776 г. – штат США), названная так ее основателем сэром Уолтером
Рэли в честь «королевы‑девственницы» (Virgin Queen) Елизаветы I. Первая попытка
колонизации была неудачной, и колония просуществовала лишь с 1584 по 1587 г.,
окончательно же закрепиться в Америке англичане смогли только в 1607 г.,
который и считается годом основания Виргинии.
[220] Тридцатилетняя война – первая
общеевропейская война (1618‑1648) между большими группировками держав:
стремившимся к господству над всем христианским миром габсбургским блоком
(испанские и австрийские Габсбурги), поддержанным папством, католическими
князьями Германии и Польско‑Литовским государством, и противодействовавшими
этому блоку национальными государствами – Францией, Швецией, Голландией,
Данией, Россией, в известной мере – Англией, образовавшими антигабсбургскую
коалицию. Последняя в истории Европы большая религиозная война.
[221] Янки – здесь: уроженцы или жители Новой
Англии.
[222] Разгром (фр.).
[223] Галилея – во времена Иисуса Христа
Палестина разделялась на три части, из которых северная называлась Галилеей.
Она граничила на севере с Анти‑Ливаном, на востоке с Иорданом и Геннисаретским
озером, на юге с Самарией, а на западе с Финикией. Галилея разделялась на
Верхнюю и Нижнюю. Первая располагалась на севере и была населена частично
сирийцами, финикийцами, арабами и поэтому называлась «Галилеей языческой» (Мф.
4, 15).
[224] После завоеваний Александра Македонского
Палестина входила в состав эллинистического государства Селевкидов. В 167 г. до
н. э. здесь вспыхнуло восстание, вызванное эдиктом царя Антиоха IV, запрещавшим
под угрозой смертной казни соблюдение всех иудейских обрядов. Восстание возглавили
Маттафия из священнического рода Хасмонеев и пять его сыновей. В 166 г. до н.
э. во главе восстания встал третий сын Маттафии – Иуда по прозвищу Маккавей
(Молот). Это прозвище стало фамильным именем Хасмонеев. В 165 г. до н. э. он
взял Иерусалим, но вскоре (в 161 г. до н. э.) пал в бою. Его сменил Ионафан,
самый младший из братьев, ставший первосвященником. Однако и он был убит в 141
г. до н. э. В том же году второй сын Маттафии Симон провозгласил себя
первосвященником и князем, основав княжескую (с 106 г. до н. э. – царскую)
династию Маккавеев (Хасмонеев). При Симоне и его преемниках в состав
Хасмонейского государства были включены Эдом, вся Палестина (вместе с
побережьем), часть Заиорданья и Южной Финикии. Династия Маккавеев правила до 37
г. до н. э.
[225] Евангельская аллюзия – см.: Мф. 13, 31‑32;
Мк. 4, 31‑32; Л к. 13, 18‑19.
[226] Диаспора (греч, «рассеяние») –
первоначально области вне Палестины, в которых евреи жили рассеянно среди
нееврейского населения. Из 60 млн. человек, проживавших к началу христианской
эры в Римской империи, приблизительно 10% составляли евреи. Доля евреев на
востоке Римской империи была особенно велика. Так, в Сирии и Египте в некоторые
периоды проживало около I млн. евреев (в Александрии они заселяли две пятых
города). В отличие от ортодоксальных евреев Палестины их собратья по вере в
диаспоре противостояли эллинистическому окружению и стремились приобрести новых
последователей своей религии. Христианские апостолы следовали путями, которые
были проложены еврейскими миссионерами.
[227] Имеются в виду представители так называемого
каппадокийского кружка, действовавшего в малоазийской области Каппадокии во
второй половине IV в. Главой кружка был св. Василий Великий (ок. 330‑379),
важнейшими его членами – св. Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390) и св.
Григорий Нисский (ок. 335 – ок. 394). Наряду с борьбой против арианства, за
объединение Церкви на основе ортодоксии I Вселенского собора для каппадокийцев
характерно позитивное отношение к античной культурной традиции.
[228] Сызнова (лат.).
[229] Кикладские острова (Киклады; «Kυκλάδες»»,
буквально: «кругообразно расположенные») – острова в Эгейском море вокруг
острова Делос. Наиболее крупные – Наксос, Парос, Андрос, Тенос – были заселены
в древнейшие времена ионийцами, а Мелос, Фера и Антипарос – дорийцами. Несмотря
на то что на Кикладах было мало пригодной для земледелия земли, сельское
хозяйство являлось основным занятием островных жителей. Определенную роль
играла также торговля и добыча мрамора, красного железняка и др. Расцвет
культуры Кикладских островов относится к бронзовому веку (3‑2‑е тысячелетия до
н. э.). В V‑IV вв. до н. э. Киклады находятся главным образом под влиянием
Афин.
[230] Kρήιτες άει ψεϋσται, κακά θηρία, γαστέρες άργoί
(Тит. 1, 12). Авторство этой строки приписывается Эпимениду (Прим. Д.
Ч. Сомервелла).
[231] Кантонцы – жители портового города
Кантона (Гуанчжоу) в Южном Китае близ Южно‑Китайского моря, возникшего еще
около III в. до н. э. В 1923‑1926 гг., накануне и во время революции 1925‑ 1927
гг. в Китае, Кантон был центром национально‑революционных сил.
[232] Левант (от фр. Levant или итал.
Levante – Восток) – общее название стран, прилегающих к восточной части
Средиземноморья (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция, Кипр, Израиль), в более
узком смысле – Сирии и Ливана.
[233] Локрийцы (локры) – племена, в древности
заселившие две небольшие области Центральной Греции, отделенные друг от друга
Доридой и Фокидой: западную часть, или Локриду Озольскую, и восточную, также
делившуюся на две части (Локрида Эпикнемидская и Локрида Опунтская). Выходцы из
Локриды Озольской основали на юге Италии город Локры Эпизефирские, о жителях
которого и идет речь у Тойнби.
[234] Тевкры – название троянцев (по имени
первого царя Трои Тевкра, сына Скамандра с Крита).
[235] Бритты – кельтские племена,
составлявшие основное население Британии в VIII в. до н. э. – V в. н. э. В ходе
англосаксонского завоевания (V–VI вв.) часть бриттов была истреблена, часть
вытеснена с острова на материк, где осела на полуострове Арморика, передав ему
свое название – Бретань.
[236] Скотты – группа кельтских племен в
древней Ирландии (в римских источниках Ирландия иногда называется Скотией). В V
– начале VI в. вторглись в Северную Британию, откуда ее нынешнее название –
Шотландия (Scotland – «страна скоттов»).
[237] Далриада – гэльское королевство,
располагавшееся в V в. по обеим сторонам Северного пролива, разделяющего
Ирландию и Шотландию. Во второй половине V в. правящая династия ирландской
Далриады, уже принявшая к тому времени христианство, переправилась в
шотландскую Далриаду, но продолжала править по обеим сторонам пролива.
[238] Святой Колумба (Колум или Колумцилл)
(ок. 521 ‑597) – ирландский миссионер и аббат. Происходил из правящей
ирландской династии Далриады. Во время своего пребывания в Ирландии основал
множество церквей и известных монастырей. Около 563 г. вместе с 12 учениками
обосновался на острове Ай, или Иона, где возвел церковь и монастырь, обращая в
христианскую веру пиктов. Своей проповедью, праведной жизнью и чудесами обратил
в христианство значительную часть Северной Шотландии и основал там несколько
монастырей.
[239] В полном составе, во множестве (фр.).
[240] Твердая земля (лат.).
[241] Eνιαυτός δαίμων (греч. буквально:
«годовое божество») – термин, введенный филологами Кембриджской школы в конце
XIX в. для обозначения класса божеств, связанных с ежегодным обновлением
природы и имеющих отношение к растительности, сбору урожая и так далее.
[242] Мерсия – королевство, сложившееся в
конце VI в. в ходе англосаксонского завоевания Британии. Своего расцвета
достигло при короле Оффе (757‑796). В начале IX в. подчинено Уэссексом.
[243] Опорный пункт (фр.).
[244] Cucapa – военачальник войска асорского
царя Иавина (Суд. 4, 2). Войско под его начальством было многочисленно и
хорошо устроено, заключало в себе 900 колесниц и представляло резкий контраст с
небольшим войском Варака, состоявшим только из пехоты. Тем не менее последний
атаковал громадные полчища Сисары и при чудесной помощи свыше, а также
вследствие разлития потока Киссона (Суд. 5, 21) получил полную победу,
разгромил и преследовал Сисару. «И сошел Сисара с колесницы [своей) и побежал
пеший» и укрылся было в куще одного кенеянина, Хевера, но здесь был убит женою
его Иаилью. Неприятельское войско было истреблено, и таким образом иго Иавина,
царя асорского, свергнуто. Событие это долго вспоминалось израильтянами (I Цар.
12, 9; Пс. 82, 10).
[245] Аллиенское несчастье (лат.). 18 июля
387 г. до н. э. римские войска потерпели поражение от кельтов во главе с
Бренном у небольшой реки Аллии, правого притока Тибра. С тех пор этот день у
римлян считался «черным днем» (dies ater).
[246] Вейи (лат. Vei, близ совр. Изола‑ди‑Фарнезе)
– богатый и могущественный этрусский город на берегу реки Кремеры к северу от
Рима. После длительной войны с Римом (406‑396 гг. до н. э.) Вейи были взяты
Камиллом; жители были порабощены, город разграблен, а вейские владения
объявлены «государственной землей» (ager publicus).
[247] Баязид I Молниеносный (Bayezit I
Yildirim) (1354 или 1360‑ 1403) – турецкий султан в 1389‑1402 гг., знаменитый
воин, одержавший немало побед над войсками христиан, в том числе над
объединенной армией европейских крестоносцев во главе с венгерским королем
Сигизмундом при Никополе в 1396 г. Готовился к захвату Константинополя, когда
пришло известие о вторжении в Малую Азию войск Тамерлана. Баязид поспешил ему
навстречу и в 1402 г. был наголову разбит и взят в плен в сражении при Анкаре,
после чего Тамерлан возил побежденного в железной клетке вплоть до его смерти.
[248] Ангора – древнее название города
Анкары.
[249] Трансоксания – имеется в виду область,
расположенная «по ту сторону» реки Оке (Амударья), откуда пришли войска
Тамерлана.
[250] Мехмед II (Mehmet) Фатих (1432‑1481) –
турецкий султан в 1444 и 1451‑1481 гг. Проводил завоевательную политику в Малой
Азии и на Балканах. В 1453 г. захватил Константинополь и сделал его столицей
Османской империи, положив, таким образом, конец существованию Византийской
империи.
[251] Филипп V Македонский (238–179 гг. дон.
э.) – царь Македонии (с 221 г. до н. э.). В 216 г. до н. э. заключил союз с
Ганнибалом против Рима, но был в 197 г. до н. э. побежден в битве у Киноскефал.
[252] Киноскефалы (грен, «собачьи головы») –
два холма в центральной Фессалии. Здесь в 197 г. до н. э. римляне под
предводительством Квинтия Фламинина победили македонского царя Филиппа V, что
положило конец македонскому владычеству над Грецией.
[253] Персей (ум. 165 или 162 г. до н. э.) –
царь Македонии в 179– 168 гг. до н. э. Во время своего правления попытался
восстановить македонскую гегемонию и противостоять римской экспансии на Восток.
Однако римской дипломатии при помощи его противника Эвмена II Пергамского
удалось в значительной степени изолировать Персея, несмотря на то что тот
заключил союзы с греческими государствами и восточными владыками (Селевк IV,
Прусий II). Когда римляне в 171 г. до н. э. начали против него 3‑ю Македонскую
войну, от Персея отпала основная часть союзников. После первых успехов (в союзе
с Иллирией) Персей был разбит Эмилием Павлом в битве при Пидне (168 г. до н.
э.). Это означало конец военного противостояния греческих городов и Македонии
Риму.
[254] 2 декабря 1805 г. около австрийского города
Аустерлиц состоялось решающее сражение между русско‑австрийскими и французскими
войсками во время русско‑австро‑французской войны 1805 г. Французская армия
Наполеона I разбила русско‑австрийские войска под командованием М. И. Кутузова,
вынужденного действовать по одобренному Александром I неудачному плану
австрийского генерала Ф. Вейротера. После сражения 3‑я антифранцузская коалиция
распалась.
[255] Ваграм – селение в Австрии, северо‑восточнее
Вены. Около Ваграма 5‑6 июля 1809 г., во время австро‑французской войны 1809
г., французские войска Наполеона I разбили австрийскую армию эрцгерцога Карла,
и Австрия заключила перемирие, а затем Шёнбруннский мир 1809 г.
[256] Имеется в виду Йена‑Ауэрштедтское сражение 14
октября 1806 г., два связанных между собой сражения (под Йеной и Ауэрштедтом)
во время русско‑прусско‑французской войны 1806‑1807 гг., в которых французская
армия Наполеона I разгромила прусские войска, после чего французы заняли почти
всю Пруссию.
[257] Во время русско‑прусско‑французской войны 1806‑1807
гг. в сражении при городе Прейсиш‑Эйлау 26‑27 января (7‑8 февраля) 1807 г.
русские войска отразили атаки наполеоновских войск.
[258] Тильзитский мир – заключен 25 июня 1807
г. в Тильзите в результате личных переговоров Александра I и Наполеона I.
Россия соглашалась на создание герцогства Варшавского и присоединялась к
Континентальной блокаде. Отдельный акт оформил наступательный и оборонительный
русско‑французский союз.
[259] Штейн Генрих (1757‑1831) – прусский
государственный деятель. В 1804‑1807 гг. ведал финансами и экономикой, в 1807‑1808
гг. – глава прусского правительства. Провел (вопреки сопротивлению юнкерства)
ряд буржуазных преобразований (так называемые реформы Штейна–Гарденберга,
провозглашавшие личную свободу крестьян, выкуп крестьянами повинностей за
уступку помещику от 1/3до 1/2 их
надела, фактическое введение всеобщей воинской повинности и др.).
[260] Гарденберг (Харденберг) Карл Август
(1750‑1822) – князь, прусский государственный деятель. В 1804‑1806 и 1807 гг. –
министр иностранных дел. Был назначен канцлером в 1810 г., когда Пруссия
находилась фактически под французской оккупацией. Провел ряд либеральных
реформ, стремился к установлению конституционного строя, в чем, однако, не
преуспел, и после Венского конгресса 1815 г. постепенно утратил ведущую роль в
прусской политике.
[261] Гумбольдт Вильгельм (1767‑1835) –
немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.
Осуществил реформу гимназического образования в Пруссии, основал в 1809 г.
Берлинский университет. Один из виднейших представителей немецкого
классического гуманизма, друг И. В. Гёте и Ф. Шиллера. Видел в универсальном
развитии индивидуальности высшую цель, определяющую и границы деятельности
государства.
[262] Г‑н Тойнби писал эту часть своей книги летом
1931 г., когда доктор Брюнинг еще был канцлером, но уже после того, как
нацистское движение обеспечило тот сенсационный и зловещий выигрыш на выборах в
рейхстаг в сентябре 1930 г., который увеличил представительство партии с 12 из
491 места до 107 из 577 мест. Он писал: «Уже очевидно, что удары, которые
градом сыпались на Германию после перемирия 1918 г., будут иметь тот же
стимулирующий эффект, что и удары, нанесенные Пруссии столетием раньше в 1806‑1807
гг.». (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[263] Реймсский собор – архитектурный
памятник зрелой французской готики в городе Реймс. Трехнефная базилика
(построена в 1211 – 1311 гг.) с трансептом, развитой восточной частью и двумя
западными башнями. Выделяется гармоничностью композиции, богатейшим
скульптурным убранством. Служил местом коронации французских королей. Во время
Первой мировой войны немцы превратили его в развалины, используя в качестве
ориентира для своей артиллерии.
[264] Гекатомпедон (греч. «здание длиной в
сто шагов») – храм богини Афины в Акрополе, который был еще не достроен, когда
персы, захватившие Афины в 480 г. до н. э., сожгли его.
[265] Лондон после «Великого пожара» 1666 г.
подобным же образом имел мужество отстаивать современные архитектурные
убеждения и отстроить реновский собор св. Павла вместо того, чтобы пытаться
восстановить прежнее готическое здание. Что бы сделало сегодняшнее поколение
лондонцев, если бы Вестминстерское аббатство или реновский собор св. Павла были
разрушены немецкими бомбами? (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[266] Синедрион – верховное судилище иудеев,
находившееся в Иерусалиме и состоявшее из 72 членов под председательством
первосвященника. После разрушения Иерусалима синедрион уже перестал быть
судилищем, превратившись в школу, или училище, Закона. Судилищу синедриона
подлежали важнейшие общественные дела, например о войне и мире, о
правительственных должностях, апелляционные дела, административные меры
относительно церковных дел, определение новолуний, богослужебные учреждения и
т. д. Решениям синедриона обязаны были повиноваться все. Без его согласия царь
не мог начинать никакой войны. До покорения Иудеи римлянами синедриону
принадлежало и право жизни и смерти, однако с этого времени власть его была
ограничена: хотя синедрион и мог выносить смертные приговоры, на их исполнение
требовалось согласие римского правителя.
[267] Осман I (1259‑1326) – турецкий эмир с
1299 г., основатель Османской империи и династии Османов.
[268] Визави, напротив (фр.).
[269] Фактически значение тюркского слова «казак»,
по‑видимому, то же самое, что и значение ирландского слова «тори». Но в своем
буквальном смысле слово qazaq означает «землекоп», то есть платящий дань
земледелец, обитающий на окраине степи, упорствующий в своем неподчинении
власти кочевников. Другими словами, qazaq – это Каин в истории Каина и
Авеля, рассказанной с точки зрения кочевников (см. с. 141‑142) (Прим. А. Дж.
Тойнби).
[270] Мертвые, восстаньте! (фр.).
[271] Ленивые (фр.).
[272] «Ленивыми королями» называли королей из
династии Меровингов в 640‑751 гг., правивших лишь номинально (реальная власть
находилась в руках мажордомов).
[273] Нейстрия (Neustria) – Меровингское
королевство в западной части Франкской державы со смешанным галло‑римским и
франкским населением. Образовалась в результате раздела Франкского государства
после смерти Хлотаря I (561 г.). Располагалась между реками Шельдой и Луарой,
главные города – Париж, Суассон, Орлеан и Тур. Главный противник Австразии,
борьба с которой окончилась в 687 г. поражением для Нейстрии, в результате
прекратившей свое существование.
[274] Авары (обры) – племенной союз, главную
роль в котором играли тюркоязычные племена; впервые упоминаются в V в., вышли
из Зауралья. В VI в. вторглись в степи Западного Прикаспия, предпринимали
грабительские набеги в Центральную Европу, в 560‑х гг. образовали в Паннонии (в
бассейне Дуная) государственное объединение – Аварский каганат. Совершали
походы против славян, франков, лангобардов, грузин, вторгались на Балканы и в
Византию. В 626 г. были разбиты под Константинополем, в середине VII в.
подверглись нападениям славян и франков. В конце VIII в. разгромлены Карлом
Великим, позже ассимилированы народами Подунавья и Западного Причерноморья.
[275] «Каролингское возрождение» – культурный
подъем в империи Карла Великого и в королевствах династии Каролингов в VIII‑IX
вв. (в основном на территории Франции и Германии); выразился в организации
школ, привлечении к королевскому двору образованных деятелей, в развитии
литературы, изобразительного искусства, архитектуры. Центр «Каролингского
возрождения» – кружок при дворе Карла Великого, так называемая «Академия»,
которой руководил Алкуин, участвовали сам Карл Великий, Эйнгард и др.
[276] Оттон (912‑973) – с 936 г. германский
король, с 962 г. император Священной Римской империи, которую основал, завоевав
Северную и Среднюю Италию. Укрепил королевскую власть, подчиняя герцогов и
опираясь на епископов и аббатов. Победа над венграми при Лехе (955)
приостановила их наступление на запад.
[277] Ганза (нем. Hanse) – торговый и
политический союз северонемецких городов в XIV (окончательное оформление) – XVI
вв. (формально до 1669 г.) во главе с Любеком. Ганзе, осуществлявшей
посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой,
принадлежала торговая гегемония в Северной Европе. В пору своего расцвета союз
охватывал 85 городов. Ее главными опорными пунктами были Брюгге, Новгород,
Лондон, Берген. С конца XV в. начался упадок Ганзы.
[278] Франконская династия (Салическая
династия) – династия германских королей и императоров Священной Римской империи
в 1024‑1125 гг. Основатель – Конрад II. Наиболее известный представитель –
император Генрих IV.
[279] Гогенштауффены (Штауффены) – династия
германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138‑1254 гг., в
1197‑1268 гг. – также короли Сицилийского королевства. Главные представители:
Фридрих I Барбаросса, Генрих VI, Фридрих II Штауффен.
[280] Люксембурги – династия императоров
Священной Римской империи в 1308‑1437 гг. (с перерывами), занимавшая также
чешский (1310‑1437 гг.) и венгерский (1387‑1437 гг.) престолы.
[281] Габсбурги – династия, правившая в
Австрии (1282‑1918), Чехии и Венгрии (1526‑1918), части Италии (с XVI в. до
1866 г.) (с 1282 г. – герцоги, с 1453 г. – эрцгерцоги, с 1804 г. – австрийские
императоры, с 1867 г. – императоры Австро‑Венгрии). Были императорами Священной
Римской империи (постоянно – в 1438‑1806 гг., кроме 1742‑1745 гг.), а также
королями Испании (151 б– 1700).
[282] Фридрих I Барбаросса (ок. 1125‑1190) –
германский король и император Священной Римской империи с 1152 г. Пытался
подчинить северо‑итальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской
лиги в битве при Леньяно (1176).
[283] Битва у города Мохач на правом берегу Дуная
между войсками турецкого султана Сулеймана I и венгерского короля Лайоша II
произошла 29 августа 1526 г. В результате победы турецких войск значительная
часть Венгерского королевства попала под власть Османской империи.
[284] Хуньяди Янош (ок. 1407‑1456) – регент
Венгерского королевства в 1446‑1452 гг. В 1441 ‑1443 гг. провел успешные походы
на юге королевства против османских завоевателей. Нанес поражение османским
войскам в Белградской битве 1456 г.
[285] Матьяш Хуньяди (Матфей Корвин) (1443‑1490)
– король Венгерского королевства с 1458 г. Проводил политику централизации
страны. Вел борьбу с Османской империей. В 1468‑1470 гг. возглавлял походы
против Чехии; захватил Моравию и Силезию. В 80‑х гг. XV в. занял большую часть
австрийских владений с Веной (1485). Установил дипломатические связи с Русским
государством (1482).
[286] С 21 февраля по 21 декабря 1916 г. во время
Первой мировой войны 5‑я германская армия пыталась прорвать фронт французских
войск в районе города Вердена, но встретила упорное сопротивление. В длительных
ожесточенных боях (на один гектар местности здесь было выпущено в среднем 50
тонн снарядов) обе стороны понесли огромные потери – около 1 млн. убитых и
раненых. В декабре 1916 г. французские войска в основном восстановили
положение. Историки и журналисты прозвали эту самую длительную и упорную битву
Первой мировой войны «Верденской мясорубкой».
[287] Соглашение (нем.).
[288] По соглашению 1867 г. между господствующими
классами Австрии и Венгрии Австрийская империя Габсбургов была преобразована в
дуалистическую (двуединую) монархию Австро‑Венгрию во главе с австрийским
императором (он же венгерский король). Венгрия, как и Австрия, была признана
суверенной частью государства. Двуединая монархия делилась на Австрийскую
империю (или Цислейтанию, т. е. земли «по эту сторону» реки Лейты) и
Королевство венгров (Транслейтанию). Каждая часть имела свое правительство и
свой парламент. Просуществовала до 1918 г.
[289] Галиция – историческое название части
западно‑украинских и восточно‑польских земель, присоединенных к Австрийской
империи по 1‑му (1772, Восточная Галиция) и 3‑му (1795, Западная Галиция)
разделам Речи Посполитой. В 1772‑1918 гг. – провинция Габсбургской империи
(официальное название – Королевство Галиции и Лодомерии с Великим герцогством
Краковским). По конституционной реформе 1867 г. местный сейм получил
определенные права во внутреннем самоуправлении.
[290] 28 июня 1914 г. в городе Сараево Таврило
Принцип по заданию конспиративной группы «Молодая Босния» убил наследника
австро‑венгерского престола эрцгерцога Франца‑Фердинанда и его жену. Сараевское
убийство было использовано австро‑германскими властями как повод для начала
Первой мировой войны.
[291] У Инёню 10 января и 31 марта 1921 г. турецкие
войска нанесли поражение превосходящим по численности и техническому оснащению
греческим войскам, что во многом решило исход греко‑турецкой войны 1919‑1922
гг.
[292] «Гептархия» (от греч. έπτά –
«семь» и άρχή – «власть, царство», то есть «семицарствие») – обозначение в
исторической литературе (с XVI в.) периода истории Англии, отмеченного
отсутствием государственного единства (с конца VI – начала VII до IX в.; по
семи наиболее известным англосаксонским королевствам: Кент, Уэссекс, Суссекс,
Эссекс, Нортумбрия, Мерсия и Восточная Англия). Это название достаточно
условно, поскольку королевства периодически объединялись, распадались и в
действительности их количество редко когда равнялось семи.
[293] Пикты – группа племен, составлявших
древнее население Шотландии. В IX в. были завоеваны скоттами и смешались с
ними.
[294] Эдинбург, т. е. «город Эдвина».
[295] Лотиан – район Шотландии между реками
Твид и Клайд и заливом Ферт‑оф‑Форт. Главный город – Эдинбург.
[296] Хайлендз (англ. the Highlands –
буквально: «горная страна») – север и северо‑запад Шотландии.
[297] Хамбер – эстуарий рек Трент и Уз на
востоке острова Великобритания.
[298] «Датские законы» (Danelaw) – были
установлены в северо‑восточной Британии в X в. нападавшими на Английское
королевство скандинавскими викингами, которых в Англии называли датчанами.
[299] Оффа (ум. 796) – король Мерсии (с 757
г.). Разбил кентцев в 775 г., подчинил восточных саксов и захватил Лондон. В
битве при Бенсингтоне в 779 г. разбил западных саксов. Отвоевал территорию по
ту сторону Северна у Уэльса. Получил от папы Адриана I титул короля англичан.
[300] Кердик (ум. 534) – основатель Западно‑Саксонского
королевства. Саксонский эрл, Кердик вторгся в Англию в 495 г. и в результате
длительной борьбы постепенно расширил свои владения, основав королевство
Уэссекс около 519 г. Явился родоначальником Саксонского королевского дома в
Англии, из которого происходил Альфред Великий.
[301] Капет Гуго (ок. 940‑996) – основатель
династии Капетингов. После смерти отца получил в 956 г. герцогство Францию с
графствами Парижем и Орлеаном. При королях из династии Каролингов Хлотаре II и
Людовике V, опекуном которых он был, сосредоточил в своих руках всю власть.
После смерти последнего был выбран собранием крупных вассалов в короли и в 987
г. коронован.
[302] «Песнь о Молдонской битве» –
староанглийская поэма, посвященная знаменитому сражению уэссексцев с датскими
захватчиками в 991 г. у города Молдон (Эссекс), закончившемуся победой датчан.
[303] Гастингс – город в Великобритании
(графство Восточный Суссекс), около которого 14 октября 1066 г. войска герцога
Нормандии Вильгельма, высадившиеся в Англии, разгромили войска англосаксонского
короля Гарольда II. Гарольд пал в бою, и Вильгельм стал английским королем
(Вильгельм I Завоеватель).
[304] «В своем победоносном наступлении сарацины
прошли более тысячи миль от Гибралтарского утеса до берегов Луары; если бы они
еще прошли такое же пространство, они достигли бы пределов Польши и гористой
части Шотландии… Если бы это случилось, то в настоящее время, быть может,
преподавали бы в оксфордских школах Коран и с высоты их кафедр доказывали бы
исполнившему обряд обрезания народу, как свято и истинно откровение Мухаммеда» (Гиббон
Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и падение
Римской империи: В 7 т. Т. 6. М., 1997. С. 138).
[305] Мориски (исп. moriscos, от того – мавр)
– мусульманское население, оставшееся на Пиренейском полуострове после падения
Гранадского эмирата (1492 г.) и насильственно обращенное в христианство.
Мориски, большей частью тайно исповедовавшие ислам, преследовались инквизицией.
В 1609‑1610 гг. были изгнаны из Испании.
[306] Кроме освобождения по воле своих господ, для
рабов, особенно в поздние времена, существовала возможность выкупить себя на
собственные сбережения. В Риме при известных обстоятельствах они поднимались до
высоких постов в государстве (в императорском управлении и придворной службе,
особенно при императоре Клавдии). Сыновья вольноотпущенников во времена империи
могли стать всадниками и даже императорами (Пертинакс и Диоклетиан), но в
основном они принадлежали к классу мелких производителей и были доверенными
лицами своих патронов в деловых и политических предприятиях. Многие
вольноотпущенники были банкирами, врачами, учителями.
[307] Нарцисс (I в. н. э.) – вольноотпущенник
и фаворит римского императора Клавдия. Управляя одной из императорских
канцелярий, некоторое время являлся фактическим правителем империи.
[308] Трималхион – один из персонажей романа
римского писателя Петрония «Сатирикон». Разбогатевший вольноотпущенник, чье
чванство, необразованность и безвкусие высмеивает с позиций аристократа и
эстета Петроний.
[309] Эпиктет (ок. 50 – ок. 140) – римский
философ‑стоик. Был рабом одного из фаворитов императора Нерона, позднее отпущен
на волю. «Беседы» Эпиктета, содержащие моральную проповедь, записаны его
учеником Флавием Аррианом. Центральная тема «Бесед» – выработка и сохранение
такой нравственной позиции, при которой человек в любых условиях богатства или
нищеты, власти или рабства сохраняет внутреннюю независимость от этих условий и
духовную свободу.
[310] При римском императоре Константине I Великом
(272‑337 гг., правил с 306 г.) была признана христианская Церковь и сделаны
первые шаги на пути превращения христианства в государственную религию
(Миланский эдикт 313 г. признал христианство равноправной религией). В 325 г.
Константин I созвал в Никее I Вселенский собор, всемерно поощряя деятельность
Церкви по распространению христианства. В 321 г. объявил воскресенье «днем
покоя». Возведением Латеранской церкви положил начало монументальной церковной
архитектуры. Православная Церковь чтит его память как святого и
равноапостольного.
[311] Ювенал Децим Юний (ок. 60 – ок. 127) –
римский поэт‑сатирик. Известен как классик «суровой сатиры». Проникнутые
пафосом сатиры Ювенала, написанные в форме философской диатрибы, направлены
против различных слоев римского общества – от низов до придворных.
[312] «Низложил сильных с престолов, и вознес
смиренных» (Лк. 1, 52).
[313] Непреодолимая сила (фр.).
[314] Оттоманский мир (лат.).
[315] Румелия – общее название завоеванных в
XIV‑XVI вв. турками‑османами балканских стран. С конца XVI до XIX в. название
турецкой провинции с центром в Софии (включая Болгарию, Сербию, Герцеговину,
Албанию, Македонию, Эпир и Фессалию).
[316] «Несомненная судьба» (manifest destiny)
– идиома, используемая Тойнби по аналогии с распространенной в XIX столетии в
США доктриной или даже верой в то, что Соединенные Штаты являются «избранной
землей», самим Богом предназначенной для господства над всем Североамериканским
континентом.
[317] Ипсиланти Александр (1792‑1828) –
руководитель (с 1820 г.) греческой революционной организации «Филики Этерия».
Участник Отечественной войны 1812 г.; генерал‑майор русской армии (1817 г.). В
1821 г. на территории России сформировал повстанческую армию и, перейдя через
Прут, который являлся русской границей, поднял антиосманское восстание в
турецкой Молдове, явившееся сигналом к началу Греческой национально‑освободительной
революции (Греческой войны за независимость) 1821‑1829 гг.
[318] Майноты (маниаты) – жители местности
Мани, или Майны, в Пелопоннесе, считавшие себя потомками древних спартанцев. В
эпоху турецкого владычества фактически сумели сохранить свою независимость. Во
время войны Греции за освобождение выступили против турков под
предводительством Петробея Мавромихалиса.
[319] Мавромихалис Петро (начало 1760‑х –
1848) – майнотский бей, более известный под именем Петро‑бей. Поступил на
турецкую службу, получил титул бея и приобрел на родине огромный авторитет. В
1818 г. стал членом организации «ФиликиЭтерия»,и в 1821 г. одним из первых
открыто примкнул к восстанию. В 1823 г. избран президентом временного
правительства. В 1827 г. был членом триумвирата, управлявшего до прибытия
Каподистрии и передавшего ему власть. Когда обнаружились централистские
тенденции Каподистрии, Мавромихалис решительно разорвал с ним. Через некоторое
время вспыхнуло восстание на Майне, и Мавромихалис был посажен в тюрьму по
обвинению в подготовке этого восстания. После того как родственники
Мавромихалиса, мстившие за него, убили в 1831 г. Каподистрию, Петро‑бей был
освобожден, стал в 1832 г. членом национального собрания, а затем – членом
сената.
[320] Г‑н Тойнби писал эту часть книги еще до того,
как нацистские преследования евреев открыли новую, еще более страшную главу в
этой истории. Поэтому данная глава не нашла себе места в изложенном ниже (Прим.
Д. Ч. Сомервелла).
[321] Ашкенази (ашкеназим) – общее название
этнических групп евреев – выходцев из стран Центральной и Восточной Европы, а
также США, в основном говорящих на языке идиш. Слово «ашкенази» произведено от
«Ашкеназ» – так в средневековой раввинистической литературе именуется Германия.
По одной из версий, ашкенази произошли от древних хазар и, следовательно,
являются по крови тюрками.
[322] Черта оседлости – в России в 1791‑1917
гг. граница территории, на которой разрешалось постоянное жительство евреям.
Охватывала пятнадцать губерний Польши, Литвы, Белоруссии, Бессарабии,
Курляндии, большую часть Украины, Кавказа и Средней Азии.
[323] Как учитель средней школы, я (издатель) могу
заметить, что несколько раз наблюдал, как те еврейские мальчики в школе,
которые оказывались хорошими атлетами и тем самым получали зеленую улицу к
уважению своих товарищей, проявляли гораздо меньше «еврейского этоса», чем
другие, менее удачливые еврейские мальчики. Обычный нееврейский мальчик просто
не считает их евреями, какой бы ни была их внешность и фамилия (Прим. Д. Ч.
Сомервелла).
[324] Сефарды – потомки испанских и вообще
средиземноморских евреев, включая выходцев из стран Ближнего Востока и Северной
Африки.
[325] Дизраэли считал себя – и, возможно,
справедливо, хотя его сообщение о своей семейной истории было весьма
фантастичным, – потомком этих последних (Прим. А. Дж. Тойнби).
[326] Мараны (исп. marranos) – в
средневековой Испании и Португалии евреи, официально принявшие христианство (главным
образом после указа 1492 г., предписывавшего иудеям перейти в католичество или
покинуть Испанию). Их преследовала инквизиция, обвиняя в тайной приверженности
иудаизму.
[327] Фалаша – жители Эфиопии
(этнографическая группа агау), принявшие иудаизм в I1I‑1V вв. н. э.
[328] До бесконечности (лат.) .
[329] В 810 г. Венеция, входившая в состав
византийских владений, была захвачена Карлом Великим (освобождена в 812 г.). Во
второй раз город был захвачен в 1797 г. Наполеоном и в том же году перешел во
владение Австрии.
[330] Кельтская ярость (лат.).
[331] Галаты – кочевые галлы (кельты),
вторгшиеся в 278 г. до н. э. в Малую Азию и осевшие около 232 года до н. э. в
центральной части Малой Азии, получившей название Галатии. В течение столетия с
лишним терроризировали всю Западную Азию. Побежденные около 230 г. до н. э.
Атталом I Пергамским, галаты в конце концов перешли под власть Рима, и в 25 г.
до н. э. император Август основал провинцию Галатия путем добавления соседних
областей к прежней территории галатов.
[332] Жизненное пространство (нем.).
[333] Галис (Halys) – река в центральной
части Малой Азии, впадает в Черное море.
[334] Тевтонская ярость (лат.).
[335] Выражение «тевтонская ярость» принадлежит
римскому поэту Марку Аннею Лукану (39‑65 гг. н. э.) и встречается в его поэме
«Фарсалия» (I, 255). В 101 и 102 гг. до н. э. римский полководец Гай Марий
разбил вторгшиеся в Северную Италию германские племена кимвров и тевтонов.
[336] Ариовист – вождь германского племени
свевов. В конце 70‑х гг. I в. до н. э. был приглашен одной из партий галльской
знати в качестве своего рода «наемного вождя». В дальнейшем Ариовист приобрел в
Галлии самостоятельное положение. В 59 г. до н. э. Цезарь способствовал
признанию сенатом Ариовиста «другом римского народа», однако в 58 г. до н. э.,
после победы над гельветами, изгнал Ариовиста из Галлии, так как тот мешал его
планам дальнейшего завоевания страны.
[337] Ираклий (575‑641) – византийский
император с 610 г. Сын карфагенского экзарха, Ираклий низложил Фоку и занял
византийский престол. Отразил в 626 г. нашествие авар и славян на
Константинополь. В 627‑628 гг. вернул земли, отнятые персами на востоке
Империи, но не смог отстоять их от захвата арабами в 630‑х гг.
[338] Туле – самый северный остров, который
удалось посетить греческому географу и исследователю европейского Северо‑Запада
и Севера Пифею, жившему во времена Александра Македонского. Пифей, в частности,
упоминает в связи с Туле о коротких летних ночах. Туле толковали по‑разному:
как один из Шетландских островов, Норвегию или Исландию (последнее значение
обычно для средневековья).
[339] От латинского «pessimum» – наихудший.
[340] Возможно, термин «Голлоуэй», используемый нами
в заголовке параграфа, не полностью соответствует описанию той местности, из
которой вышли ольстерские колонисты (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[341] Рифы – народ, живущий в горной области
Риф (на севере Марокко), говорящий на берберском языке. Этот народ стал широко
известен в связи с героической национально‑освободительной войной, которую он
вел в 1920‑х гг. против испанских и французских колонизаторов. В 1924 г.
повстанцы создали Свободную Республику Риф, которая, однако, была вскоре
уничтожена колонизаторами.
[342] Патаны – другое название афганцев,
принадлежащих к иранской группе индоевропейской семьи.
[343] Гракхи, братья – Тиберий (162‑133 гг.
до н. э.), римский народный трибун в 133 г. до н. э., и Гай (153‑121 гг. до н.
э.), римский народный трибун в 123 и 122 гг. до н. э. Происходили из знатного
плебейского рода. Пытались проведением демократических земельных реформ
приостановить разорение крестьянства. Гаем был предложен также закон о
предоставлении прав римского гражданства италийским союзникам. Погибли в борьбе
с сенатской знатью за осуществление своих реформ.
[344] Кули (тамильск. – «заработки») –
название низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих в Китае, Индии и ряде
других стран.
[345] В следующей главе мы встретимся с еще одной,
отличной от этой, группой «задержанных цивилизаций». Окажется, что они стали
жертвами не «детской смертности», но «детского паралича». Это цивилизации,
которые родились, но которым не удалось, подобно некоторым детям в волшебной
стране (например, Питеру Пэну), вырасти (Прим. А. Дж. Тойнби).
[346] Пелагий (ок. 360 – после 418) –
христианский монах, основатель пелагианства, распространившегося в странах
Средиземноморья в начале V в. Учение Пелагия в противовес концепции благодати и
предопределения Августина Блаженного делало акцент на нравственно‑аскетическом
усилии самого человека, отрицая наследственную силу греха. Осуждено как ересь
на III Вселенском соборе (431).
[347] Святой Патрик (385? – 461) – основатель
и первый епископ Ирландской христианской церкви, с именем которого связано
обращение ирландцев в христианство. Считается, что св. Патрик, уроженец
Северной Британии, прибыл в Ирландию по поручению римского папы, уже будучи в
сане епископа. Почитается как апостол и патрон Ирландии.
[348] Клонмакнуаз (Clonmacnoise) –
раннехристианский центр на левом берегу реки Шаннон в графстве Оффали
(Ирландия). Стал видным ирландским монастырским городом после основания там
аббатства св. Сиарана в 545 г. К IX в. стал важным образовательным центром.
[349] Рэтисбон (Ratisbon) – староанглийское
название города Регенсбурга в Баварии.
[350] Святой Уилфрид (Уилфрид Йоркский) (634‑709/710)
– монах и епископ, внесший большой вклад в установление тесных отношений между
англосаксами и папством. Посвятил свою жизнь установлению обрядов Римско‑Католической
церкви вместо обрядов Кельтской церкви и провел ряд бурных диспутов по поводу
церковной дисциплины и прецедента.
[351] Теодор Тарсийский (Кентерберийский),
св. (602‑690) – седьмой епископ Кентерберийский (с 668) и первый архиепископ
всей Английской церкви. В 672 г. собрал собор в Хертфорде, в котором Английская
церковь участвовала как единое тело. На соборе был положен конец некоторым кельтским
практикам и произведено деление Англии на диоцезы. Собор также утвердил дату
празднования Пасхи по римско‑католическому обряду.
[352] Брайен Ворью (Бороиме) (926 или 941‑1014)
– король Манстера (с 978 г.), верховный король Ирландии (с 1002 г.). В 1014 г.
войско Брайена разгромило вторгшихся в Ирландию датчан в сражении при местечке
Клонтарф (близ Дублина), положив тем самым конец их многолетнему владычеству в
Ирландии, однако сам Брайен погиб в бою. Это знаменитое сражение достаточно
подробно (хотя и с некоторыми фантастическими деталями и преувеличениями)
описано в исландской «Саге о Ньяле».
[353] Генрих II Плантагенет (Генрих
Анжуйский) (1133‑1189) – английский король с 1154 г., первый из династии
Плантагенетов. После брака с разведенной женой французского короля Людовика VII
Алиенорой Аквитанской и присоединения ее наследственных земель к своим стал
владеть гораздо большей частью Франции, нежели та, что оставалась под
управлением короля этой страны. Постоянно вел борьбу с непокорными вассалами, а
также с Церковью, которую пытался подчинить светской власти. Провел реформы,
укрепившие королевскую власть. В 1171 г. завоевал Ирландию. Царствование
Генриха II было периодом так называемого классического возрождения – расцвета
английской литературы на латинском языке и поэзии трубадуров.
[354] Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 – ок. 877)
– средневековый философ, ирландец по происхождению. С начала 840‑х гг.
находился во Франции при дворе Карла Лысого, где был высоко ценим за свою
необычайную ученость. Ориентировался на греческий средневековый неоплатонизм
(перевел на латинский язык «Ареопагитики»). Главное сочинение Эриугены «О
разделении природы» проникнуто сильными пантеистическими тенденциями. Идеи
Эриугены были осуждены в XIII в. как еретические.
[355] Война Карла Великого с саксами продолжалась с
772 по 804 г. и закончилась покорением Саксонии и включением ее в состав
Франкского государства.
[356] Варварская ярость (лат.).
[357] В VIII–IX вв. между славянами и скандинавами
существовали довольно тесные отношения. Викинги плавали по Варяжскому
(Балтийскому) морю к берегам Гардарики («страны городов»), как они тогда
называли Русь, и устраивали здесь свои поселения. Однако до сих пор среди
ученых нет единого мнения по поводу характера варяжских поселений: были ли это
временные городища, где жили воины и торговцы, или колонии с постоянным
населением.
[358] Как свидетельствуют исландские саги, в 1000 г.
Лейф, сын норвежца Эрика Рыжего, покинув Гренландию, которая была открыта и
населена его отцом, отплыл с командой из 35 человек в юго‑западном направлении
и открыл побережье Америки, которой дал название Винланда («страна винограда»).
В 1007 г. один богатый гренландец с 60 приверженцами эмигрировал в Винланд и основал
там колонию, которая, по‑видимому, процветала, однако через некоторое время
никаких упоминаний о ней не встречается.
[359] «Латенская культура», названная так по месту у
истока Невштальского озера, где были найдены первые поразительные остатки этой
культуры (Прим. А. Дж. Тойнби).
[360] Латенская культура – культура кельтских
племен, обитавших во второй половине I тысячелетия до н. э. и в начале нашей
эры на территории современных Франции, Швейцарии, Чехословакии, Югославии,
Австрии, Северной Италии, Британских островов. Названа по городищу Латен (La
Tene) на берегу Невштальского озера, где в 1861‑1881 и 1907‑1917 гг. было
сделано большое количество находок. Делится на три стадии: 1‑я – от 500 до 300
г. до н. э., 2‑я – от 300 до 100 г. до н. э., 3‑я – от I в. до н. э. до I в. н.
э.
[361] Moribus et lingua, quoscumque venire
videbant,
Informant propria, gens efficiatur ut una.
(William of Apulia. De Gestis Normanorum//Muratori.
Scriptores Rerum Italicarum).
[362] «Magnus» no‑латыни значит «великий».
[363] По сообщению «Повести временных лет», в 862 г.
новгородские старейшины пригласили на княжение варягов с такими словами: «Земля
наша велика и обильна, только нет в ней порядка. Приходите и владейте нами». На
этот призыв откликнулся скандинавский ярл Рюрик и прибыл с дружиной в Новгород,
посадив своих братьев Синеуса и Трувора на Белоозере и в Изборске. Впоследствии
это сообщение летописца породило множество противоречащих друг другу теорий о
происхождении Русского государства: от крайне норманнской, чрезмерно
преувеличивающей роль скандинавских народов в становлении русской
государственности, до абсолютно антинорманнской, считающей это государство
самобытным и чисто славянским. Называя Русь «скандинавским королевством».
Тойнби явно преувеличивает роль скандинавов в формировании русской
государственности.
[364] Введение христианства в греко‑православной
форме на Руси («Крещение Руси») было начато в 988 г. правнуком Рюрика великим
князем киевским Владимиром I Святославичем. В Дании христианство принял в 965
г. король Харальд I Синезубый Гормсен (950‑986). Однако его сын, Свен
Вилобородый Харальдсен, воевал против отца за старых богов. Сын Свена король
Кнуд Свенсен I Великий (1018‑ 1035), создавший огромную державу, в которую входили
Дания, Англия, Норвегия и часть Швеции, продолжил политику своего деда.
Норвегия приняла христианство в одно время с Данией и Швецией. Первые попытки
обратить норвежцев в христианство были сделаны в правление короля Олафа I
Трюгвесона (995‑1000). Однако народ не хотел расстаться со своими старыми
богами, противодействуя введению христианства. Окончательно новая религия была
утверждена в Норвегии силой оружия при короле Олафе II Харальдсоне (1015 или
1016‑1028), провозглашенном после смерти святым.
[365] К концу X в. в Исландии появились первые
христианские миссии. В 1000 г. после долгих диспутов, едва не приведших к
гражданской войне, альтинг (общенародное собрание) принял закон, согласно
которому все население страны должно было принять христианство. К концу XI в. в
Исландии было два епископства, к середине XIII в. – шесть монастырей. Однако
долгое время христианство здесь не могло окончательно вытеснить язычества.
[366] Имеются в виду события VIII–IX вв., связанные
с распространением иконоборческой ереси в Византии. В 726 г. император Лев III,
выходец из Сирии, выступил против иконопочитания, рассчитывая, что уничтожение
почитания икон вернет Империи утраченные ею области и что евреи и мусульмане, у
которых существовал запрет на изображения, сблизятся с христианством.
Духовенство поддержало Льва III и догматически санкционировало иконоборчество
на соборе 754 г. Против иконоборчества выступила оттесненная от власти
городская знать Константинополя, торговые центры Эллады и островов, монашество.
Императоры‑иконоборцы, закрывая монастыри, распродавая их земли, конфискуя
церковные сокровища и имущество городской знати, усилили провинциальную знать и
фемное войско, поддержали крестьянскую общину и городских ремесленников. Затем
провинциальная знать начала использовать свои привилегии для наступления на
крестьян, что привело последних к отходу от официального иконоборчества. Этим
воспользовалась окрепшая городская знать, которая в 787 г. временно добилась
восстановления иконопочитания. В 815 г. провинциальная знать вновь овладела
государственным аппаратом и восстановила иконоборчество. Однако в 820 г.
вспыхнуло народное восстание под руководством Фомы Славянина, которое
постепенно усиливалось. Перед опасностью нараставшего антифеодального движения
провинциальная и городская знать объединились для борьбы с павликианами, и
иконоборчество потерпело поражение. В 843 г. иконопочитание было окончательно
восстановлено.
[367] Абиссиния – неофициальное название
Эфиопии, употреблявшееся в прошлом и встречающееся иногда в современной
зарубежной литературе. Это – единственное государство Африки, сумевшее отстоять
свою независимость в борьбе с турками‑османами, Португалией, Великобританией,
Италией и другими странами (лишь часть страны – Эритрея – с 1890 по 1941 г.
была колонией Италии). Территория Эфиопии – один из древнейших ареалов
становления человека. В начале нашей эры на севере существовало крупное
Аксумское царство. В IV в. в Аксум проникает христианство, а в V‑VI вв.
христианство монофизитского толка становится господствующей религией в стране.
Арабские завоевания привели в конце VIII в. к падению Аксумского государства.
Весь последующий период характеризуется феодальной раздробленностью. Лишь со второй
половины XIX в. начинается борьба за создание и укрепление централизованного
эфиопского государства.
[368] Менелик II (Мынилик) (1844‑1913) –
император (негус) Эфиопии с 1889 г. (с 1909 г. фактически не правил из‑за
болезни). Продолжал начатую его предшественниками политику централизации
государственного управления. В 1890 г. заключил с итальянцами договор, по
которому обязался вести все переговоры с европейскими державами исключительно
через них. Однако в 1896 г. в результате побед над итальянцами добился полной
независимости. С этого времени Англия, Франция и Россия стали отправлять к нему
посольства.
[369] О философских идеалах неуязвимости и невозмутимости
см. ниже (Прим. А. Дж. Тойнби) .
[370] Хайле Селассие I (до коронации – Тафари
Маконнен) (1892‑ 1975) – император Эфиопии в 1930‑1974 гг. Возглавлял борьбу
против итальянских захватчиков во время итало‑эфиопской войны 1936‑1939 гг. В
1974 г. в Эфиопии возник глубокий социально‑экономический и политический
кризис, вызванный невыполнением правительством требований аграрной реформы и
других антифеодальных реформ, и голодом, последовавшим за засухой 1973 г. В
результате антифеодальной национально‑демократической революции власть перешла
к Временному военно‑административному совету, а император Хайле Селассие I
отрекся от престола.
[371] Анау – остатки древних земледельческих
поселений и городищ от времени энеолита до средневековья, расположенные у
современного селения того же имени в 12 км к востоку от Ашхабада. Мировую
известность приобрели северный и южный холмы Анау, являющиеся остатками
оседлоземледельческих поселений энеолита и бронзового века. При раскопках этих
холмов американской экспедицией в 1904 г. под руководством Р. Пумпелли выделено
четыре комплекса (комплексы Анау‑I и Анау‑II относятся к концу V‑IV
тысячелетиям до н. э., Анау‑III датируется III‑II тысячелетиями до н. э., Анау‑IV
относится к X‑IV вв. до н. э.). Раскопки Анау дали большой материал по истории
раннеземледельческих племен юго‑запада Средней Азии, культура которой иногда
именуется культурой Анау, и установили наличие связей Анау с земледельческими
культурами Передней Азии.
[372] Бывших (фр.).
[373] Исходя из этих оснований, г‑н Тойнби дает
исчерпывающий обзор в обширном приложении к данной главе, которое не может быть
воспроизведено здесь (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[374] Имеется в виду один из эпизодов присоединения
Средней Азии к Российской империи. Занятие побережья Красноводского залива (юго‑восток
Каспийского моря) и установление протектората над Хивинским ханством и
Бухарским эмиратом привело к распространению влияния России на значительную
часть Туркмении. Вопрос о подчинении остальной ее части возник в связи с англо‑русским
соперничеством в Средней Азии, в частности с англо‑афганской войной 1878‑1880
гг. Заняв в конфликте Англии с Афганистаном нейтральную позицию и учитывая
активизацию английских происков в Туркмении, царское правительство решило
воспользоваться англо‑афганской войной для отправки из Красноводска военной
экспедиции в Ахал‑Текинский оазис с целью овладения им и его укрепленным
центром Геок‑Тепе. Первая попытка, предпринятая летом 1879 г., закончилась
полной неудачей. В 1880 г. была снаряжена вторая экспедиция во главе с
генералом Скобелевым. На этот раз была проведена тщательная подготовка. Отряд
был гораздо лучше вооружен, на пути его следования были созданы хорошо
организованные базы. Кроме того, в связи с походом была начата постройка первой
линии железной дороги в Средней Азии – от побережья Каспийского моря в глубь
туркменских степей. В мае 1880 г. начался поход русских войск. После
трехнедельной осады и последовавшего затем штурма Геок‑Тепе крепость пала 12
января 1881 г. Русские войска 18 января заняли аул Ашхабад, а затем и другие
селения. Бои под Геок‑Тепе носили ожесточенный характер. Туркмены упорно
защищали крепость, но преимущество было на стороне несравненно лучше
вооруженных и организованных русских войск. 6 июня 1881 г. Александр III
утвердил представление кавказского наместника, согласно которому вновь занятые
земли Ахал‑Текинского оазиса вместе с Закаспийским военным отделом образовали
Закаспийскую область с центром в городе Асхабаде, основанном рядом с аулом
Ашхабад. Область была подчинена кавказскому наместнику.
[375] Первая мировая война 1914‑1918 гг.
[376] Маасаи – африканский народ, обитающий
на нагорьях Кении и Танзании. По большей части занимаются скотоводством и ведут
полукочевой образ жизни.
[377] Имошаг – самоназвание берберского
народа туарегов, обитающих в Мали, Нигере, Верхней Вольте, Алжире.
[378] Религиозно‑политическое движение ваххабитов,
своего рода исламских пуритан, возникло в Центральной Аравии (Неджд).
Основателем его явился арабский теолог Мухаммед ибн Абд аль‑Ваххаб (1703‑1787).
Ваххабиты ратовали за чистоту ислама, проповедовали простоту нравов, отвергали
поклонение святым и даже пророку Мухаммеду, осуждали философию. С другой
стороны, они проводили политику объединения Аравии. В 1740‑1748 гг. аль‑Ваххаб
и шейх одного из недждских племен создали ваххабитский султанат. В 1806 г.
ваххабиты взяли Мекку. К началу XIX в. большая часть Аравии была объединена
ваххабитами в феодальное государство Саудидов, просуществовавшее до начала XX
в. (с перерывами). В 1902 г. Ибн Сауд (1880‑1953) восстановил завоеванный
турками султанат и стал эмиром Неджда. В 1920‑1926 гг. он вел войны за
объединение Аравии и завоевал большую ее часть, создав государство Хиджаз, Неджд
и присоединенные области (с 1932 г. официальное название – Королевство
Саудовская Аравия). Ваххабизм является официальной идеологией Саудовской
Аравии.
[379] Если бы г‑н Тойнби писал этот пассаж в 1945
г., как его издатель, то ему бы понадобилось внести в него некоторые небольшие
изменения (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[380] Человек‑кочевник (лат.).
[381] На смертном одре (лат).
[382] Человек‑ремесленник (лат.).
[383] Шеол (евр. Seol – возможно,
«вопрошаемый», «неисследимый») – в иудаистической мифологии царство мертвых,
загробный, «нижний», или «низший», мир, противополагаемый небу. Шеол
представляется одушевленным существом, страшным чудовищем, которое проглатывает
мертвых, смыкая над ними свои гигантские челюсти; утроба Шеола вечно ненасытна,
а его душа расширяется и волнуется в предчувствии добычи.
[384] См. выше.
[385] В стране земледельцев (лат.).
[386] Аттила (406? – 453) (прозванный Бич
Божий) – предводитель гуннов с 434 г. Возглавил опустошительные походы в
Восточную Римскую империю в 443 и 447‑448 гг. и заставил восточно‑римского
императора Феодосия II платить дань. Во время похода против Галлии Аттила
потерпел в 451 г. поражение от войск под предводительством Аэция. От осады Рима
он отказался в связи со вспышкой эпидемии в войске. При Аттиле гуннский союз
племен достиг наивысшего могущества. После кончины Аттилы его государство
распалось.
[387] Монгольское нашествие на Иран началось в 1220
г. В 1251 г. на курултае монгольской знати было решено организовать новый
поход, а Иран, Ирак, Закавказье и часть западных арабских земель были объявлены
владением внука Чингисхана хана Хулагу (ум. 1265). В 1256 г. Хулагу вступил с
войсками в пределы Ирана и стал основателем державы Хулагуидов, носивших титул ильханов
(т.е. «владык народа или племени»). Держава Хулагуидов просуществовала до
середины XIV в.
[388] Монгольское завоевание территории современного
Китая растянулось почти на семь десятилетий. Первые удары монгольского войска
Чингисхана обрушились на южных соседей Монголии – тангутское государство Си Ся
и чжурчжэньскую империю Цзинь (1205). После завоевания Северного Китая в конце
1235 г. начались регулярные военные действия между монголами и собственно
китайской империей Сун, которые проходили с переменным успехом. В 1260 г. на
великоханском престоле закрепляется внук Чингисхана Хубилай (1205‑1294),
который в 1264 г. перенес столицу своего государства в Даду (Пекин), а в 1271
г. объявил по китайскому образцу все свои владения империей, получившей
наименование Юань. Последний оплот сопротивления китайцев был подавлен в 1279
г., и империя Сун окончательно пала. Монгольское владычество продолжалось в
Китае до 1368 г., когда в результате восстания «красных повязок» (1351‑1368)
династия Юань была низложена и в Китае воцарилась национальная династия Мин.
[389] С начала XII в. на северной окраине Китая
появляется новое, быстро усиливающееся государство чжурчжэней (одна из ветвей
тунгусских кочевых племен), сформировавшееся в районе среднего течения реки
Сунгари в Маньчжурии. В 1115 г. оно было провозглашено империей Цзинь. В начале
1127 г. чжурчжэни дошли до столицы китайской империи Сун и захватили ее, взяв в
плен императора. На юге Китая образовалась новая империя Южная Сун, которая с
1141 г. признала себя вассалом цзиньского властелина. Государство Цзинь
просуществовало до 1234 г., когда было разгромлено войсками Чингисхана.
[390] Созданное иранским племенем парфян государство
(Парфянское царство) существовало с 250 г. до н. э. по 228 г. н. э. и
управлялось царями из династии Аршакидов. Парфянское царство располагалось к
юго‑востоку от Каспийского моря, и в период расцвета (середина I в. до н. э.)
его территория простиралась от Двуречья до реки Инд. Парфяне являлись основными
соперниками Рима на Востоке. С 224 г. территория Парфянского царства вошла в
государство Сасанидов, а к 228 г. относится окончательное его крушение.
[391] С 1300 г. начинается наступление турок на
византийские владения, в результате которого они захватили большую часть Малой
Азии, образовав здесь ядро Османского государства. В 1326 г. был завоеван
византийский город Бруса, превращенный в столицу Османского княжества. В 1331
г. завоевана Никея, в 1337 г. – Никомидия, в 1352 г. турки переправляются через
Дарданеллы и через два года захватывают Галлиполи. В 1363 г. взят Адрианополь,
куда султан Мурад I перенес свою столицу. В 1389 г. в битве на Косовом поле
турки победили сербов и лишь в 1392 г. завоевали Македонию, а в 1393 г. –
Болгарию.
[392] 21 июля 1774 г. в деревне Кючук‑Кайнарджи на
реке Дунае был подписан мирный договор, завершивший русско‑турецкую войну 1768‑1774
гг. Османская империя признала: независимость Крымского ханства, право русским
торговым судам беспрепятственно плавать по Черному морю и проходить через
Черноморские проливы, присоединение к России Азова, Керчи и других территорий,
русский протекторат над Молдавией и Валахией.
[393] Шедевр (фр.).
[394] Имеются в виду знаменитые янычары (тур.
yeni çeri – букв, «новое войско»), турецкая регулярная пехота. Первый отряд
янычар был создан еще при сыне Османа I султане Орхане (1324‑1362) и насчитывал
всего тысячу человек. Специфика янычарского корпуса состояла в том, что его
формировали за счет лиц рабского статуса – военнопленных, купленных
невольников. Вырванные из своей культурно‑религиозной среды, лишенные
родственных связей, отданные в обучение представителям религиозной организации
(дервишскому ордену бекташей) и обязанные соблюдать устав бекташей (в том числе
обет безбрачия), янычары превратились в замкнутую военную корпорацию –
султанскую гвардию. В первой половине XV в. части, состоявшие на жалованье у
султана, дифференцировались: наряду с янычарской пехотой появились отряды
конной гвардии и корпус артиллеристов. Вместе с формированием янычарских
отрядов со времени султана Баязида I в широких масштабах стала развиваться
система так называемых капыкулу («государевых рабов») – использования
лиц рабского статуса не только в войсках, но и на государственной службе.
Поскольку прежние источники пополнения не обеспечивали потребностей
расширявшегося административного аппарата, начался систематический набор детей
и юношей из подчиненного христианского населения Балкан, прежде всего из славян
и албанцев, в порядке принудительной разверстки или своеобразного «живого
налога» – девширме. Рекруты подвергались насильственному отуречиванию и исламизации,
для чего их обычно направляли в турецкие, преимущественно сельские, семьи в
Малой Азии. Здесь они использовались на различных работах, главным образом в
сельском хозяйстве. После нескольких лет пребывания в Анатолии будущих
«государевых рабов» возвращали в янычарские казармы, где из них отбирали
кандидатов для службы при дворе, в янычарском корпусе или в различных
султанских мастерских. С XVII в. в состав янычар стали вливаться и свободные
мусульмане. Постепенно янычары стали основной силой переворотов, направленных
против каких‑либо нововведений. После попытки очередного мятежа султан Махмуд
II приказал 15 июня 1.826 г. перебить всех янычар.
[395] Марк Антоний (82‑30 гг. до н. э.) –
римский политический деятель и полководец. Являлся сторонником Цезаря и после
его смерти попытался стать его преемником. Вместе с Октавианом и Лепидом
заключил второй триумвират 27 ноября 43 г. до н. э. для совместной борьбы
против Брута и Кассия. В 42 г. до н. э. его войска одержали победу над убийцами
Цезаря при Филиппах. С этого времени Антоний становится единовластным правителем
богатых восточных областей и обогащается за счет жестокой эксплуатации
населения провинций. Несмотря на то, что с 40 г. до н. э. он был женат на
сестре Октавиана Октавии, Антоний в 36 г. до н. э. женился на египетской царице
Клеопатре VII. Антонию нужны были ее богатства и власть для осуществления своих
честолюбивых замыслов. В 36 г. до н. э. Антонием был предпринят безуспешный
поход против парфян, в 34 г. неудачей закончилась война с Арменией.
Окончательная ссора Антония с Октавианом привела к войне между ними за власть.
В результате этой войны флот Октавиана одержал победу над Антонием в битве при
Акции, и Антоний покончил с собой.
[396] Пестрая в этническом и религиозном отношении
империя Аббасидов сохраняла свое единство в основном благодаря военной силе. Не
имея опоры на какую‑то этническую или социальную группу, халифы вынуждены были
искать такую вооруженную силу, которая позволила бы им не быть зависимыми от
наемных хорасанских отрядов. Ею стала гвардия из профессиональных воинов‑рабов (гулямов).
Рабы в качестве личной охраны имелись уже при первых халифах, но только в конце
правления ал‑Мамуна они стали ядром халифского войска, когда наследник ал‑Мамуна,
ал‑Мутасим, закупил 3000 гулямов‑тюрок. Став халифом, он еще более увеличил
численность гулямской гвардии и основал новую столицу, Са‑ марру, чтобы жить в
полной безопасности под охраной верных рабов. Однако именно здесь, в окружении
нескольких десятков тысяч гулямов, халифы стали игрушкой в их руках. Командующие
гвардией начали по своему произволу сменять халифов и возводить на престол
угодных им претендентов.
[397] Саладин (Салах‑ад‑дин Йусуф ибн Айюб)
(1138‑1193) – египетский султан с 1171 г. Основатель династии Айюбидов,
правившей в Египте в 1171‑1250 гг. Объединив в одно целое остатки Фатимидско‑
го халифата и государства сирийских атабеков, Саладин противопоставил своим
врагам единый большой султанат, оказавшись самым могущественным правителем в
мусульманском мире. Возглавил борьбу мусульман против крестоносцев в 1187‑1192
гг.
[398] Мухаммед Али (1769‑1849) – паша Египта
с 1805 г., по происхождению албанец. Основатель династии, правившей в Египте до
Июльской революции 1952 г. (юридически до 18 июня 1953 г.). В 1811 г. приказал
перебить всех находившихся в стране мамлюков. Создал регулярную армию, вел
завоевательные войны, фактически отделил Египет от Турции. Реорганизовал
административный аппарат, предпринимал меры, направленные на развитие сельского
хозяйства, фабричной промышленности.
[399] Сулейман Великолепный (Сулейман I
Кануни) (1495 – 1566) – турецкий султан в 1520‑1566 гг. При нем Османская
империя достигла высшего политического могущества. Завоевал часть Венгерского
королевства, Закавказья, Месопотамию, Аравию, территории Триполи и Алжира.
[400] Кемаль Мустафа (Ататюрк – букв, «отец
турок») (1881‑ 1938) – руководитель национально‑освободительной революции в
Турции 1918‑1923 гг. Первый президент Турецкой Республики (1923‑1938). Выступал
за укрепление национальной независимости и суверенитета страны. Обязал турок
носить европейскую одежду, запретил многоженство, уравнял в правах мужчин и
женщин и ввел в стране письменность на основе латинского алфавита вместо
арабского.
[401] Мессенцы – жители Мессении, плодородной
области в юго‑западной части Пелопоннеса. Во второй половине VIII в. до н. э. в
результате Первой Мессенской войны спартанцам удалось захватить территорию
Мессении и поработить ее население (илоты). Жестокая эксплуатация мессенцев,
часть из которых переселилась за пределы родины, вызвала в середине VII в. до
н. э. восстание илотов против спартанцев, известное под названием Второй
Мессенской войны. Мессенцы под руководством Аристомена вступили в союз с
Аргосом и Аркадией и, несмотря на военное превосходство спартанцев, нанесли им
ряд поражений. Только после взятия мессенской крепости Хира восстание было
подавлено. Часть населения переселилась в Мессану (на Сицилии), оставшиеся же
мессенцы безуспешно пытались свергнуть спартанское иго (вспыхнувшее в 464 г. до
н. э. восстание илотов, которое принято называть Третьей Мессенской войной).
Только в 369 г. до н. э. благодаря помощи Фив Мессения стала независимой.
[402] Илоты – местные жители Лаконии и
Мессении, покоренные спартанцами. В качестве государственных рабов они были
прикреплены к определенным наделам земли и должны были отдавать спартиатам и
прочим лакедемонянам (периэкам) часть дохода в виде арендной платы. Не имея
никаких прав и подвергаясь крайне жестокому обращению, илоты неоднократно
поднимали восстания (так называемые Мессенские войны).
[403] Ликург – легендарный законодатель
Спарты. Якобы по велению дельфийского оракула или по образцу государственной
системы Крита между IX и первой половиной VII в. до н. э. создал политические
институты спартанского общества. В Спарте ему воздавались божественные почести.
[404] Воспитание (греч.) .
[405] В 480 г. до н. э. греки (300 спартанцев и 700
феспийцев) во главе со спартанским царем Леонидом в течение нескольких дней
мужественно защищали ущелье Фермопилы (в Центральной Греции) от персов, которые
в конечном счете окружили их и, сломив последнее сопротивление греков, продвинулись
до Афин.
[406] «Воруя, дети соблюдали величайшую
осторожность; один из них, как рассказывают, украв лисенка, спрятал его у себя
под плащом, и хотя зверек разорвал ему когтями и зубами живот, мальчик, чтобы
скрыть свой поступок, крепился до тех пор, пока не умер» (Плутарх.
Сравнительные жизнеописания. В 3 т. М., 1961‑1964. Т. I.C. 67).
[407] Хилон – один из семи мудрецов, эфор
(высшее должностное лицо, обладавшее широкими полномочиями в управлении,
надзоре и судопроизводстве) в Спарте в 560‑557 или 556‑553 гг. до н. э. (55‑56
олимпиада).
[408] Смысл существования (фр.) .
[409] Предположительно, гипотетично (лат.).
[410] Имеется в виду знаменитое произведение
английского гуманиста, государственного деятеля и писателя Томаса Мора (1478‑
1535) «Утопия» (1516), содержащее описание идеального строя фантастического
острова Утопия. Слово «утопия» (греч.: букв. «Нигдения», место, которого
нет), придуманное самим Мором, впоследствии стало нарицательным.
[411] Пелопоннесская война – серия войн за
господство в Греции между союзами полисов: Делосским (во главе с
демократическими Афинами) и Пелопоннесским (во главе с олигархической Спартой)
в 431‑404 гг. до н. э. Крупнейшая в истории Древней Греции война. Охватила
Грецию и греческие города Южной Италии и Сицилии. В 404 г. до н. э. Афины,
осажденные с суши и моря, капитулировали. По условиям мира Делосский союз
распускался, Афины передавали Спарте флот (кроме 12 сторожевых кораблей),
укрепления Афин и Пирея ликвидировались, признавалась гегемония Спарты в греческом
мире. В Афинах устанавливался олигархический режим «тридцати тиранов».
[412] Склонность (фр.).
[413] В стране Востока (лат.).
[414] В стране варваров (лат. ).
[415] Тойнби имеет в виду правление римских
императоров из династии Антонинов: Нервы (96‑98), Траяна (98‑117), Адриана (117‑
138), Антонина Пия (138‑161) и «философа на троне» Марка Аврелия (161‑180;
первоначально правил совместно с Луцием Вером).
[416] В крайнем случае (лат. ).
[417] Батлер Сэмюель (1835‑1902) – английский
писатель. Автор антибуржуазных сатир «Едгин, или За пределом» («Erewhon»,
анаграмма слова «нигде» – «nowhere», 1872) и «Возвращение в Едгин» (1901). В
дальнейшем издал ряд полемических научных работ с критикой дарвинизма. Выступал
также и как автор сатир, путевых заметок и литературных эссе, как переводчик
«Одиссеи» и «Илиады» Гомера (2 т., 1898‑1900) и «Трудов и дней» Гесиода (1924),
однако широкую известность имя Батлера получило уже после смерти писателя,
когда был опубликован его отчасти автобиографический роман «Путь всякой плоти»
(1903).
[418] Парафраз начальных слов британского национального
гимна «Правь, Британия, морями» («Rule, Britannia, the waves»), написанного Дж.
Томсоном (1700‑1748) и положенного на музыку Томасом. Впервые гимн прозвучал в
пьесе Томсона и Д. Малле «Альфред Великий» (1740).
[419] Хадрамаут – район на юге Аравийского
полуострова, в юго‑ восточной части Йемена, вытянувшийся вдоль побережья
Индийского океана.
[420] Жизненный порыв (фр.).
[421] Центральное понятие идеалистической теории
эволюции французского философа Анри Бергсона (1859‑1941), изложенной в работах
«Творческая эволюция» и «Два источника морали и религии». Согласно Бергсону,
жизнь, зародившись первоначально в одном центре, развертывается в виде порыва
через серию взрывов, качественных скачков по многим расходящимся, параллельно
развивающимся направлениям. Жизнь растительная, инстинктивная и разумная – три
различных направления эволюции. Каждый вид, определенная форма эволюционного
процесса по достижении наивысшей стадии развития останавливается и вращается по
кругу, в то время как эволюция идет по другим линиям. Вершина эволюции –
«открытое общество», объединяющее «избранных личностей» на основе христианских
этических ценностей.,
[422] То есть связанный с проблемой
перенаселенности. От имени английского экономиста Томаса Роберта Мальтуса (1766‑1834),
основоположника концепции мальтузианства, согласно которой безработица и
бедственное положение трудящихся при капитализме – результат «абсолютного
избытка людей», действия «естественного закона народонаселения».
[423] Уитмен Уолт (1819‑1892) – американский
поэт. В сборнике стихов «Листья травы» (1855) идеи об очищающей человека близости
к природе приняли космический характер; любой человек и любая вещь восприняты
на фоне бесконечной во времени и пространстве Вселенной. Чувство родства со
всеми людьми и всеми явлениями мира выражено посредством преображения
лирического героя в других людей и неодушевленные предметы. Уитмен – певец
«мировой демократии», людей труда, всемирного братства народов, позитивных наук
и свободной любви.
[424] Моррис Уильям (1834‑1896) – английский
художник, писатель, теоретик искусства. С 1860‑х гг. выступал с критикой
буржуазной действительности, видя в искусстве средство ее преобразования.
Литературное творчество Морриса отмечено романтической стилизацией (поэма
«Земной рай», 1868‑1870). С 1880‑х гг. участник английского рабочего движения.
Социалистические взгляды выразил в социально‑утопическом романе «Вести
ниоткуда, или Эпоха счастья» (1891).
[425] Молох – до середины XX в. считалось,
что Молох – это почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество,
которому приносились человеческие жертвоприношения, особенно дети. Однако на
основании неопунических надписей конца I тысячелетия до н. э. – первых веков н.
э. немецким семитологом О. Эйсфельд‑ том было выдвинуто предположение, что
Молох – обозначение самого ритуала жертвенного сжигания людей или животных,
позже принятое за имя божества. В переносном смысле – символ жестокой силы,
требующей множества человеческих жертв.
[426] Пейхо (современное название – Байхэ, т.
е. «Белая река») – река на востоке Китая. Сливаясь с реками Юндинхэ и Вэйхэ,
образует реку Хайхэ.
[427] Человек‑художник (лат.).
[428] Прокопий Кесарийский (ок. 500 – после
565) – юрист и ритор из сенатской аристократии, секретарь восточно‑римского
полководца Велизария, высший сановник и историк эпохи Юстиниана I.
Помимо панегирика строительной деятельности Юстиниана («О
постройках»), Прокопий написал истории войн Юстиниана против персов, вандалов и
остготов («Войны»). После смерти Юстиниана в посмертно опубликованной
«неизданной» «Тайной истории» критиковал политику Юстиниана и Феодоры с позиций
старой сенатской знати. В его работах нашло отражение развитие военной теоретической
мысли того времени.
[429] Юстиниан I (482‑565) – император
Восточной Римской империи в 527‑565 гг. Стремился к экономической и
политической стабилизации восточно‑римского государства, к восстановлению
Римской империи в ее прежних границах. Его полководцы Велизарий и Нарсес
временно отвоевали захваченные варварами области Западной Римской империи: в
533‑534 гг. – Северную Африку у вандалов, в 535‑554 гг. – Италию у остготов, в
554 г. – часть Юго‑Восточной Испании у вестготов. Однако на восточных границах
империи периодически возобновлялись войны с персами. Попытка реставрации
Римской империи, предпринятая Юстинианом, истощила экономические ресурсы
государства, и держава Юстиниана при его наследниках распалась.
[430] Фаланга – тесно сомкнутое линейное
воинское построение, состоящее из нескольких шеренг тяжелой пехоты в Древней
Греции. Спартанская фаланга состояла из 8 шеренг, причем расстояние между
шеренгами на марше составляло 2 м, во время атаки – 1 м и при отражении
нападения – 0,5 м, а фронтальная протяженность при 8‑тысячной численности
войска достигала 1 км. Афинская фаланга напоминала по своему построению
спартанскую. Ударная сила фаланги заключалась в фронтальном ударе, наносимом на
короткой дистанции; фаланга была уязвима на флангах и в тылу; кроме того, она
была не в состоянии сражаться на пересеченной местности. Македонская фаланга
состояла из 16‑18 тыс. воинов и была построена в 8, 10, 12 или 24 шеренги.
Численность фаланги в государствах диадохов доходила до 16 584 воинов.
[431] Пелтаст – воин, принадлежащий к
введенному в начале IV в. до н. э. в Афинах Ификратом роду войск, который он
перенял у фракийцев. Пелтасты были легковооруженными пехотинцами, носили
кожаный щит (греч. πέλτη), длинные мечи, метательные копья и длинные
дротики.
[432] В 338 г. до н. э. при городе Херонея на северо‑западе
Беотии Филипп II Македонский одержал решающую победу над войсками афинян и
фиванцев. Эта победа означала упадок государственной самостоятельности Северной
и Центральной Греции, заложила основу гегемонии Македонии в союзе греческих
государств, закрепленную Коринфским всегреческим конгрессом в 337 г. до н. э.,
а также основу ее руководящей роли в войне против персов.
[433] В результате Третьей Македонской войны (171‑168
гг. до н. э.) римлянам удалось покорить Македонию и ликвидировать ее гегемонию
в Греции. Македония была разделена на четыре самостоятельных округа, а в 148 г.
до н. э. создана римская провинция Македония.
[434] В результате военной реформы, проведенной
консулом Гаем Марием, не только повысилась боеспособность римской армии, но и
завершился переход от ополчения к профессиональному войску: вводилось
жалованье, единообразное вооружение, в армию брались и неимущие. Марий ввел
новую структуру легиона, состоявшего из 30 манипул, делившихся на две центурии
по 100 человек и сведенных Ь 10 когорт. Боевой порядок легиона состоял
из 3 линий по 10 манипул в каждой. Вследствие этой реформы во время гражданских
войн в эпоху поздней Республики армия стала орудием в борьбе за власть между
богатыми и влиятельными политическими деятелями. При Цезаре численность легиона
составляла 3 тыс. пехотинцев, 2‑3 тыс. всадников и 4‑5 тыс. всадников,
набранных из представителей галльских племен. Новая реорганизация легиона была
проведена при Августе (а не при Цезаре, как пишет Тойнби), и его численность
возросла до 6,1 тыс. пехотинцев и 726 всадников. В состав легиона входили также
легкие и вспомогательные войска. К концу правления Августа римская армия
насчитывала около 25 легионов и окончательно стала регулярной.
[435] Катафракты (греч. «закованные в
панцирь») – особый вид конницы у древних народов, впервые появившийся у персов,
заимствованный затем македонскими и сирийскими войсками и нашедший
распространение при Адриане и особенно при Септимии Севере и в римской армии.
Тело всадников‑катафрактов защищал чешуйчатый панцирь, голову – шлем с
забралом. Лошади также были защищены железным или медным чешуйчатым панцирем.
Основное вооружение катафрактов – копье. При императоре Констанции II (правил с
337 по 361 год) катафракты подверглись реорганизации.
[436] У города Карры (на северо‑западе Месопотамии
возле излучины Евфрата) в 53 г. до н. э. (а не в 55‑м!) парфяне разгромили
войско римского полководца Марка Лициния Красса, который сам был убит в этом
сражении.
[437] Солон (между 640 и 635 – ок. 559 г. до
н. э.) – афинский архонт с 594 г. до н. э. Провел реформы, способствовавшие
ускорению ликвидации пережитков родового строя (отмена поземельной
задолженности, запрещение долгового рабства, введение земельного максимума и
др.). Здесь имеется в виду закон, по которому запрещался вывоз из Аттики хлеба
и поощрялся экспорт оливкового масла.
[438] Неандертальский человек (лат.).
[439] Человек верхнего палеолита (лат).
[440] Человек нижнего палеолита (лат).
[441] Человек механический (лат).
[442] Этерификация (от греч. αίθήρ –
«эфир» и лат. facere – «делать») – получение сложных эфиров из кислот и
спиртов. А. Тойнби употребляет этот термин в переносном смысле – для
обозначения общецивилизационного процесса развеществления: замена мускульной
энергии энергией пара в технике, замена пиктографического знака алфавитным,
тенденция к самоупрощению в языке и т. д.
[443] Икены – древнее кельтское племя,
обитавшее в Восточной Англии. Их царица Боудикка возглавила большое восстание
против римского господства в 61 г. н. э. После первоначальных успехов и взятия
Камулодунума (Колчестер), Лондиниума (Лондон) и Веруламиума (Сент‑Элбанс)
восставшие потерпели сокрушительное поражение от войск под командованием
британского наместника Светония Паулина, а Боудикка покончила жизнь
самоубийством.
[444] Демолен (Demolins) Эдмон (1852‑1907) –
французский социолог и педагог, представитель так называемого нового
воспитания. «Новое воспитание» подразумевало создание «новых школ», отвечавших
задачам воспитания инициативных предпринимателей, – платных загородных
интернатов, где умственное образование детей сочеталось с занятиями
искусствами, гимнастикой, сельским хозяйством и ручным трудом. В 1899 г.
Демолен открыл школу Рош – один из центров этого педагогического направления.
[445] Сведение к абсурду (лат.).
[446] Тероморфы (греч. θηρίον – «зверь» и μορφή
– «форма», «образ») – зверообразные – обширная группа наземных позвоночных,
существовавших с каменноугольного по юрский период и давшего начало
млекопитающим.
[447] Браунинг Роберт (1812‑1889) –
английский поэт и драматург. Ввел в английскую лирику жанр монолога‑исповеди.
Поэтический язык его отличается затрудненностью. Наиболее знаменитой и самой
претенциозной вещью Браунинга является его 4‑томный роман, состоящий из 12 тыс.
стихов, – «Кольцо и книга» (1868– 1869). В числе других его работ поэма
«Паулина» (1833), драматические сцены «Парацельс» (1835) и «Сорделло» (1840),
трагедия «Страффорд» (1837), цикл поэм и стихотворных драм «Колокола и гранаты»
(1841‑1846), поэмы «Рождество и Пасха» (1850), сборники «Мужчины и женщины»
(1855), «Действующие лица» (1864), «Драматические идиллии» (1879‑1880) и
«Асоландо» (1889).
[448] Возможно, если бы г‑н Тойнби писал эти строки
несколько лет спустя, он бы сделал здесь исключение для вызова со стороны
Японии (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[449] Имеется в виду Мохандас Карамчанд Ганди (1869‑1948),
один из лидеров индийского национально‑освободительного движения, его идеолог.
В 1893‑1914 гг. жил в Южной Африке. В 1915 г. вернулся в Индию и вскоре
возглавил партию Индийский национальный конгресс. Учение Ганди (гандизм) стало
программой национально‑освободительной борьбы (основные принципы: достижение
независимости мирными, ненасильственными средствами, путем вовлечения в борьбу
широких народных масс, и т. д.). Наиболее авторитетный национальный лидер,
Ганди непосредственно руководил борьбой за независимость. После завоевания
Индией независимости (1947) и раздела ее на два государства (Индийский союз и
Пакистан) Ганди выступил против начавшихся индо‑мусульманских погромов и был
убит членом индуистской шовинистической организации.
[450] Г‑н Черчилль обратил внимание на этот факт в
своем официальном заявлении об Индии в палате общин 10 сентября 1942 г. Его
замечания вызвали резкую атаку в индийской националистической прессе (Прим.
Д. Ч. Сомервелла).
[451] Сэр Альфред Эвинг, как сообщает «Таймс» от 1
сентября 1932 г. (Прим. А. Дж. Тойнби).
[452] В подлиннике «grinders of the faces of the
poor» – от английского фразеологизма «to grind the faces of the poor»,
восходящего к выражению из библейской книги пророка Исайи (Ис. 3, 15):
«Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных?» (в церковно‑славянском
переводе: «Почто вы обидите люди Моя и лица убогих осрамляете»).
[453] Гомеомерии (греч. όμοιομέρεια от ομοιος
– «подобный» и μέρος – «часть») – термин древнегреческой философии.
«Гомеомериями», или «подобочастными», в позднейшей доксографической литературе
о древнегреческом философе и ученом Анаксагоре (ок. 500‑428 гг. до н.
э.) обозначали, в частности, мельчайшие частицы («семена» у Анаксагора)
всевозможных веществ, смеси которых образуют все вещи.
[454] Читатель заметит, как близка философия истории
Бергсона к философии истории Карлейля (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[455] Персефона – богиня мертвых, подземного
царства и плодородия, дочь Зевса и Деметры. Аид похитил Персефону по желанию
Зевса и увел ее, сделав своей супругой, в подземное царство. Тронутый печалью и
отчаянием Деметры, Зевс разрешил, чтобы Персефона на половину или на две трети
года возвращалась на землю. Персефона в качестве «Коры» (греч.
«девушка») почиталась как богиня плодородия вместе со своей матерью Деметрой,
на что указывали процессии юных девушек в Элевсинских мистериях. Возвращение ее
на землю из подземного мира символизировала вновь пробуждающаяся природа.
[456] Здесь перечисляются божества плодородия и
растительности из древнегреческой, финикийско‑сирийской и древнеегипетской
мифологии. Общим для них является мотив смерти и последующего воскресения,
символизирующий смерть и возрождение природы.
[457] Помощник Божий (лат.).
[458] Выражение восходит к Первому посланию апостола
Павла к Коринфянам: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие
строение» (I Кор. 3, 9).
[459] Эдип, сын фиванского царя Лая и Иокасты, по
предсказанию Дельфийского оракула, должен был стать убийцей своего отца и
супругом матери, поэтому он по приказу отца ребенком был брошен на съедение
зверям, с проколотыми ногами. Найденный пастухами, Эдип был передан бездетному
коринфскому царю Полибу, который воспитал его как собственного сына. В Фокиде
Эдип встретил на перекрестке дорог своего отца Лая и убил его, не зная, кого
убил. Он освободил Фивы от Сфинкса, решив его загадку, стал там царем и, ничего
не подозревая, женился на собственной матери. Узнав истину, он ослепил себя.
Аналогичное предсказание Дельфийского оракула о смерти от
руки собственного внука было дано аргосскому царю Акрисию. Ак‑рисий заключил
свою дочь Данаю в подземную темницу, однако Зевс проник к Данае в виде золотого
дождя, и она родила Персея. Посаженная вместе с сыном в заколоченный ящик,
Даная по приказу Акрисия была брошена в открытое море, но спасена Диктисом на
острове Сериф. Совершив ряд подвигов, возмужавший Персей в Лариссе во время игр
случайно убил диском своего деда Акрисия и стал владыкой Аргоса, однако, узнав
правду, не пожелал править в Аргосе и перебрался в Тиринф, оставив в обмен
своему тиринфскому родичу наследие деда.
[460] Согласно римскому преданию, основатели Рима –
близнецы Ромул и Рем были сыновьями весталки Реи Сильвии и бога войны Марса.
Брошенных по приказу узурпатора царя Амулия в Тибр младенцев вынесло на берег.
Там их охраняли и кормили дятел и волчица, потом дети были найдены пастухом
Фаустулом, который вместе со своей женой Аккой Ларентией воспитал их. Став
взрослыми и узнав о своем происхождении, близнецы собрали отряд беглецов и
разбойников, убили Амулия, вернули власть в Альба‑Лонге деду Нумитору, а сами
решили основать новый город.
[461] Ясон, сын царя Иолка Эсона, свергнутого своим
братом Пелием, был отдан отцом, опасавшимся козней узурпатора, на воспитание
кентавру Хирону. Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, после того как мать в
сговоре со своим любовником Эгисфом убила Агамемнона, был спасен своей сестрой
Электрой из рокового дома. Отцу Зевса Кроносу было предсказано, что он будет
свергнут одним из своих потомков, поэтому он проглатывал всех своих
новорожденных детей. Однако Зевс был скрыт своей матерью Реей на острове Крит и
вскормлен козой Амалфеей. Возмужав, он лишил отца власти и заставил его вернуть
на свет ранее проглоченных детей. Египетский бог Гор, сын убитого Сетом Осириса
и Исиды, был рожден и воспитан матерью в болотах дельты Нила. Достигнув
совершеннолетия, он возвращается и мстит убийце своего отца. Моисей был спрятан
матерью в корзине в тростнике, когда по приказу фараона всех новорожденных
еврейских младенцев стали топить в Ниле. Его обнаружила дочь фараона и
воспитала как своего сына. Царь Мидии Астиаг обрекает своего новорожденного
внука Кира, сына подвластного ему персидского царя Камбиса, на смерть, боясь,
чтобы тот не отнял у него власть. Однако приказание Астиага не было выполнено,
и оставшийся в живых Кир становится впоследствии царем Персии и свергает деда.
[462] Никейский Символ веры.
[463] Али ибн Абу Талиб (ок. 600‑661) –
двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, четвертый мусульманский халиф (правил
с 656 г.) Арабского халифата, фактический основатель шиитского направления в
исламе (шииты признают Али единственным праведным халифом наряду с самим
пророком). Убит хариджитами (приверженцами одной из радикальных мусульманских
сект). Его недолгое, но полное бурных событий правление послужило источником
множества легенд. Объявлен шиитами первым имамом.
[464] Махди (араб.) – мусульманский мессия,
спаситель.
[465] Зелоты (греч. ζηλωταί – «ревнители») –
социально‑политическое и религиозное течение в Иудее, возникшее во второй
половине I в. до н. э. Зелоты занимали радикальную позицию в политических и
религиозных вопросах. Выступая против римского владычества и опиравшихся на
него еврейских слоев, зелоты ожидали пришествия воинствующего мессии, который
бы создал мировое государство и установил вечный мир. Многие зелоты
объединялись в вооруженные отряды, чтобы способствовать воцарению мессианского
века.
[466] Основанный св. Бенедиктом Нурсийским в 529 г.
в Монтекассино, бенедиктинский орден стал самым богатым и влиятельным
монашеским орденом средневековья. Согласно уставу («Правилу»), бенедиктинцам
вменялся в обязанность труд, как физический (земледелие), так и – в первую
очередь – умственный: воспитание юношества (послушников), перевод, толкование и
изготовление книг, собирание библиотек. Внутри ордена существовало несколько
мощных ветвей (клюнийцы, цистерцианцы и др.). В XII–XIV вв. в Европе
насчитывалось более 15 тыс. бенедиктинских монастырей. Именно благодаря ученым‑бенедиктинцам
до наших дней сохранились шедевры древнегреческой, древнеримской и
средневековой литературы.
[467] Система алиментаций (позднелат. alimentatio,
от лат. alimentum – «пища», «содержание») – в Древнем Риме в конце I –
середине III в. система государственной помощи детям малоимущих родителей и
сиротам. Складывалась из процентов, получаемых от мелких и средних
землевладельцев за выдачу им ссуд государством.
[468] Префект города (лат.).
[469] Римская земля (лат.) .
[470] Хиджра (араб, «переселение») –
переселение Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину в сентябре 622 г.
При халифе Омаре I (634‑644) год хиджры объявлен началом мусульманского
летоисчисления. Исходным для него принято 1‑е число 1‑го месяца (мухаррама) 622
г. – 16 июля 622 г.
[471] Так называемый Совет десяти. Эту должность
Макиавелли занимал с 1498 по 1512 г., выполняя важные дипломатические поручения.
[472] В 510 г. до н. э. афиняне с помощью спартанцев
изгнали тирана Гиппия, в результате чего развернулась ожесточенная борьба между
сторонниками аристократии и демократии. Царь Спарты Клеомен I вмешался в 508 г.
до н. э. в эту борьбу на стороне аристократов, однако его вмешательство во
внутренние дела Афин закончилось неудачей, и оставленный им гарнизон был изгнан
афинскими демократами.
[473] Имеется в виду так называемая Хремонидова
война (267‑ 261 гг. до н. э.), названная так по имени инициатора войны
афинянина Хремонида. В ходе этой войны Афины в союзе со Спартой и Египтом
попытались сбросить македонское иго, однако потерпели неудачу, и после этой
войны Македония окончательно установила свою гегемонию над Грецией.
[474] Людовик XI (1423‑1483) – французский
король с 1461 г. Проводил централизаторскую политику, подавлял феодальные
мятежи. Присоединил к королевскому домену Анжу, Пикардию и другие территории.
Покровительствовал ремеслам, торговле.
[475] Фердинанд II Арагонский (1452‑1516) –
король Арагона с 1479 г., Сицилии (Фердинанд II) с 1468 г., Кастилии (Фердинанд
V) в 1479‑1504 гг. (совместно со своей женой королевой Изабеллой),
Неаполитанского королевства (Фердинанд III) с 1504 г. Фактически первый король
объединенной Испании. Добивался превращения Испании в абсолютную монархию.
Ревностно защищал католицизм.
[476] Тюдоры – королевская династия,
правившая в Англии в 1485‑1603 гг. К дому Тюдоров принадлежали: Генрих VII,
Генрих VIII, Эдуард VI, Мария I, Елизавета I. При первых Тюдорах были заложены
основы английского абсолютизма.
[477] В начале IX в. все земли нынешней Швейцарии
были завоеваны германскими племенами франков и вошли в состав империи Карла
Великого, а в середине того же века поделены между тремя государствами –
Восточнофранкским и Западнофранкским королевствами и королевством Лотаря. В XI
в. территория современной Швейцарии вошла в состав Священной Римской империи. В
1291 г. три германоязычных горных кантона – Ури, Швиц и Унтервальден,
объединившись, дали начало швейцарскому государству. В ходе борьбы за
независимость от австрийских Габсбургов происходил территориальный рост
Швейцарского Союза. В конце XVIII в. в конфедерацию входило уже 13 кантонов.
После Венского конгресса 1815г. границы Швейцарии приобрели в основном свой
современный вид.
[478] Соединенные провинции – буржуазная
республика семи нидерландских провинций (Голландия, Зеландия, Утрехт, Гелдерн,
Оверэйсел, Фрисландия, Гронинген), образовавшаяся в результате Нидерландской
буржуазной революции XVI в. Иногда называлась Голландской республикой,
Голландией. Существовала до 1795 г.
[479] Столетняя война (1337‑1453) между
Англией и Францией за Гиень (с XII в. английское владение), Нормандию, Анжу
(утраченные англичанами в XIII в.), Фландрию. Поводом к войне стали претензии
английского короля Эдуарда III (внука французского короля Филиппа IV) на
французский престол. Англия выиграла битвы при Слейсе (1340), Креси (1346),
Пуатье (1356). Договор в Бретиньи 1360 г. закрепил за Англией значительную
часть французских владений. В 70‑х гг. XIV в. англичане почти полностью были
изгнаны из Франции. Однако после победы при Азенкуре (1415) англичане в союзе с
бургундцами захватили север Франции. Народное сопротивление английским
захватчикам возглавила Жанна д'Арк. В 1429 г. французские войска во главе с
Жанной д'Арк сняли осаду Орлеана. Столетняя война завершилась капитуляцией
англичан в Бордо (1453). Англия удержала на территории Франции лишь Кале (до
1558 г.).
[480] Здесь имеется в виду начавшаяся со второй
половины XVI в. борьба Англии за морские пути, рынки и колонии с наиболее
могущественной колониальной державой того времени – Испанией. В 60‑х гг. и до
середины 80‑х гг. XVI в. борьба Англии с Испанией выражалась главным образом в
контрабандной торговле англичан с испанскими колониями и пиратских нападениях
(при покровительстве английского правительства) на испанские суда, перевозившие
американское золото и серебро (грабительские экспедиции Дж. Гаукинса, Ф.
Дрейка, У. Рэлея и др.). В XVI в. борьба Англии с Испанией тесно переплеталась
с борьбой внутри самой Англии (испанцы поддерживали феодально‑католические силы
против английского абсолютистского правительства королевы Елизаветы I), а также
с событиями Нидерландской революции (англичане поддерживали восставшие против
испанского господства Нидерланды). В 80‑е гг. испанское правительство Филиппа
II начало подготовку к прямому вторжению в Англию, приступив к строительству
огромного военного флота – «Непобедимой армады». После казни в Англии Марии
Стюарт (1587) «Армада» была готова вторгнуться в Англию. Филипп II выступил с
прямыми притязаниями на английский престол. Внезапное нападение английской
эскадры под командованием Дрейка на Кадис (1587) и другие испанские порты, в
которых изготовлялись корабли «Армады», заставило отложить ее выход на год. В
мае 1588 г. «Армада» в составе 130 боевых кораблей, имевших до 2500 орудий и 19
тыс. солдат десанта, вышла из Лиссабона и 19 июля подошла к берегам Англии у
мыса Лизард. В конце июля английские суда, меньшие по размеру, но более
быстроходные и с более мощной артиллерией, атаковали громоздкие испанские
корабли в Ламанше, нанеся им большие потери артиллерийским огнем. Большая часть
уцелевших испанских судов, направившихся после этого в обход Британских
островов с севера, погибла во время шторма у Оркнейских островов. Морское
могущество Испании было серьезно подорвано (из кораблей «Армады» вернулась лишь
половина). С этого времени все более крепнувшая Англия начала с Испанией
открытую морскую войну, носившую грабительско‑пиратский характер. Англичане
перенесли действия своих эскадр к испанским берегам, продолжая одновременно
нападения на колонии и морские сообщения Испании. Пришедшие в 1603 г. в Англии
к власти Стюарты взяли курс на сближение с Испанией. 18 августа 1604 г. с
Испанией был заключен мир.
[481] Валуа (Valois) – династия французских
королей в 1328‑ 1589 гг., берущая начало от Карла Валуа, брата короля Филиппа
IV Красивого. Главные представители дома Валуа: Карл V Мудрый, Людовик XI,
Людовик XII, Франциск I, Генрих II, Карл IX, Генрих III.
[482] Гогенцоллерны (Hohenzollern) – династия
бранденбургских курфюрстов в 1415‑1701 гг., прусских королей в 1701‑1918 гг.,
германских императоров в 1871‑1918 гг. Основные представители: Фридрих
Вильгельм I, Фридрих II Великий, Вильгельм I, Вильгельм II.
[483] Этот вместо того, один вместо другого (лат.).
(Путаница, заключающаяся в том, что одно лицо (вещь или понятие) принимают за
другое.)
[484] Вильгельм I Завоеватель (ок. 1027‑1087)
– герцог Нормандии (1035‑1087) и король Англии (1066‑1087). Претендовал на
английскую корону, обещанную ему королем Эдуардом Исповедником, после смерти
которого оспаривал права у Гарольда II. Высадившись в 1066 г. в Англии, разбил
англо‑саксонские войска Гарольда. Нормандское завоевание Англии привело к
появлению многих нормандских обычаев, в особенности феодальной системы.
Установил прямую вассальную зависимость всех феодалов от короля. В 1085 г.
приказал составить Книгу Страшного суда.
Генрих I (1068‑1135) – король Англии (1100‑1135) и
герцог Нормандии (1106‑1135), младший и любимый сын Вильгельма I Завоевателя,
коронованный в отсутствие своего старшего брата Роберта II, герцога Нормандии.
В 1106 г. завоевал Нормандию.
Генрих II (1133‑1189) – первый король Англии из
династии Плантагенетов (1154‑1189). Расширил свои англо‑французские владения и
провел законодательную и финансовую реформу. Его попытки подчинить себе Церковь
встретили сопротивление со стороны епископа Беккета.
Эдуард I (1239‑1307) – король Англии с 1272 г. из
династии Плантагенетов, сын Генриха III. При нем окончательно сложилась
практика созыва парламента. В 1284 г. присоединен Уэльс. Войны против Шотландии
закончились неудачей.
Эдуард III (1312‑1377) – король Англии с 1327 г. из
династии Плантагенетов. Его претензии на французский престол послужили поводом
к началу Столетней войны 1337‑1453 гг. с Францией. Издал первые Статуты о
рабочих. Ограничил влияние папства в Англии.
[485] Эпоха правления в Англии королевы Елизаветы I
Тюдор (с 1558 по 1603 г.).
[486] Мальборо Джон Черчилл (1650‑1722) –
герцог (с 1702 г.), английский полководец и государственный деятель.
Принадлежал к партии вигов. Во время войны за испанское наследство до 1711 г.
командовал английской армией, одержал ряд побед (в том числе при Мальплаке).
[487] Выражение обычно приписывается английскому
министру колоний Д. Чемберлену (1836‑1914). Приобрело широкую популярность
после употребления в речи премьер‑министра Англии на банкете в 1896 г. Обычно с
понятием «блестящей изоляции» связывают английскую дипломатическую доктрину,
заключавшуюся в отказе Англии от заблаговременных и длительных союзов с другими
государствами и в сохранении полной свободы действий в политике. Имела своей
целью во второй половине XIX в. установить и укрепить влияние Англии в Европе.
[488] Анна Комнина (1083 – ок. 1148) –
византийская писательница, дочь императора Алексея 1 Комнина. В 1118 г.
возглавила заговор с целью низложить своего брата Иоанна II и возвести на
престол своего мужа Никифора Вриенния. После провала заговора удалилась в
монастырь, где в 1148 г. закончила «Алексиаду» (книгу, прославляющую ее отца) –
важнейший источник по истории Византии в 1069‑1118 гг. и Первого крестового
похода.
[489] Империя Великих Моголов (Могольская
империя) – крупнейшая феодальная держава в Индии (1526‑1858). Образовалась
после распада Делийского султаната в XVI в. Управлялась династией Великих
Моголов, основанной потомком Тимура (Тамерлана) Бабуром (1483‑1530). Столицы –
города Агра и Дели. В XVII в. империя Великих Моголов включала в себя большую
часть Индии. В XVIII в. распалась на ряд государств, которые в XVIII‑XIX вв.
были захвачены англичанами. После захвата в 1803 г. Дели англичане выплачивали
Великим Моголам пенсию, а в 1858 г. упразднили династию Великих Моголов
официально, и Индия перешла в прямое управление английской короны.
[490] Токугава – династия сегунов (военно‑феодальных
правителей) в Японии в 1603‑1867 гг., при которых императорская династия была
лишена реальной власти. Власть Токугава была уничтожена в результате
незавершенной буржуазной революции 1867‑1868 гг. (Мэйдзи исин).
[491] Панисламизм – религиозно‑политическая
идеология, в основе которой лежат представления о единстве мусульман всего мира
и необходимости их сплочения в едином мусульманском государстве. Оформился в
конце XIX в. В панисламизме отразились попытки соединить освободительное
движение против европейского и американского империализма с укреплением позиций
ханов, помещиков, мулл.
[492] Лукреций (Тит Лукреций Кар) (ок. 96‑55
гг. до н. э.) – римский поэт и философ‑материалист, наиболее выдающийся
представитель теории атомистики в Древнем Риме. В написанной в традиции
дидактического эпоса поэме «О природе вещей» («De rerum natura») он излагает
основные положения философской системы Эпикура.
[493] Святой Киприан (ок. 200‑258) –
архиепископ Карфагенский. Автор богословских трактатов и писем, одно из которых
(«К Димитриану» – опровержение язычника Димитриана, утверждавшего, что
христиане повинны в войне, море, голоде и засухе) и цитирует здесь Тойнби. Св.
Киприан погиб мученической смертью во время гонений при императоре Валериане.
[494] Джинc Джеймс Хопвуд (1877‑1946) –
английский физик и астрофизик. Основные труды посвящены кинетической теории
газов, теории теплового излучения, фигурам равновесия вращающихся жидких тел,
строению и эволюции звезд, звездных систем и туманностей. Вывел в 1905‑1909 гг.
(независимо от Рэлея) закон излучения Рэлея–Джинса. Автор космогонической
гипотезы («гипотеза Джинса»).
[495] После этого, значит, по причине этого (лат.).
Неправильное заключение, логическая ошибка.
[496] Рисорджименто (итал. «Risorgimento»,
букв. – «возрождение») – национально‑освободительное движение итальянского
народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, а
также период, когда это движение происходило – конец XVIII в. – 1861 г.
Окончательно завершилось в 1870 г. присоединением к Итальянскому королевству
Рима.
[497] «Чем больше перемен, тем больше все остается
по‑старому»
[498] Смысл (фр.).
[499] Альбертиевы басы – изложение партии
левой руки в фортепианной пьесе в виде ритмически равномерно фигурированных
(разложенных) аккордов. Название связано с именем итальянского композитора Д.
Альберти (1717 – ок. 1740), которому приписывают изобретение указанного приема.
[500] Иксион – мифический царь лапифов. Зевс
наделил его бессмертием и допустил к трапезам богов. Когда Иксион попытался
соблазнить Геру, Зевс создал облачный призрак Геры – Нефелу. От Нефелы и
Иксиона родился Кентавр и произошли другие кентавры. В наказание за нечестие
Иксион в Тартаре привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.
[501] Сизиф – согласно греческому мифу, царь
или основатель Коринфа. Соревнуясь в искусстве воровства с великим обманщиком
Автоликом, Сизиф победил его. Автолик похитил стада Сизифа, но Сизиф без труда
обнаружил их, так как предварительно выжег на копытах животных свой знак.
Сизифу удалось заковать в цепи бога смерти Танатоса. Хитростью он добился того,
что его отпустили из подземного царства на землю. За свои великие мошенничества
Сизиф был наказан в преисподней: он должен был постоянно вкатывать на гору
тяжелый камень, который, достигнув вершины, срывался вниз. Отсюда происходит
выражение «сизифов труд».
[502] Жестокая необходимость (лат.).
[503] См. т. I, с. 309‑321.
[504] В V‑VII вв. Византия и Иран оставались
непримиримыми конкурентами в борьбе за гегемонию в Передней Азии. Иранский шах
Хосров II воспользовался убийством византийского императора Маврикия Фокой в
602 г. как предлогом для начала новой большой войны с Империей. Эта война
продолжалась вплоть до убийства Хосрова в результате придворного заговора в 628
г. Первоначально персы одержали ряд побед, захватили Сирию, Финикию, Палестину,
центральную часть Малой Азии, дважды подходили к Константинополю и даже
овладели Египтом. Однако силы шаханшаха были истощены и закрепить эти успехи он
не смог. Император Византии Ираклий заключил союз с северо‑кавказскими
племенами, нанес ряд поражений персам, разорил вместе с хазарами Закавказье и
угрожал центру Ирана, ее столице Ктесифону. Преемник Хосрова II, его старший
сын Кобад Шируйе, участвовавший в заговоре против отца, вынужден был просить
мира. Обе державы в результате продолжавшейся более четверти века войны были
доведены до крайнего истощения и не могли противостоять молодому арабскому
государству, главным объектом завоеваний со стороны которого они стали.
[505] Последний, смертельный удар (фр.).
[506] Предшествующее обсуждение данного предмета в
ином аспекте см. т. I, с. 159‑160.
[507] Имеется в виду озеро Копаида (греч. – Kωπαΐς)
в Беотии, осушенное в 1883 г., с подземными стоками. При их засорении озеро
разливалось. Еще в античности жители всячески стремились осушить его. В Копаиду
впадала беотийская река Кефис. В окрестностях Копаиды люди стали селиться еще в
микенскую эпоху (город Орхомен).
[508] Орхомен – столица исчезнувшего к
классическому времени народа минийцев, к северо‑востоку от бывшего Копаидского
озера, где уже в эпоху неолита имелись поселения. Об этом свидетельствует
богатый археологический материал (так называемая минийская керамика). В более
позднее время Орхомен также был крупным центром, что доказывает микенский
дворец, внешние стены которого были двухметровой толщины, а внутренние богато
украшены фресками. Орхомен был разрушен в 364‑363 гг. до н. э. в ходе войны с
Фивами.
[509] Понтинские болота (лат. «Pomptinae
paludes») – болотистая, зараженная малярией местность в Лации, расположенная
между Альбанской горой и побережьем Тирренского моря (между Анцием и
Таррациной). На отвоеванном у Понтинских болот узком участке в IV в. до н. э.
была проложена знаменитая Via Appia (Аппиева дорога). Осушение Понтинских болот
неоднократно предпринималось в античный период, начиная с 160 г. до н. э.
[510] Век Антонинов – период в истории
Римской империи с 96 по 192 г., составляющий часть той мирной эпохи, которой
посвящены знаменитые строки Э. Гиббона из третьего тома его «Истории упадка и
разрушения Римской империи»: «Если бы человека попросили определить тот период
в мировой истории, в течение которого человечество пребывало в наиболее
счастливом и процветающем состоянии, он должен был бы без промедления назвать
тот, что начался со смертью Домициана и закончился воцарением Коммода». В
течение этого периода правили Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий и
Ком‑мод. При Антонинах римское общество и государство достигли высшего пика
своего социально‑экономического, политического и культурного развития.
[511] Уникальный случай Египетской империи, которая
продолжала существовать еще несколько столетий после того, как, судя по всем
аналогичным случаям, должна была уже умереть, рассматривается в т. I, с. 70‑73.
[512] Мелийцы – жители острова Мелос,
расположенного в юго‑западной точке Кикладского архипелага и населенного в
историческую эпоху переселенцами из Спарты. В период Пелопоннесской войны Мелос
соблюдал нейтралитет, однако это не помешало афинянам под командованием Никия (426
г. до н. э.) и Алкивиада (416 г. до н. э.) напасть на него и, преодолев
ожесточенное сопротивление жителей, два раза захватывать его. Мужское население
было перебито, женщины и дети обращены в рабство, остров заселен клерухами
(поселенцами из афинских граждан). Фукидид описал жестокое и циничное поведение
победителей на переговорах о капитуляции Мелоса («Диалог мелийцев»). В 405 г.
до н. э. спартанский флот под командованием Лисандра освободил Мелос. Клерухи
были изгнаны, и уцелевшие жители вернулись на Мелос.
[513] Керкира – остров, лежащий к северо‑западу
от материковой Греции. Керкира была важным промежуточным пунктом в торговле
греков Эгеиды с западным Средиземноморьем. Торговое соперничество между Керкирой
и стоявшими за ней Афинами и Коринфом было одной из причин Пелопоннесской
войны.
[514] Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245‑316)
– римский император в 284‑305 гг. Провел реформы, стабилизировавшие положение
Империи (назначив себе трех соправителей, разделил Римскую империю на четыре
части, а их – на двенадцать диоцезов; усилил армию, доведя ее численность до
450 тыс. человек; упорядочил налогообложение и т. д.). С Диоклетианом связано
установление домината (неограниченной формы правления, носившей отпечаток
восточной позднеантичной абсолютной монархии). В 303‑304 гг. Диоклетиан
предпринял гонения на христиан, безрезультатно пытаясь замедлить
распространение христианства. В 305 г. отрекся от престола.
Траян Марк Ульпий (53‑117) – римский император с 98
г., из династии Антонинов. Его внешняя политика отличалась агрессивностью. В результате
завоевательных войн Траяна Римская империя достигла максимальных границ:
завоеваны территории Дакии (к 106), Аравии (106), Великая Армения (114),
Месопотамия (115) (две последние территории были утрачены при императоре
Адриане).
[515] Около 2340 г. до н. э. к власти в шумерском
государстве Лагаш пришла жреческая династия бога Нин‑Нгирсу (так называемая 1‑я
династия Лагаша). О ее правлении в Лагаше осталась недобрая память. Более всего
правители из этой династии пеклись о преумножении своего богатства. Не менее 2/3
храмовых хозяйств перешли во владение правителя – энси, его жены и детей.
Тяжелые подати и налоги разоряли население. Около 2318 г. до н. э. царь
Лугальанду был низложен и к власти пришел Уруинимгина, на второй год своего
правления принявший титул лагаля. Он провел реформы, целью которых было
облегчение налогового бремени и возрождение военного могущества Лагаша. Однако
вернуть прежнее значение стране Уруинимгина не успел – в 2313‑2312 гг. дон. э.
Лагаш был разорен и расчленен царем Урука Лугальзагеси, а в следующем году
завоеван аккадским царем Шаррумканом.
[516] Лугальзагеси – правитель (энси)
шумерского города Умма (2336‑2312 гг. до н. э.). Неизвестно при каких
обстоятельствах сделался царем Урука. Считается основателем и единственным
представителем 3‑й династии Урука. В 2313‑2312 гг. до н. э. разорил и разделил
на части шумерское государство Лагаш.
[517] См. т. I, с. 56‑58.
[518] «Ахеменидский мир» (лат.).
[519] Имеется в виду Ашшурнасирпал II (ум.
859 г. до н. э.) – царь Ассирии, правивший в 884‑859 гг. до н. э. В 879 г. до
н. э. овладел странами Хиндуни и Сухи на границе с Вавилонией. Вавилонский царь
Набуаплаиддин, считавший эти земли своими владениями, выступил против
ассирийцев, но был разбит. Затем Ашшурнасирпал предпринял большой поход к
берегам Средиземного моря, переправился через Евфрат и захватил богатый город
Кархемиш. За Оронтом в Северной Сирии оплотом ассирийцев стал город Арибуа.
Богатые финикийские города – Тир, Сидон, Библ и Арвад прислали Ашшурнасирпалу
дань. Он вышел к берегам Средиземного моря и, как явствует из надписи у реки
Нахр‑эль‑Кельб, омыл в нем свое оружие.
[520] Войны между Византией и Болгарией не прекращались
с VII в. (с момента возникновения Первого Болгарского царства). В 971 г. северо‑восточная
часть Болгарии была захвачена византийцами. Император Василий II (правил в 976‑1025),
получивший прозвище Болгаробойца, окончательно разгромил Болгарию и присоединил
ее к Византии (1018).
[521] Акбар Джелаль‑ад‑дин Мухаммед (Акбар
Великий) (1542–1605) – правитель Могольской империи в Индии с 1556 г. Упрочил
власть Великих Моголов, расширил границы империи. Проводил политику
централизации. При Акбаре Могольская империя достигла наибольшего могущества.
[522] Нация, группа единоверцев (тюрк.).
Деление подданных Оттоманской империи согласно их религиозной принадлежности.
Часто использовалось в значении «немусульмане».
[523] Райя (араб. ra’ïyeh, букв. – «стадо»,
«пасомые») – податное сословие в Османской империи. С конца XVIII в. это
название обычно относилось к немусульманскому населению и носило презрительный
оттенок.
[524] Время правления Пятой династии Египта – 2465‑2325
гг. до н. э., время правления Шестой – 2325‑2155 гг. до н. э.
[525] Тан – китайская императорская династия
(618‑907). Основана Ли Юанем. Период правления династии отмечен территориальным
расширением Китая, изобретением книгопечатания и высоким уровнем развития
поэзии. Господство династии Тан было подорвано крестьянской войной 874‑901 гг.
и борьбой между различными группировками господствующего класса.
[526] Монгольский мир (лат.).
[527] Хубилай (1215‑1294) – пятый монгольский
великий хан (с 1260), внук Чингисхана. В 1279 г. завершил завоевание Китая.
Предпринял также неудачные завоевательные походы против Японии, Вьетнама, Бирмы
и Явы.
[528] Цитата из поэмы Вергилия «Энеида», II, 49
(цитируется в пер. С. Ошерова, под ред. Ф. Петровского). Слова жреца Лаокоона,
заподозрившего коварство данайцев, оставивших у стен Трои огромного деревянного
коня.
[529] Реставрация Мэйдзи (Мэйдзи исин) –
название незавершенной буржуазной революции 1867‑1868 гг. в Японии. Революция
свергла власть сегунов из дома Токугава и восстановила власть императоров. К
власти пришло буржуазно‑дворянское правительство во главе с Муцухито, вставшее
на путь проведения буржуазных социально‑экономических преобразований при
сохранении многочисленных феодальных пережитков. Период правления императора
Муцухито (1868‑1912) в целом носит официальное название «Мэйдзи» и
характеризуется процессом вестернизации, индустриализации Японии и началом ее
активного вмешательства в международную политику.
[530] Лжедмитрий I (? –1606) – самозванец
(предположительно – Григорий Отрепьев). В 1601 г. объявился в Польше под именем
сына царя Ивана IV Грозного царевича Дмитрия. В 1604 г. с польско‑литовскими
отрядами перешел русскую границу, был поддержан частью горожан, казаков и
крестьян. Став в 1605 г. царем, пытался лавировать между польскими и русскими
феодалами. Убит боярами‑заговорщиками. В 1607 г. объявился еще один самозванец,
выдававший себя за якобы спасшегося царя Лжедмитрия I (так называемый
Лжедмитрий II, или Тушинский Вор). В 1608‑1609 гг. он создал Тушинский лагерь
под Москвой, откуда безуспешно пытался захватить столицу. С началом открытой
польской интервенции бежал в Калугу, где был убит. В 1610 г. после свержения
Василия IV Шуйского русским царем был объявлен сын польского короля Сигизмунда
III королевич Владислав. Однако после введения польских войск в Россию и оккупации
Москвы Сигизмунд стал требовать русскую корону уже не для сына, а для себя. В
1611 г. поляки взяли Смоленск, а через месяц в Новгород вступил шведский отряд,
находившийся в России по договору с Василием Шуйским. Шведы сначала требовали,
чтобы русским царем стал шведский принц, однако удовлетворились переходом
Новгорода в зависимость от Швеции. После освобождения ополчением К. Минина и
князя Д. Пожарского Москвы от поляков и воцарения Михаила Романова война с
Польшей и Швецией продолжалась. Лишь в 1617 г. Россия заключила со Швецией
Столбовский мир, по которому получала назад Новгород, но лишалась выхода к
Балтийскому морю. В 1618 г. в деревне Деулино было заключено мирное соглашение
с Польшей. По этому договору за Польшей оставался Смоленск, но королевич
Владислав отказывался от претензий на русский престол.
[531] После подавления в 1637 г. восстания христиан
в Японию был запрещен въезд всех иностранцев, кроме голландцев и китайцев.
Согласно японскому закону 1638 г., принадлежность к христианству каралась
смертной казнью. Чтобы выяснить, исповедует ли человек христианскую веру, его
заставляли топтать ногами распятие и, если он отказывался, казнили. Запрет на
въезд иностранцев в Японию был отменен только в 1854 г.
[532] «Мир Августа» (лат.) – мир, который дал
император Август. В представлении римлян победа Рима и поражение противника
после десятилетий гражданской войны были условием мира.
[533] После присоединения к Москве ряда удельных
княжеств главной ее соперницей во второй половине XV в. оставалась Новгородская
республика. Вдова новгородского посадника Борецкого, знаменитая Марфа‑Посадница,
попыталась отстоять независимость Новгорода и старые вечевые обычаи. Вместе с
единомышленниками она решила, что лучше отдаться под власть Великого княжества
Литовского, нежели подчиниться Москве. Начались переговоры с литовцами. В 1471
г. великий князь Московский Иоанн III отправил свои войска к Новгороду, и на
реке Шелони новгородское ополчение было разгромлено. Новгород признал
зависимость от Москвы. Однако Марфа Борецкая не смирилась и продолжала борьбу.
Только после третьего похода Иоанна III в 1478 г., когда Марфу заточили в
монастырь, а Новгородского епископа бросили в тюрьму, сына Марфы казнили,
вечевой колокол вывезли и больше тысячи бояр и купцов переселили в Москву,
Новгород сдался окончательно.
[534] Вступление Японии в эпоху зрелого феодализма в
конце XII в. было отмечено приходом к власти военно‑феодального сословия буси
(самураев) и созданием сёгуната – государства, возглавляемого военачальником –
сегуном. Столица была перенесена в бывшую военную ставку – селение Камакура.
Отсюда и название первого периода феодального правления в истории Японии (1185‑1333).
Следующий период носит название Муромати, когда к власти пришли сегуны из рода
Асикага, расположившиеся в старой столице Киото. Династия Асикага правила с
1335 (1338) по 1573 г.
[535] Тойнби называет имена трех объединителей
Японии. Нобунага Ода (1534‑1582) – японский полководец. Низложив в 1573
г. последнего сегуна из дома Асикага, объединил под своей властью около трети
страны. Хидэёси Тоётоми (1536‑1598) – японский полководец, второй из
трех феодальных объединителей страны в XVI – начале XVII в. К 1590 г. объединил
под своей властью всю Японию. В 1592‑1598 гг. вел войну против Кореи, но
потерпел поражение. Иэясу Токугава (1542‑1616) – японский феодал.
Завершил объединение страны, начатое Ода и Тоётоми, и основал династию сегунов
Токугава.
[536] Тем более (лат.).
[537] На смертном одре (лат.).
[538] Гогенштауффены (Штауффены) – династия
германских королей (1138‑1208, 1215‑1254) и императоров Священной Римской
империи (1138‑1254), в 1197‑1268 гг. также короли Сицилийского королевства.
Главные представители династии (Фридрих I Барбаросса, Генрих VI, Фридрих II
Штауффен) стремились к созданию мировой Империи и пытались подчинить себе
северо‑итальянские города.
[539] Птолемеи (Лагиды) – македонско‑греческая
царская династия в эллинистическом Египте в 305‑30 гг. до н. э. Основана
Птолемеем I (сыном Лага) – полководцем Александра Македонского, диадохом. При
последней представительнице династии – Клеопатре VII государство Птолемеев было
завоевано Римом. Его территория составила римскую провинцию Египет.
[540] Мин – китайская императорская династия
(1368‑1644). Ее основатель Чжу Юаньчжан (1328‑1398) был одним из главных
руководителей восстания «Красных повязок» 1351‑1368 гг., приведшего к свержению
монгольской династии Юань.
[541] В середине XIX в. против Китая началась
агрессия западных стран. В результате ряда войн Китаю были навязаны кабальные
договоры. В конце XIX столетия Китай был уже поделен между иностранными
державами на сферы влияния, превратившись, по сути дела, в полуколонию.
Недовольство подобным положением дел привело к народному антизападному
восстанию 1899‑1901 гг. в Северном Китае. Это восстание было начато тайным
обществом Ихэцюань («Кулак во имя справедливости и согласия» – отсюда и
европейское название восстания – «боксерское», по аналогии с боксерами), позже
получившим название Ихэтуань («Отряды справедливости и согласия»). В июне 1900
г. ихэтуани вступили в Пекин. Войска Германии, Японии, Великобритании, США,
Франции, России, Италии и Австро‑Венгрии под общим командованием немецкого
фельдмаршала Вальдерзее подавили восстание. В 1901 г. был подписан так
называемый боксерский протокол, поставивший Китай в практически полную
зависимость от иностранцев.
[542] Под влиянием Октябрьской революции 1917 г. в
России в Китае стало шириться антизападное и антифеодальное движение. В 1925 г.
началась национальная революция, которая окончилась в 1927 г. поражением
демократических сил и установлением власти гоминьдана, выражавшего интересы
помещиков и буржуазии.
[543] Мередит Джордж (1828‑1909) – английский
прозаик и поэт. Среди его произведений, замечательных своей социальной сатирой
и глубоким анализом характеров, романы «Испытание Ричарда Февереля» (1859),
«Эгоист» (1879), «Один из наших завоевателей» (1891), а также большая поэма
«Современная любовь» (1862).
[544] Порыв (фр.).
[545] Орфей – в греческой мифологии
фракийский певец, сын музы Каллиопы. Своим чудесным пением и игрой на кифаре
очаровывал не только богов и людей, но даже животных и растения, укрощая дикие
силы природы.
[546] Гамельнский дудочник – персонаж
немецкой средневековой легенды. Легенда повествует о том, как в 1284 г. в
вестфальском городе Гамельн, подвергшемся нашествию крыс, появился некий
странный субъект – дудочник, одетый в разноцветное платье, – и предложил городу
свои услуги в избавлении его от крыс за умеренную плату. Горожане приняли
предложение музыканта, но, когда тот выполнил свое обещание, отказались
платить. В день святого Иоанна дудочник снова появился в городе и заиграл на
своем инструменте. На этот раз за ним последовали городские дети, которых, как
в свое время крыс, заворожили звуки его дудки. Он привел их к пещере, где все
они исчезли, за исключением двоих – слепого и немого.
[547] Имеется в виду Фридрих Вильгельм I
(1688‑1740) – прусский король с 1713 г., из династии Гогенцоллернов.
Реформировал прусскую армию и получил прозвище «фельдфебель на троне».
[548] Мф.1, 13. Ср.: «Входите тесными вратами,
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими».
[549] Бриарей – в греческой мифологии сын
бога неба Урана и богини земли Геи. Чудовищное существо с 50 головами и сотней
рук, один из трех братьев Гекатонхейров (Сторуких) – участников титаномахии.
Когда боги восстали против Зевса, его спас призванный на помощь богиней Фетидой
Бриарей, одним своим видом устрашивший врагов Зевса. Бриарей – хтоническое,
страшное порождение земли, которое служит своей силой новому поколению богов,
устанавливающих принцип упорядоченности в устройстве мира.
[550] Сила инерции (лат.).
[551] Аболиционизм (от лат. «abolitio»
– «уничтожение», «отмена») – в конце XVIII–XIX вв. в США движение за отмену
рабства негров. Одно из первых аболиционистских обществ было основано Б.
Франклином еще в 1775 г. В Великобритании, Франции и ряде других стран –
движение за отмену рабства в колониях.
[552] Хелпер Хинтон Рауэн (1829‑1909) –
единственный видный американский писатель из южан, выступивший против рабства
еще до начала Гражданской войны 1861 ‑1865 гг. Его тезисы оказали большое
влияние на северо‑американское общественное мнение и сыграли важную роль в
аболиционистском движении. Прославился своей книгой «Неминуемый кризис Юга: как
его преодолеть» (1857), в которой нападал на рабство не за то, что оно основано
на эксплуатации черных невольников, но за то, что его жертвой становятся не
владеющие рабами белые и оно препятствует экономическому прогрессу.
[553] Энджелл Норман (сэр Ральф Норман
Энджелл Лэйн) (1874‑ 1967) – английский журналист, политический деятель,
пацифист, экономист и писатель. Автор книги «Великая иллюзия» (1910), в которой
доказывал экономическую бесполезность войны. Лауреат Нобелевской премии мира за
1933 г.
[554] Тем не менее, П. А. Сорокин в статистических
данных, составленных им, находит, что бремя войны для западного мира в XVIII
столетии было в целом легче, чем в XIX (Sorokln P. A. Social and
Cultural Dynamics. Vols. III. New York, 1937. P. 342, 345‑346).
[555] Религиозные войны – во Франции, в 1562‑1594
(или 1562‑ 1598), между католиками и гугенотами (протестантами). Активная сила
обоих лагерей – плебейство и мелкое дворянство. Возглавляла и тот и другой
лагерь феодальная знать, стремившаяся ограничить королевскую власть. Католиков
возглавляли герцоги Гизы, гугенотов – Антуан Бурбон, принц Луи Конде, адмирал
Г. Колиньи, затем Генрих Наваррский (будущий король Генрих IV). С фактическим
вступлением на французский престол в 1594 г. Генриха IV (перешедшего в
католицизм) военные действия в основном закончились. Окончательно завершил
Религиозные войны Нантский эдикт 1598 г.
[556] В октябре 1687 г. дофин, сын короля Людовика
XIV, вторгся в Пфальц (Палатинат), захватил Филиппсбург, Мангейм и некоторые
другие города. Многие из них, в том числе Шпейер, Вормс, Бинген и Оппенгейм,
были разрушены до основания. Эти бессмысленные опустошения вызвали волну
ненависти по всей Германии.
[557] Перефразировка стиха из поэмы Овидия (43 г. до
н. э. – 17 г. н. э.) «Героиды», XIII, 84: «Bella gerant alii! Protesilaus
amet!» («Другие воюют, Протесилай же предается любви»); приписывается
венгерскому королю Матвею Корвину (ум. 1490), иронически характеризовавшему
способ расширения Австрийского государства при помощи брачных союзов
императоров.
[558] Война за Испанское наследство – война
1701‑1714 гг., начавшаяся после смерти последнего испанского Габсбурга Карла II
(1700). Франция возвела на испанский престол Филиппа Бурбона (внука Людовика
XIV). Против франко‑испано‑баварской коалиции выступила коалиция
Великобритании, Голландии, Австрии (император Священной Римской империи) и
Пруссии. Закончилась подписанием Утрехтского (1713) и Раштаттского (1714)
миров. Филиппу Бурбону была оставлена Испания с ее заморскими колониями (при
условии отказа его наследников от прав на французский престол). Австрийские
Габсбурги получили испанские владения в Нидерландах и в Италии, Великобритания
– Гибралтар и Маон, право асьенто (монопольное право на ввоз негров‑рабов в
американские владения) – от Испании и ряд владений в Северной Америке – от
Франции. Главным результатом этой войны стало усиление английского морского и
колониального могущества.
[559] Война за Польское наследство – война
1733‑1735 гг. между Францией, с одной стороны, Россией, Австрией и Саксонией –
с другой. Поводом послужили выборы короля на польский престол после смерти
Августа II (1733). Кандидатами были Станислав Лещинский (ставленник Франции) и
Август Саксонский (ставленник союзников). Война закончилась признанием Франции
польским королем Августа Саксонского (Август III).
[560] Война за Австрийское наследство – война
1740‑1748 гг. коалиции Франции, Пруссии, Баварии, Саксонии, Испании, Пьемонта и
других государств, оспаривавших наследственные права эрц‑герцогини Марии
Терезии на владения австрийской короны и стремившихся к их разделу, против
Австрии, поддержанной Англией, Голландией и Россией. По Ахенскому миру 1748 г.
Мария Терезия сохранила большую часть своих владений, но почти вся Силезия
перешла к Пруссии.
[561] Стерн Лоуренс (1713‑1768) – английский
писатель. Зачинатель литературы сентиментализма. Романы «Жизнь и мнения
Тристрама Шенди» (1760‑1767) и «Сентиментальное путешествие по Франции и
Италии» (1768) полемизируют с просветительской однозначностью в оценке мыслей и
поступков человека. Мастерство литературной пародии, эксперименты с
художественной формой, острая наблюдательность и психологизм снискали Стерну
широкую популярность.
[562] Амьенский мирный договор – мирный
договор, заключенный 27 марта 1802 г. между Францией и ее союзниками, с одной
стороны, и Великобританией – с другой. Завершил распад 2‑й антифранцузской
коалиции. Договор, предусматривавший освобождение подписавшими его сторонами
некоторых территорий, занятых ими в ходе войны, обеспечил лишь
непродолжительную передышку. В мае 1803 г. война между Великобританией и
Францией вспыхнула вновь.
[563] Веллингтон Артур Уэсли (1769‑1852) –
герцог (с 1814), английский фельдмаршал (с 1813), прозванный Железным герцогом.
В войнах против наполеоновской Франции командовал союзными войсками на
Пиренейском полуострове (1808‑1813) и англо‑голландской армией при Ватерлоо
(1815). В 1827‑1852 гг. – главнокомандующий английской армией. В 1828‑1830 гг.
– премьер‑министр кабинета тори, в 1834‑1835 гг. – министр иностранных дел, в
1841‑1846 гг. – министр без портфеля.
[564] Революционная война – имеется в виду
война между Великобританией и ее 13 американскими колониями (1775‑1783), в
результате которой колонии получили независимость и было создано государство
США. В отечественной историографии чаще называется Войной за независимость в
Северной Америке.
[565] Лоялисты (англ. «loyalists») (тори‑колонисты)
– сторонники метрополии во время Войны за независимость в Северной Америке 1775‑1783
гг.
[566] В действительности, есть более ранний пример:
изгнание британскими властями французских акадийцев из Новой Шотландии в начале
Семилетней войны; однако это было делом мелкомасштабным, хотя и бесчеловечным
по нормам XVIII столетия, и для него имелись, или, тогда казалось, что имелись,
стратегические причины.
[567] Меркантилизм (от итал.
«mercante» – «торговец», «купец») – первая школа буржуазной политэкономии;
экономическая политика периода раннего капитализма, выражается в активном
вмешательстве государства в хозяйственную жизнь и проводится в интересах
купцов. Основные представители раннего меркантилизма (последняя треть XV –
середина XVI в.) – У. Стаффорд (Англия), Г. Скаруффи (Италия). Для него
характерна теория денежного баланса, обосновывавшая политику, направленную на
увеличение денежных богатств чисто законодательным путем. Главным элементом
позднего меркантилизма, достигшего расцвета в XVII в., является система
активного торгового баланса. Основные представители позднего меркантилизма: Т.
Мен (Англия), А. Серра (Италия), А. Монкретьен (Франция). Ими выдвигался
принцип: покупать дешевле, продавать дороже. Политика меркантилизма заключалась
в активном протекционизме, в поддержке экспансии торгового капитала, поощрении
развития отечественной промышленности, особенно мануфактурной.
[568] По Утрехтскому мирному договору 1713 г.,
завершившему войну за Испанское наследство, Великобритании было предоставлено
так называемое право асьенто – монопольное право на ввоз негров‑рабов в
американские владения.
[569] Филадельфийская конституция – в 1787 г.
в Филадельфии было созвано Конституционное собрание, составившее первую
федеральную Конституцию Соединенных Штатов Америки. Конституция вступила в силу
4 марта 1789 г.
[570] Таможенный союз (нем.).
[571] Имеется в виду Уильям Питт Младший (1759‑1806)
– премьер‑ министр Великобритании в 1783‑1801 и 1804‑1806 гг., лидер так
называемых новых тори. На посту премьер‑министра провел ряд важных налоговых и
пошлинных реформ. Один из главных организаторов коалиций европейских государств
против революционной, а затем наполеоновской Франции. Французский Конвент
объявил его «врагом человечества». В 1798 г. правительство Питта подавило
ирландское восстание, в 1801 г. – ликвидировало автономию Ирландии.
[572] Пиль, сэр Роберт (1788‑1850) –
британский государственный деятель, премьер‑министр Великобритании в 1834‑1835
и 1841‑1846 гг. Лидер «пилитов» (умеренных тори). В 1822‑1827 и 1828‑1830 гг.
министр внутренних дел. Будучи на посту министра внутренних дел, основал
лондонскую полицию. В свое второе премьер‑ министерство провел в интересах
промышленной буржуазии отмену хлебных законов (1846).
[573] Кобден Ричард (1804‑1865) – английский
промышленник, торговец, экономист и государственный деятель. Совместно с Джоном
Брайтом возглавлял закончившуюся успехом кампанию по отмене хлебных законов
(1846).
[574] До последней степени; вовсю (фр.).
[575] Манчестерская школа (фритредерство, от англ.
«free trade» – «свободная торговля») – направление в английской экономической
теории и политике промышленной буржуазии в первой половине XIX в. Основными
принципами манчестерской школы были требование свободы торговли и
невмешательства государства в частно‑предпринимательскую деятельность. Основана
Ричардом Кобденом и Джоном Брайтом. Название – от Хлебной лиги Манчестера 30‑40‑х
гг. XIX в.
[576] Фактически (лат.).
[577] Евангельская аллюзия (Мф. 14, 15‑21;
15, 32‑38; Мк. 6, 35‑ 44; Лк. 9, 12‑17; Ян. 6, 5‑14).
[578] «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись,
не растерзали вас» Мф. 7, 6).
[579] «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал
всё, что имел, и купил ее» (Мф. 13, 45‑46).
[580] Закон Форстера – принятый 9 августа
1870 г. закон об образовании, заложивший в Великобритании основы системы
начального школьного образования. Назван по имени английского государственного
деятеля, занимавшегося его разработкой, Уильяма Эдварда Форстера (1818‑1886).
[581] Нортклифф Альфред Чарлз Уильям, виконт
(1865‑1922) – британский журналист, издатель, политик и газетный король. Вместе
со своим братом Гарольдом Сиднеем, первым виконтом Ротермером (1868‑1940),
создал обширный газетный трест. Основал газеты «Дейли мейл» (1896), «Дейли
миррор» (1903) и приобрел «Тайме» (1908).
[582] Имеются в виду реформы афинского архонта
Солона (между 640 и 635 – ок. 559 г. до н. э.), которые способствовали
ускорению ликвидации пережитков родового строя (отмена поземельной
задолженности, запрещение долгового рабства, введение земельного максимума и
др.). Выше (том I, с. 41) Тойнби говорил о введенном Солоном законе, по
которому запрещался вывоз из Аттики хлеба и поощрялся экспорт оливкового масла.
[583] Восстание, бунт, мятеж, несогласие (греч.).
[584] Писистрат (ок. 600‑528 гг. до н. э.) –
афинский тиран. В политической борьбе, разразившейся в Афинах после реформ
Солона, стал во главе диакриев (крестьян из горных районов Аттики). Опираясь на
наемников, он победил в борьбе против крупных землевладельцев, ремесленников и
купцов и в 561 г. установил тиранию. Дважды был изгнан, но смог восстановить
свою власть. В 527 г. он передал по наследству власть своим сыновьям Гиппию и
Гиппарху. Гиппий сначала продолжал умеренную политику своего отца, но после
того как был убит правивший вместе с ним брат Гиппарх (514), перешел к политике
насилия. Под давлением Алкмеонидов спартанцы изгнали его в 510 г. Оказавшись
вместе с братьями и сыновьями в опале, Гиппарх покинул Грецию и отправился к
персидскому царю Дарию I.
[585] Клисфен – афинский государственный
деятель конца VI в. до н. э. В 510 г. до н. э., когда тиран Гиппий был изгнан,
возглавил афинский демос. Реформы, проведенные Клисфеном в 509‑507 гг. до н.
э., укрепили положение афинского демоса, что позволило ему выдержать борьбу со
спартанским царем Клеоменом I. Благодаря реформам Клисфена ускорился процесс
ослабления власти родовой аристократии и открылся простор для полного развития
рабовладельческой демократии.
[586] Внутриполитическое развитие
раннереспубликанского периода в истории Рима (ок. 510‑287 гг. до н. э.) было
отмечено так называемой борьбой сословий, которую вели свободные, но бесправные
плебеи против привилегированных патрициев. В ее ходе плебеям удалось добиться
от патрициев крупных уступок: наделение землей, писаное законодательство
(Законы 12‑и таблиц – 449 г. до н. э.), доступ к политическим должностям,
народный трибунат, отмена долгового рабства. Результатом этой борьбы стало
формирование римской античной гражданской общины, ставшей основой всей
дальнейшей истории Рима. В 287 г. до н. э., согласно закону Гортензия, все
решения, принимавшиеся плебейскими комициями (народными собраниями), получали
законодательную силу. Таким образом, патриции вместе с верхушкой плебеев
образовали новый социально привилегированный класс – нобилитет.
[587] Делосский союз (Афинский морской союз)
– возглавляемое Афинами антиперсидское объединение, куда входили города‑государства,
расположенные главным образом на островах и берегах Эгейского моря. Создан в
478‑477 гг. до н. э. Его целью было продолжение войны с Персией за освобождение
греческих городов, лежащих в Малой Азии. Союз представлял собой симмахию на
«вечные» времена. Верховная власть принадлежала Афинам. Главный руководящий
орган – союзный совет – располагался на острове Делос (отсюда название союза).
Лишь наиболее крупные члены союза – острова Хиос, Лесбос, Самос – предоставляли
для участия в оперативных союзных действиях военные корабли. Остальные
участвовавшие в союзе города ограничивались денежными взносами и, таким
образом, полностью зависели от Афин. С заключением так называемого Каллиева
мира в 449 г. до н. э. с персами основная цель союза была достигнута. С этого
момента начинает все отчетливее проявляться стремление Афин превратить
Делосский союз в свой протекторат. Это привело к попыткам выхода из союза.
Однако эти попытки были подавлены. Поражение Афин в Пелопоннесской войне
привело к распаду Делосского союза.
[588] Скорпион (библ.) – бич с металлическими
шипами. Ср.: «Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго
ваше; отец мой наказывал нас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (3
Цар. 12,11).
[589] Конкордат (от позднелат.
«concordatum» – «соглашение») – договор между папой римским как главой католической
Церкви и каким‑либо государством, регулирующий правовое положение католической
Церкви в данном государстве и его отношения с папским престолом.
[590] На Констанцском (1414‑1418) и Базельском (1431‑1449)
соборах католической Церкви было провозглашено верховенство соборов над папой.
Однако впоследствии папство отстояло верховную власть над соборами.
[591] Соборное движение – движение с конца
XIV в. части европейских высших духовных и светских феодалов за верховенство
Вселенских соборов католической Церкви над папой. Закончилось поражением – в
1460 г. папство запретило любую апелляцию к соборам.
[592] Имеется в виду Сэмюэл Джонсон (1709‑1784) –
английский лексикограф, критик, поэт и составитель знаменитого «Словаря
английского языка», непререкаемый авторитет в литературных кругах Англии второй
половины XVIII столетия. Был известен также эксцентричностью поведения,
небрежностью в одежде и манерах, заносчивым и сварливым нравом, склонностью к
праздному времяпрепровождению и постоянными жалобами на слабое здоровье.
[593] Кавелл Эдит Луиза (1865‑1915) –
английская сестра милосердия. Казнена немцами во время Первой мировой войны за
организацию побега военнопленных.
[594] Предположительно (фр.).
[595] Немезида (греч. – «справедливое
негодование») – богиня греческой мифологии, дочь Никты (ночи). Олицетворение
судьбы. Воздает людям сообразно их вине наказание за гордыню и
несправедливости.
[596] Цитата из поэмы Лукреция «О природе вещей», 1,
102.
[597] «Раздавите гадину!» (фр.).
[598] «Клерикализм – вот враг!» (фр.).
[599] Нанак (1469‑1539) – идеолог сикхизма,
индийский поэт, стихи которого были включены в священную книгу сикхов
«Адигрантх». Развивал антифеодальные идеи движения бхакти, провозглашавшего
равенство всех людей перед Богом и отрицавшего их деление на касты. Создал в
Пенджабе общину сикхов (буквально – «ученики») и был ее первым гуру. В сикхскую
общину входили в начальный период ее истории главным образом торговцы,
ремесленники, представители непрестижных в феодальном обществе профессий,
отчасти – крестьяне. Осуждая отрешенность от мирских дел, Нанак призывал к
активной деятельности на благо человека. Сикхизм отказался от сложной
обрядности и вообще от поклонения каким‑либо внешним атрибутам божества, а
заодно и от признания посреднических функций священнослужителей.
[600] Рай Раммохан (1772 или 1774‑1833) –
индийский просветитель, разработал религиозно‑философскую систему, утверждавшую
равенство людей и отвергавшую наиболее одиозные обычаи, увековеченные
индуизмом. Основным средством общественного прогресса считал просвещение
народа. Основал в 1828 г. в Бенгалии (Британская Индия) религиозно‑реформаторское
просветительское общество «Брахмо самадж» («Общество Брахмы»). Родоначальник
современной бенгальской прозы.
[601] Грэдграйнд Томас – персонаж романа Ч.
Диккенса «Тяжелые времена» (1854), который гордится своим сугубо практическим
складом ума и пытается воспитать в том же духе собственных детей, что приводит
к весьма неутешительным результатам.
[602] Баундерби Джосайя – еще один персонаж
из романа Ч. Диккенса «Тяжелые времена», самый близкий друг Грэдграйнда.
Известный богач, банкир, купец и фабрикант. Диккенс характеризует его
следующими словами: «Он толст, громогласен, взгляд у него тяжелый, смех –
металлический. Сделан он из грубого материала, который, видимо, пришлось сильно
натягивать, чтобы получилась такая туша… Он очень любит похвастаться, и
хвастает он преимущественно тем, что сам вывел себя в люди. Он неустанно, во
всеуслышание, – ибо голос у него что медная труба – твердит о своем былом
невежестве и былой бедности. Чванное смирение – его главный козырь».
[603] Банторн Реджинальд – герой комической
оперы Артура Салливана (1842‑1900) на либретто английского драматурга Уильяма
Швенка Гилберта (1836‑1911) «Терпение, или Невеста Банторна» (1881). Считается,
что Банторн представляет собой карикатуру на О. Уайльда.
[604] Предположительно (лат.).
[605] Арнольд Мэтью (1822‑1888) – английский
поэт, ученый и литературный критик. Скептически относился к так называемой эре
викторианского процветания, видя спасение от мещанской деградации общества в
приумножении и пропаганде культурных ценностей – «наилучшего из того, что было
придумано и сказано в этом мире». Среди наиболее известных его работ:
«Критические заметки» (1865‑ 1888), эссе «Культура и анархия» (1869), «Литература
и догма» (1873); из поэтических произведений – сборник стихов «Заблудившийся
бражник» (1849), поэмы «Аларих в Риме» (1840), «Кромвель» (1843), «Тристрами
Изольда» (1852) и «Зонраб и Рустум» (1853).
[606] Ремесло (древнегреч.).
[607] Ремесленник (древнегреч.).
[608] Ремесленники Диониса (древнегреч.).
[609] Джефферсон Томас (1743‑1826) – один из
«столпов американской демократии», третий президент США (1801‑1809), основной
автор Декларации независимости, создатель Демократической партии,
противостоявшей федералистам. Являясь крупным рабовладельцем, Джефферсон
выступал сторонником постепенной отмены рабства и перехода к системе «аграрной
демократии», основанной на массах свободных фермеров, однако предпочел оставить
решение этой задачи будущим поколениям.
[610] См. прим. 31 к части III.
[611] Человек неповрежденный древней добродетели (лат.).
[612] Человек обыкновенный Нортклифа (лат.).
[613] Человек демотический Клеона (лат.).
[614] Клеон (ум. в 422 г. до н. э.) –
афинский политический деятель. В качестве стратега участвовал в Пелопоннесской
войне; предводитель партии радикальных демократов; владелец кожевенной
мастерской. В судебном деле, возбужденном против Перикла, выступил как обвинитель.
После смерти Перикла стал наиболее влиятельным государственным деятелем в
Афинах. Он требовал форсировать ход военных действий и выступал за жестокое
наказание отпавшей Митилены (427 г. до н. э.). В 425 г. до н. э. захватил
стратегически важный остров Сфактерия. Именно по настоянию Клеона были
увеличены размеры фороса, взимавшегося с союзников Афин. Фукидид и Аристофан
были настроены к нему враждебно; они вывели и осмеяли его в своих произведениях
(«Всадники», «Мир» Аристофана).
[615] Внезапная перемена; неожиданное несчастье; в
драме: развязка (греч.).
[616] Ср.: «Иисус говорит им: истинно говорю вам,
что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн
путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы
же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» (Мф. 21,31‑32).
[617] Имеется в виду апостол Павел, родившийся в
Тарсе Киликийском.
[618] Тойнби имеет здесь в виду эпизод встречи
Христа с сотником (Мф. 8, 5‑13; Лк. 7,1‑10) и с сиро‑финикиянкой (Мк.
7, 24‑30).
[619] Необузданность – безумие (греч.).
[620] Аллюзия на притчу о талантах (Мф. 25,
14‑30).
[621] Имеется в виду знаменитый Ареопаг (греч.
– «холм Арея») – холм в Афинах, место заседаний древнего судилища того же
названия. В ареопаге проповедовал афинянам апостол Павел (Деян. 17, 22‑34),
в результате чего часть его слушателей уверовала в Христа.
[622] «Аттицистический» было бы более точным
термином, нежели привычное «эллинистический», для наименования трех столетий
между разгромом империи Ахеменидов Александром Великим и установлением Pax
Romana Августом. Как указал Эдвин Бивэн, в точном смысле слова эпитет
«эллинистический» можно приложить не к какой‑либо главе в истории самой
эллинской цивилизации, но ко всему характеру тех двух цивилизаций, которые
являются дочерними по отношению к эллинскому обществу и в терминологии,
используемой в данном «Исследовании», называются христианской и православно‑христианской.
[623] Савойский дом – древний французский
род, первый исторически достоверный представитель которого – граф Савойский
Гумберт Белая Рука (ум. 1048/1051). Коренное владение – Савойя – расположено на
юге Франции, столица графства находилась в Шамбери. Но уже сын Гумберта Амадей
I утвердился в Пьемонте. Постепенно интересы Дома переместились в Италию. С
1416 г. представители этого дома носили титул герцогов. В 1538‑1559 гг. Савойя
была оккупирована Францией. Герцог Эммануэль Филибер перенес столицу своих
владений из Шамбери в Турин, чтобы обезопасить центр герцогства от французских
нападений. С этого времени началась итальянизация Дома. В 1713 г. герцоги
Савойские присоединили к своим владениям Сицилию и приняли титул сицилийских
королей. В 1718 г. король Виктор Амадей II обменял Сицилию на Сардинию и стал
титуловаться сардинским королем. Главная линия Дома пресеклась в 1831 г., и
королевская корона перешла к младшей линии герцогов Савойских‑Кариньянских,
которым впоследствии удалось объединить всю Италию и стать итальянскими
королями с 1861 г. (утратили престол в 1946 г.).
[624] Новара – город в Северной Италии, в
области Пьемонт. Около Новары 23 марта 1849 г. во время австро‑итальянской
войны 1848‑ 1849 гг. австрийская армия фельдмаршала Й. Радецкого разбила
итальянские войска, после чего сардинский король Карл Альберт отрекся от
престола, а его преемник Виктор Эммануил II заключил мир с Австрией.
[625] Маджента – город в Северной Италии к
западу от Милана. Около Мадженты 4 июня 1859 г. во время австро‑итало‑французской
войны 1859 г. франко‑итальянские войска разбили австрийскую армию и заняли всю
Ломбардию, что усилило подъем национально‑освободительного движения в Италии.
[626] Карл Альберт (1798‑1849) – король
Сардинского королевства с 1831 г. Во время революции 1848‑1849 гг. ввел
умеренно либеральную конституцию (так называемый Альбертинский статут). После
поражения в австро‑итальянской войне 1848‑1849 гг. отрекся от престола и бежал
из страны.
[627] Манин Даниеле (1804‑1857) –деятель
итальянского Рисорджименто. Во время революции 1848‑1849 гг. возглавлял
антиавстрийское восстание в Венеции и правительство Венецианской республики. В
1854 г. отказался от республиканских идеалов, стал выступать за объединение
Италии под эгидой Савойской династии.
[628] Кавур Камилло Бенсо, граф (1810‑1861) –
итальянский государственный деятель, лидер либерального крыла в итальянском
Рисорджименто, в 1852‑1859 и 1860‑1861 гг. премьер‑министр Сардинского
королевства. Проводил буржуазные и антиклерикальные реформы. Стремился
объединить Италию вокруг Сардинского королевства путем династических и
дипломатических сделок. После объединения Италии (1861) глава итальянского
правительства.
[629] Конфедерация (Конфедеративные штаты
Америки) – в 1861 – 1865 гг. объединение 11 южных рабовладельческих штатов США
(Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина,
Техас, Виргиния, Теннеси, Луизиана и Миссисипи), отделившихся от Союза в 1861
г. и развязавших Гражданскую войну в США 1861‑1865 гг. Конфедерация была
разгромлена в 1865 г., и Юг вошел в состав США.
[630] Вильсон Томас Вудро (1856‑1924) – 28‑й
американский президент (1913‑1921), при котором были приняты первые антитрестовские
законы и Америка вступила в войну на стороне Антанты (1917). После войны
Вильсон явился инициатором создания Лиги Наций, однако из‑за сопротивления
конгресса сами США так и не стали членом этой организации.
[631] Пейдж Уолтер Хайнс (1855‑1918) –
американский журналист, издатель и дипломат.
[632] Маршалл Джон (1755‑1835) – американский
юрист и государственный деятель. В качестве главного судьи Верховного суда США
(занимал этот пост в 1801‑1835 гг.) установил основные принципы
конституционного права в США.
[633] Кэлхун (Calhoun) Джон Колдуэлл (1782‑1850)
– вице‑президент США в 1825‑1832 гг., сторонник сохранения рабства.
[634] Ахайя – область, населенная ахейцами на
севере Пелопоннеса. В 280 г. до н. э. в результате объединения пелопоннесских
государств был создан Ахейский союз, который вместе с Этолийским союзом
представлял политический и военный противовес македонскому господству. Устав
союза был умеренно‑демократический (единое гражданство, широкая автономия
союзников, единая внешняя политика, исполнительная власть и стратегия; ежегодно
избираемый наварх). При Арате Сикионском Ахейский союз вел успешные боевые
действия против Македонии. Заключенный со Спартой союз перерос в дальнейшем
вследствие претензий Спарты на господство во вражду с ней. Преемник Арата
Филопемен пытался укрепить Ахейский союз, однако союз фактически распался из‑за
распрей еще до того, как римляне одержали победу над македонским царем Персеем
при Пидне (168 г. до н. э.). В 146 г. до н. э. Ахейский союз был побежден
римлянами в ходе войны с поддерживаемой Римом Спартой. Победа римлян над
Ахейским союзом положила конец политической самостоятельности Греции. Ахайя
была включена в римскую провинцию Македония и в 27 г. до н. э. преобразована в
отдельную сенатскую провинцию Ахайя.
[635] По обязанности творчества (лат.).
[636] Здесь обыгрывается имя героя древнегреческой
мифологии Эпиметея (дословно – «мыслящий после», или «крепкий задним умом») в
противоположность его брату Прометею («мыслящему прежде», «предвидящему»).
[637] В 476 г. варвары под начальством Одоакра (433‑493),
вождя герулов, вступили в Рим и низложили последнего императора Ромула
Августула. При этом Одоакр не присвоил себе императорские инсигнии (знаки
императорской власти), но отослал их в Константинополь императору Зенону,
считая, что «император должен быть, как Солнце, один». Одоакр формально
подчинился императору Зенону и правил как назначенный Patricius и Magister
militum (полководец). В действительности же Одоакр был в 476‑493 гг. первым
германским военным правителем Италии.
[638] В оригинале г‑на Тойнби Восточная Римская
империя рассматривалась в большем объеме и с большей детальностью, чем
представленные здесь исторические примеры. См. том IV [оригинала], с. 320‑408 (Прим.
Д. Ч. Сомервелла).
[639] См. том I, прим. 108 к гл. 2.
[640] Генрих III Черный (1017‑1056) –
немецкий король и император Священной Римской империи из Франконской династии,
правивший в 1039‑1056 гг. Пытался сосредоточить в своих руках германские
герцогства. Во время похода в Италию (1046‑1047) низложил соперничавших между
собою пап (Бенедикта IX, Сильвестра III и Григория VI), восстановив старое
правило, согласно которому пап избирали не иначе как по воле императора.
Позднее неоднократно назначал кандидатов на папский престол.
[641] Имеется в виду римский папа с 1073 г. Григорий
VII (в миру – Гильдебранд; ок. 1020‑1085), считающийся в западном мире
величайшим из пап, когда‑либо занимавших престол св. Петра. По его учению,
папская власть выше всякой светской власти и ответственна лишь перед Богом.
Григорий установил обязательное безбрачие духовенства, ввел принцип выборности
пап коллегией кардиналов и строго преследовал симонию – распространенную тогда
практику торговли церковными должностями. Ведя упорную борьбу против
германского императора Генриха IV, Григорий сперва добился внушительного
успеха, принудив императора к публичному унизительному покаянию, но затем был
изгнан императором из Рима и умер в ссылке.
[642] Король‑солнце (фр.).
[643] «Государство – это я» (фр.). Выражение,
приписываемое Людовику XIV.
[644] «После нас хоть потоп!» (фр.). Фраза
приписывается фаворитке французского короля Людовика XV маркизе Помпадур.
[645] Вестминстер – центральный район
Лондона, в котором находятся королевская резиденция (Букингемский дворец),
парламент и другие правительственные учреждения. Вестминстером называют также и
сам английский парламент, впервые образованный в XIII в. как орган сословного
представительства.
[646] Библейская аллюзия (3 Цар. 12‑15 и 2
Пар. 10‑13). После смерти царя Соломона воцарился его сын Ровоам. Суровый
отказ Ровоама облегчить иго, наложенное на израильтян Соломоном, вызвал
восстание большей части еврейского царства. Десять колен Израилевых отделились
от Ровоама, избрали себе царем Иеровоама из колена Ефремова и составили особое
царство, которое стало называться Израильским. Два колена – Иудино и
Вениаминово – остались у Ровоама и образовали царство Иудейское. Столицей
Иудейского царства остался Иерусалим, а столицей Израильского стал город
Самария. В великие праздники жители Израильского царства ходили на поклонение
Богу в Иерусалимский храм. Тогда царь Иеровоам, боясь, что его подданные
сблизятся с иудеями и присоединятся к Иудейскому царству, поставил в двух
городах своего царства (Дане и Вефиле) двух золотых тельцов и объявил народу:
«Не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя
из земли Египетской». И весь народ израильский стал вместо истинного Бога
поклоняться идолам. Все цари Израильского царства после Иеровоама тоже были
идолопоклонниками.
[647] Неизвестная земля (лат.).
[648] Для решения проблемы требуется практический
опыт (дословно «ходьба») (лат.). Выражение связано со знаменитым доводом
древнегреческого философа Антисфена, который, чтобы возразить как‑то на
утверждение представителей элейской школы о невозможности движения, якобы встал
и начал молча ходить.
[649] Тойнби имеет в виду произведение, известное в
рус. пер. как «Поучение Хети, сына Дуафа, своему сыну Пепи» (а не «Поучение
Дуафа, сына Хети», как в оригинале у Тойнби). Далее текст поучения цитируется в
пер. Н. С. Петровского.
[650] Мандарин (португ. mandarim <санскр.
mantrin – «советник»>) – европейское название крупных чиновников в Китайской
империи.
[651] Тутмос III правил в 1490‑1436 (фактически с
1468) гг. до н. э. Став самостоятельным правителем, он вел тяжелые
завоевательные войны, в результате которых восстановил господство Египта в
Сирии и Палестине. При нем Египет превратился в могущественную мировую державу,
за достигнутые при нем рубежи (как на севере, так и на юге, в Нубии, где
владения его простирались вплоть до четвертого нильского порога) не вышел ни
один из его преемников.
[652] Хвастливый воин (лат.).
[653] «He бывает страны без чести, разве только в
пророках своих».
[654] Первый колесный пароход «Клермонт» был
построен в 1807 г. в Северной Америке американским изобретателем Робертом
Фултоном (1765‑1815).
[655] Далее Тойнби излагает историю поединка между
Давидом и Голиафом, как она изложена в Первой книге царств (I Цар. 17, 4‑
51).
[656] С головы до ног (фр.).
[657] Тиртей –древнегреческий поэт‑лирик. По
преданию, хромой школьный учитель, посланный афинянами в Спарту взамен
требуемой военной помощи и сумевший во время 2‑й Мессенскои войны (VII в. до н.
э.) своими песнями поднять боевой дух спартанцев. Тиртей являлся автором
коротких боевых песен и маршей (эмбатериев), написанных анапестом. Ему
принадлежат также пять книг элегий, из которых сохранилась лишь часть.
[658] Внезапная перемена, неожиданное несчастье (греч.).
[659] Тразименское озеро – озеро на востоке
Этрурии, западнее города Перусия (современная Перуджа). Во время 2‑й Пунической
войны Ганнибал устроил засаду на дороге по берегу Тразименского озера, по
которой двигались римские воинские колонны во главе с консулом Гаем Фламинием.
Римляне попали в окружение и были разбиты, погиб и сам Фламиний (весна 217 г.
до н. э.).
[660] В 53 г. до н. э. у города Карры на северо‑западе
Месопотамии парфяне разгромили войско римского полководца Марка Лициния Красса.
Римской пехоте парфяне противопоставили тяжелую конницу (всадник и лошадь были
покрыты кольчугой) и конных стрелков из лука. Когда римляне развернули свои ряды
и пытались пойти в наступление, парфянская конница отступила, но засыпала
римлян тучами стрел. Битва превратилась в побоище. К вечеру Красе отошел к
Каррам, где римская армия раскололась на части. Лишь около 10 тысяч из 40 тысяч
воинов римской армии вернулось после этого похода в пределы римской провинции,
а сам Красе был вероломно убит парфянами.
[661] В 48 г. до н. э. армия Цезаря одержала победу
близ города Фар‑ сала в Фессалии над войсками Помпея, которые почти в два раза
превосходили по численности своего противника. Объективные показатели
численного преимущества и материального обеспечения отступили в этой битве
перед талантом полководца, организованностью и стойкостью его воинов. Цезарю
удалось разгадать план Помпея: удар всей массы конницы по правому флангу, чтобы
опрокинуть его и зайти в тыл основной части легионов Цезаря. Цезарь вопреки
имеющимся тогда правилам сконцентрировал на направлении главного удара конницы
лучшие когорты легионной пехоты, которые во взаимодействии со своей кавалерией
не только выдержали страшный удар конницы Помпея, но и опрокинули ее и обратили
в бегство. Хлынувшая назад конница смела собственные легионные порядки, а удар
преследующих цезарианских когорт довершил дело. Левый фланг Помпея был смят,
после чего дрогнул весь фронт и началось повальное бегство.
[662] Около фракийского города Адрианополя в 378 г.
вестготы в кровопролитной битве полностью разбили римские войска под
предводительством императора Валента, погибшего в сражении. Этой победой готы
открыли себе путь на Балканы.
[663] Аммиан Марцеллин (330 – кон. IV в.) –
римский историк, родом из Лнтиохии (Сирия). Служил при Константине II в
императорской лейб‑гвардии и участвовал в 363 г. в походе Юлиана Отступника в
Персию. Принадлежал к неоплатоникам, примыкавшим к ритору Либанию, совершал
далекие путешествия и жил с 80‑х гг. IV в. в Риме. Здесь им был написан труд
«Книга деяний от правления Нервы». Из 31 книги сохранились последние 18,
содержащие историю 353‑378 гг. от Рождества Христова и написанные крайне
напыщенным языком.
[664] Байенский гобелен – великолепный
образец прикладного искусства раннего средневековья – 70‑метровый гобелен XI
в., на котором вышиты основные эпизоды завоевания Англии норманнами.
Изготовление этого громадного гобелена, хранящегося в городе Байе на севере
Франции, приписывают жене Вильгельма Завоевателя английской королеве Матильде.
[665] Browne E.G. A Literary History of
Persia. London, 1902‑24. Vol. II. P. 462. Браун цитирует Фалах‑ад‑дина
Мухаммеда, урожденного Айдимира, по книге «Китаб‑аль‑Фахри» Ибн‑ат‑Тиктаки.
[666] Бродяга, грабитель, флибустьер (тюрк.).
Отсюда впоследствии произошло слово «казак».
[667] Хулагу‑хан (ум. 1265) – монгольский
хан, внук Чингисхана, основатель династии ильханов («владык народа»), правившей
в 1256 – сер. XIV в. в феодальном государстве Хулагуидов, включавшем Иран,
большую часть современной территории Афганистана, Туркмении, Закавказья, Ирака,
восточную часть Малой Азии.
[668] Французский король Людовик IX Святой (1214‑1270;
правил с 1226) возглавил Седьмой (1248) и Восьмой (1270) крестовые походы.
Здесь имеются в виду события Седьмого крестового похода, когда у египетского
города Мансуры мамлюками была перебита армия крестоносцев, а сам Людовик IX
захвачен в плен (1250).
[669] Креси (Креси‑ан‑Понтьё) – селение в
северной Франции, около которого 26 августа 1346 г., во время Столетней войны,
войска английского короля Эдуарда III благодаря действиям лучников разгромили
армию французского короля Филиппа VI.
[670] См. часть 1, прим. 45.
[671] Махди Суданский, Мухаммед Али (1844‑1885)
– вождь освободительного движения в Судане (восстания махдистов). Основатель
суданского Махдистского государства. Восстание махдистов 1881‑1898 гг. было
направлено против турецко‑египетских властей и английских колонизаторов. После
смерти Махди Суданского восстание возглавил Абдаллах ион аль‑Саид Мухаммед. В
ходе восстания махдисты заняли большую часть страны и создали независимое
феодально‑теократическое государство. В Омдурманском сражении 2 сентября 1898
г. армия махдистов была разгромлена английскими войсками. Судан стал фактически
английской колонией.
[672] Народное ополчение (фр.).
[673] «Линия Мажино» – система французских
укреплений (строилась в 1929‑1934 гг.; совершенствовалась до 1940 г.) на
границе с Германией от Бельфора до Логюйона, длиной около 380 км. Названа по
имени военного министра, генерала А. Мажино. В 1940 г. немецко‑фашистские
войска вышли в тыл «линии Мажино» и ее гарнизон капитулировал.
[674] «Западный вал» («линия Зигфрида»,
позиция «Зигфрид») – система германских долговременных пограничных укреплений,
возведенных в 1936‑1940 гг. на западной границе Германии (от города Клеве до
района Базеля).
[675] Пресыщение, необузданность, умопомрачение (древнегреч.).
[676] «К человеку» (лат.). Так говорится о
чем‑либо предназначенном повлиять на чувства, впечатления, но не имеющем
объективного значения.
[677] Тойнби имеет в виду события из персидской
истории. Сын персидского царя Дария II Кир Младший поднял в Малой Азии
восстание против своего старшего брата царя Артаксеркса II, пытаясь захватить
престол. Кир собрал большое войско. Его решили поддержать спартанцы,
содействовавшие в наборе греческих наемников. В 401 г. до н.э. Кир со своим
войском двинулся из Сард в Малой Азии в Вавилонию и, не встретив никакого
сопротивления, добрался до местности Кунакса на Евфрате в 90 км от Вавилона.
Там же находилась армия персидского царя. Решающая битва произошла 3 сентября
401 г. В этом сражении Кир был убит, а мятежная армия, лишившись своего вождя,
потерпела поражение. 13‑и тысячам греческих наемников, служивших Киру Младшему,
ценой больших усилий и потерь весной 400 г. удалось добраться до Черного моря,
пройдя через Вавилонию и Армению.
[678] Имеется в виду древнегреческий историк и
писатель Ксенофонт Афинский (420‑425 гг. до н. э.), принимавший участие в
походе Кира Младшего против Артаксеркса II. Ксенофонт описал поход греческих
воинов «вверх» от морского побережья во Внутреннюю Азию и их возвращение «вниз»
в 400‑399 гг. до н. э. в своем знаменитом историческом произведении «Анабасис» (греч.
– «восхождение»).
[679] До последней степени; вовсю (фр.).
[680] Для противостояния ассирийскому царю
Салманасару III (858‑ 824 гг. до н. э.) цари Сирии, Палестины и Финикии
объединились вокруг дамасского царя Ададидри. Его союзниками были царь Хамы,
царь Израиля, царь Адада, царь Сиены, царь арабов и царь Киликии. На помощь
союзникам отправил тысячу воинов и египетский фараон. Общая численность союзной
армии достигала 60 тысяч человек. Ожесточенная битва союзной армии с
ассирийцами произошла в 854 г. до н. э. у стен Каркара на Оронте. Несмотря на
хвастливые сообщения Салманасара о своей победе, она, по‑видимому, закончилась
безрезультатно.
[681] Самые ранние упоминания о стране «Уруатри» и
об урартах, принадлежавших по своему языку к хурритскому этносу, содержатся в
ассирийских источниках XIII в. до н. э. Начиная с Салманасара I, против них
совершали походы многие ассирийские цари. В борьбе с Ассирией племена урартов
постепенно сближались друг с другом. В IX в. до н. э. из их союза образовалось
централизованное государство со столицей Тушпа на берегу озера Ван. Первые
урартские правители вели упорные войны с ассирийским царем Салманасаром III.
Расцвет государства Урарту приходится на конец IX – первую половину VIII в. до
н. э. (цари Менуа, Аргишти I, Сардури II). В конце VII – начале VI в. до н. э.
Урарту находилось в состоянии упадка и около 590 г. до н. э. было завоевано
Мидией.
[682] Тиглатпаласар III (ум. в 727 г. до н.
э.) – царь Ассирии в 745‑727 гг. до н. э. Свою деятельность начал с коренной
реорганизации военного дела (создание крупной регулярной наемной армии,
введение однотипного вооружения, разделение по родам оружия, широкое
использование боевых колесниц и конницы, использование различных осадных машин
и т. д.). Завоевания Тиглатпаласара III открываются походом 743 г. до н. э.
против царя Урарту Сардури II. Урарты были разбиты и бежали в горы. Вся северо‑западная
часть страны была присоединена к Ассирии. В 738 г. до н. э. захвачен сирийский
город Арпад вместе с 18 другими городами. В 735 г. до н. э. совершен новый
поход в глубь Урарту, в результате которого все земли царя Сардури II в
верховьях и у истоков Тигра отошли к Ассирии. В 734 г. до н. э. Тиглатпаласар
возобновил войну на западе, где победил выступивших против него царей Дамаска и
Израиля. Вся северная часть Израиля была отторгнута, а население уведено в
плен. В 732 г. до н. э. был взят Дамаск, финикийские города Тир и Сидон
добровольно покорились ассирийцам. Незадолго до своей смерти, в 729 г. до н.
э., Тиглатпаласар захватил Вавилонию и провозгласил себя ее царем под именем
Пулу.
[683] Имеется в виду Саргон II (Шаррумкен)
(ум. в 705 г. до н.э.) – царь Ассирии в 722‑705 и Вавилонии в 710‑705 гг. дон.
э. В первый же год своего правления взял израильскую столицу Самарию, пленив
царя Гошеу и разгромив всю страну. Упорное сопротивление Сар‑ гону оказал
финикийский город Тир. Добиться победы ассирийцам удалось только в 719 г. до н.
э., после трехлетней тяжелой осады. В 720 г. Саргон разгромил у Рафии царя Газы
Ганнона, на помощь которому пришли египетские войска (первое военное
столкновение Ассирии и Египта). Тогда же был побежден Писириса, царь Кархемыша
на Евфрате, а его страна превращена в ассирийскую провинцию. Следующие годы
прошли в упорных войнах с царем Урарту Русой I. В результате восьмого похода
(714 г. до н. э.) было окончательно сокрушено военное могущество Урарту. В 710
г. до н. э. Саргону удалось вернуть власть над Вавилонией, утраченную в самом
начале его правления. Границы Ассирии при Саргоне простирались от Средиземного
моря до Персидского залива. В 705 г. до н. э. Саргон погиб во время похода на
Табол.
[684] Синаххериб (ум. в 681 г. дон. э.) –
царь Ассирии в 705‑681 и Вавилонии в 705‑703 гг. до н. э., сын Саргона II. Все
его царствование прошло в многочисленных войнах. Сразу после смерти Саргона II
от Ассирии отпали Вавилония, Сирия, Финикия и Палестина. За этими мятежами
стояли давние враги Ассирии – Египет и Элам. В 703 г. до н. э. Синаххериб
разбил у Киша захватившего вавилонский престол халдейского князя
Марудкаплаиддина II и его союзника – эламского царя. Свой второй поход царь
направил против страны Кашшу в самой неприступной высокогорной части Загроса. В
701 г. до н. э. Синаххериб выступил с войском против иудейского царя Хизекии и
наголову разгромил пришедшую на помощь иудеям египетскую армию. Лишь
вспыхнувшая в ассирийском войске эпидемия чумы и новое восстание в Вавилонии
заставили Синаххериба заключить мир с Хизекией. В 700 г. до н. э. Синахерриб во
второй раз взял Вавилон и посадил на престол своего сына. В последующие годы он
вел войны на северо‑западе, в Киликии и Каппадокии, а в 694 г. до н. э. стал
готовиться к войне с Эламом, которая продолжалась до 690 года и завершилась
опустошением этой страны. В 689 г. до н. э. Синаххериб осадил Вавилон и после
упорного боя захватил город. Разгневанный царь велел разрушить Вавилон до
основания, а затем затопить место, на котором он стоял.
[685] Асархаддон (ум. в 669 г. до н. э.) –
царь Ассирии и Вавилонии в 681‑669 гг. до н. э., сын Синаххериба. Его политика
во многом отличалась от политики его отца. Он был мягче и старался по
возможности избегать открытого насилия, прибегая к дипломатии. Взойдя на
престол, он приказал вновь отстроить и заселить Вавилон, стертый с лица земли
его отцом. Продолжая завоевательные войны своих предшественников, Асархаддон
предпринял трудный поход в Аравию. Затем последовал стремительный поход на
отпавший от Ассирии Сидон. Город был взят, укрепления его разрушены, а царь
казнен. В 671 г. до н. э. Асархаддон начал войну против давнего врага Ассирии –
египетского фараона Тахарки. Не дожидаясь ассирийцев, Тахарки бежал на юг
страны, а вся долина Нила вплоть до Фив покорилась Асархаддону и стала
ассирийской провинцией. Однако едва царь отправился в Ниневию, Тахарка опять
захватил Мемфис. Асархаддон вернулся, во второй раз разбил египтян и незадолго
до своей кончины опять покорил весь Нижний Египет до Фив включительно.
[686] Ашшурбанипал (ум. ок. 627 г. дон. э.) –
царь Ассирии в 669‑ 630 и Вавилонии в 647‑627 гг. до н. э., сын Асархаддона.
Когда отец внезапно умер, Ашшурбанипал поспешил в Египет и подавил здесь в 667
г. до н. э. очередное антиассирийское восстание. В 661 г. до н. э. эфиопский
царь Танутамон попытался вернуть контроль над Египтом и изгнал из Мемфиса
ассирийский гарнизон. Ашшурбанипалу пришлось вновь завоевывать страну. Он взял
Мемфис, а потом отобрал у эфиопов Фивы, которые при этом были сильно разрушены.
Однако в 655 г. до н. э. Псамметих I, которому было поручено управлять Египтом,
сумел добиться независимости. Ашшурбанипал не мог выступить против него, так
как вел тяжелую борьбу на востоке своего государства. Ашшурбанипал был
последним великим царем Ассирии. После его смерти страна быстро погрузилась в
пучину кризиса, завершившегося ее распадом и гибелью.
[687] То есть решением трудновыполнимой задачи. В «Метаморфозах»
Апулея излагается поэтическая сказка об Амуре и Психее. После того как Психея
нарушила запрет никогда не видеть лица своего загадочного супруга, Амур
исчезает, и Психея должна вернуть его себе, пройдя множество испытаний.
Преодолев их и даже спустившись в Аид за живой водой, Психея после мучительных
страданий вновь обретает Амура.
[688] Псамметих I – фараон Египта из XXVI
династии, правивший в 664‑610 гг. до н. э. В 661 г. до н. э. защищал вместе с
ассирийцами от эфиопов Мемфис. Когда Мемфис пал, Псамметих бежал в Ассирию,
вернулся вместе с царем Ашшурбанипалом и вновь стал править в Нижнем Египте.
Вскоре восстания в Азии отвлекли ассирийцев от Египта, их власть постепенно
слабела. Установив контакт с лидийским царем Гигом, который в 654 г. до н. э.
послал ему на помощь отряды своих карийских и ионийских наемников, Псамметих
изгнал из Египта ассирийские гарнизоны и подчинил себе других египетских князей
Дельты. Затем он совершил поход на юг и взял Фивы. Таким образом, после многовековой
раздробленности Египет вновь объединился. Воспользовавшись ослаблением Ассирии,
Псамметих начал завоевания в Палестине, однако продвижение египтян на север
остановили вторгшиеся в Азию скифы.
[689] Набопаласар (ум. в 605 г. до н. э.) –
царь Нововавилонской династии, правивший в 626‑605 гг. до н. э. По
происхождению – халдейский князь. С 630 г. до н. э. был ассирийским наместником
Приморья (области, прилегавшей к Персидскому заливу). В 626 г. до н. э.
возглавил восстание против ассирийцев и был провозглашен царем. Заняв
вавилонский престол, заключил военный союз с царем Мидии Киаксаром, однако их
действия долгое время оставались несогласованными. После ряда военных неудач
Набопаласару наконец удалось не только изгнать врагов из пределов Вавилонии в
621 г. до н. э., но и перенести в 615 г. войну на вражескую территорию. После
того как Набопаласар и Киаксар заключили новый договор о разделе Ассирийской
державы, скрепив его династическим браком, Ассирия была побеждена, а ее столица
Ниневия разграблена (612 г. до н. э.).
[690] Весной 607 г. до н. э. престарелый больной
царь Набопаласар передал командование вавилонской армией своему сыну
Навуходоносору. Перед ним стояла задача захватить Сирию и Палестину,
оккупированные египетским фараоном Нехо. Но сначала надо было овладеть городом
Кархемиш на Евфрате, где находился сильный египетский гарнизон и остатки
отрядов последнего ассирийского царя Ашшурубаллита II. Весной 605 г. до н. э. вавилонское
войско перешло Евфрат и одновременно с юга и севера напало на Кархемиш.
Жестокая битва началась еще за городскими стенами, и скоро город превратился в
пылающие руины. Египетский гарнизон вместе с остатками ассирийской армии был
уничтожен до последнего человека, а большая часть Сирии и Палестины без
сопротивления подчинилась вавилонянам. Таким образом, в битве при Кархемише
потерпела окончательное поражение первая в истории человечества мировая
держава.
[691] После трехмесячной осады Ниневии союзники
применили военную хитрость: они отвели в сторону воды реки Хицур и внезапно
ворвались в Ниневию по руслу реки через речные ворота. Город пал и подвергся
разграблению и полному разрушению (август 612 г. до н. э.).
[692] Левктры – город в Беотии, юго‑западнее
Фив. Здесь фиванское войско под командованием Эпаминонда в 371 г. до н. э.
нанесло поражение считавшейся непобедимой армии Спарты, применив тактику
«косого клина». Тем самым была обеспечена гегемония Фив.
[693] Вошедшая в поговорку пара котов из ирландского
города Килкенни, которые дрались до тех пор, пока от них не остались одни
хвосты.
[694] Лисимах (ок. 360‑281 гг. до н. э.) –
военачальник и один из телохранителей Александра Македонского, диадох. С 305 г.
до н. э. – царь Фракии, которая досталась ему при разделе империи Александра
Македонского вместе с частью Малой Азии. Провозгласив себя царем, Лисимах не
только создал самостоятельное государство, но и способствовал становлению
других эллинистических государств. В войне против диадоха Деметрия и эпирского
царя Пирра он обеспечил свое господство над Македонией, частью Балканского
полуострова и западными областями Малой Азии. Погиб в битве с войсками Селевка
при Курупедионе.
[695] Пипин Короткий (ум. 768) – король
франков с 751 г., сын мажордома Карла Мартелла. После смерти отца получил во
владение Нейстрию, Бургундию и Прованс. Первоначально управлял франками
совместно со старшим братом Карломаном, но после того, как тот ушел в 747 г. в
монастырь, остался единоличным правителем (мажордомом). Являясь фактическим
правителем франков, Пипин сверг в 751 г. последнего короля из династии
Меровингов и основал династию Каролингов.
[696] В конце 753 г. римский папа Стефан II,
теснимый в Италии лангобардским королем Айстульфом, отправился за Альпы, чтобы
лично умолять короля франков о помощи. Пипин торжественно поклялся исполнить
его желание и возвратить папе земли, отнятые у него Айстульфом. Желание Пипина
начать войну в Италии поначалу сильно не понравилось франкским вельможам,
однако они в конце концов должны были уступить. В июне 754 г. франки вступили в
альпийские проходы и нанесли лангобардам серьезное поражение. Разбитые войска
лангобардов отступили в Павию и были в ней осаждены. Вскоре Айстульф принужден
был принять условия Пипина. Но едва Пипин в декабре 754 г. перешел обратно за
Альпы, Айстульф пренебрег всеми обещаниями и снова напал на Рим. В 756 г. Пипин
во второй раз вторгся в Италию, и Айстульф снова был разбит и вынужден был
принять условия еще более унизительные, чем прежние. Все области по восточному
побережью Италии от Равенны до Анконы, ранее принадлежавшие Византии, были
отобраны у лангобардов и переданы папе.
[697] Фактически (лат.).
[698] Пипин Короткий, являвшийся фактическим
правителем франков, желая довершить дело своих предков и закрепить франкский
престол за своим потомством, в 751 г. отправил к папе Захарию епископа
Вюрцбургского и аббата Сен‑Дениского с запросом: справедлива ли такая система
управления, при которой королем называется тот, кто не пользуется королевской
властью? Захария отвечал, что королем должен быть тот, кому принадлежит
королевская власть. В ноябре того же года Пипин собрал в Суассоне общее
собрание франков, которое избрало его королем, а законный король Хильдерик III
(последний из Меровингов), постриженный в монахи, отправился в Сенбертенский
монастырь. В мае 752 г. Пипин торжественно короновался и, по примеру древних
израильских царей, был помазан на царство св. Бонифацием.
[699] Джагатайский (Чагатайский) улус –
наследственное владение монгольских ханов из рода Джагатая (Чагатая) (ум.
1242), второго сына Чингисхана и участника большинства его походов. Выделился
из Монгольской империи в 1224 г. и включал в себя среднеазиатские земли
(Мавераннахр, Семиречье) и Кашгар. К середине XIV в. распался на ряд феодальных
владений.
[700] Улус Джучи – наследственное владение
монгольских ханов из рода Джучи (ум. ок. 1227), старшего сына Чингисхана и
участника завоевания Китая и Средней Азии. Выделился в 1224 г. и включал в себя
западные части Монгольской империи. С 1240‑х гг. – Золотая Орда.
[701] Сефевиды – династия шахов Ирана в 1502‑1736
гг. Основатель – Исмаил I, потомок шейха ордена Сефевие Сефи ад‑дина Исхака, по
имени которого названа династия. Выступление в конце XV в. последователей
ордена Сефевие во главе с Исмаилом I против государства тюрков‑огузов Аккоюнлу
закончилось образованием государства Сефевидов. Государство Сефевидов было
феодальной деспотией. Важнейшие представители династии: Исмаил I (1502‑1524),
Тахмасп I (1524‑1576), Аббас I (1587‑1629).
[702] Роджер II Сицилийский (1095‑1154) –
король Сицилии из рода Готвилей (1130‑1154), сын гроссграфа Роджера,
завоевателя Сицилии. Получив семнадцати лет отроду в управление сицилийские
владения, заботился о расширении пределов своего государства. Сочетая тонкую
дипломатию с применением военной силы, Роджер сумел объединить под своей
властью владения норманнов в Сицилии и Южной Италии.
[703] Палетка Нармера – один из самых ранних
памятников искусства Древнего Египта, знаменитая победная каменная плита
фараона Нармера, выточенная из зеленовато‑сероватого шифера (рубеж IV‑III
тысячелетий до н. э.). Рельефы, выполненные на обеих сторонах плиты,
символически образно сообщают о важнейшем историческом событии – победе Южного
Египта над Северным и слиянии их в единое царство. Это событие ознаменовало
начало трехтысячелетней истории древнеегипетского государства.
[704] В 1046 г. в Риме было одновременно трое пап, враждовавших
друг с другом: Бенедикт IX, Сильвестр III и Григорий VI. Император Священной
Римской империи Генрих III, прибыв в Италию, собрал в Сутри церковный собор, на
котором Сильвестр и Григорий, незаконно занявшие папский престол и виновные в
симонии, были низложены. Впрочем, прибыв в Рим, Генрих созвал еще один собор,
на котором был низложен и Бенедикт, а римским папой стал епископ Бамбергский
Свидгер, принявший имя Климента II. Немедленно после своего рукоположения
Климент короновал Генриха и его жену императорской короной. Тогда же было
восстановлено старое правило, согласно которому пап будут избирать не иначе как
по воле императора.
[705] Христианская республика (лат).
[706] Цезарепапизм – выражение, возникшее в
XVIII в. как определение позднеримской церковной системы. Позднее оно обозначало
главенствующую духовную роль государства в Церкви.
[707] Гиральд Камбрийский (ок. 1146‑1223) –
английский писатель и ученый, по происхождению валлиец, воспитатель принца
Джона (будущего короля Англии Иоанна Безземельного). Известны его сочинения по
истории и географии Ирландии и Уэльса, сатира «Зерцало Церкви», направленная
против монахов и церковников, автобиография «Об усердных деяниях Гиральда».
[708] Папское государство (иначе – Церковная
область) в Средней Италии существовало с 756 по 1870 г. Во главе этого
теократического государства стоял римский папа. Начало Папскому государству
положил франкский король Пипин Короткий, подаривший папе территорию бывшего
Равеннского экзархата. В 1861‑1870 гг. территория Папского государства вошла в
состав Итальянского королевства.
[709] Применив насилие (лат.).
[710] Избранный в 1243 г. римским папой, Иннокентий
IV (1243‑1254) продолжал борьбу своих предшественников против императора
Священной Римской империи Фридриха II. Удалившись в Лион, он собрал там в 1245
г. собор, проклял на нем Фридриха как еретика и святотатца и объявил его
лишенным престола, предложив германцам и сицилийцам выбрать нового государя.
Среди борьбы с Иннокентием IV Фридрих II умер в 1250 г. Иннокентий, узнав об
этом, с восторгом объявил о его смерти всему миру как о событии, радостном для
неба и земли.
[711] «Третьи – радующиеся» (лат).
[712] Бонифаций VIII (ок. 1235‑1303) –римский
папа с 1294 г. Притязал на верховенство над светскими государями. Вел борьбу с
французским королем Филиппом IV, в 1303 г. проклял его, наложил на Францию
интердикт и отрешил все французское духовенство. Однако вскоре был арестован
посланцами Филиппа в итальянском городке Ананьи. С папой обращались так грубо и
жестоко, что он, освобожденный через три дня жителями Ананьи, по возвращении в
Рим сошел с ума и скончался.
[713] Филипп IV Красивый (1268‑1314) –
французский король с 1285 г. Расширил территорию королевского домена. Захватил
в 1300 г. Фландрию, но потерял ее в 1302 г. в результате восстания фландрских
городов. Поставил папство в зависимость от французских королей (Авиньонское
пленение пап). Созвал первые Генеральные штаты (1302). Добился от папы
упразднения в 1312 г. ордена тамплиеров.
[714] В 1305 г. римским папой был выбран француз,
принявший имя Климента V (1305‑1314). Филипп Красивый взял с нового папы клятву
аннулировать все распоряжения Бонифация VIII относительно него, осудить
Бонифация и уничтожить орден тамплиеров. Опасаясь встретить неприятности в Риме
за свою уступчивость Франции, Климент решился остаться во Франции навсегда,
вызвал туда кардиналов и в 1309 г. утвердил свое местопребывание в Авиньоне.
Здесь папы находились до 1377 г., и это почти семидесятилетнее пребывание их в
Авиньоне известно в истории под именем Авиньонского пленения пап. Авиньонские
папы, начиная с Климента V, стали в полную зависимость от французских королей и
действовали под их влиянием. В то же время почти все они вели жизнь, недостойную
звания верховных первосвященников, чем еще более ослаблялось их влияние.
[715] Со смертью папы Григория XI (1378) в Римской
церкви начался так называемый Великий раскол (период, продолжавшийся с 1378 по
1417 г., когда папский престол одновременно занимали двое или трое боровшихся
между собою пап). Поскольку в папской курии большинство кардиналов составляли
французы, приехавшие из Авиньона, то они настаивали на избрании в папы
француза, но римский народ требовал, чтобы папой был римлянин. Наконец был
выбран итальянец Урбан VI (1379‑1389), человек крутого и даже жестокого
характера. Новый папа начал свое правление с исправления нравов клира, затронув
и кардиналов. Оскорбленные этим французские кардиналы, захватив папские
драгоценности, ушли из Рима, объявили избрание Урбана недействительным и
выбрали своего папу Климента VII (1379‑1394), который вскоре поселился в
Авиньоне. Климента признали Франция, Неаполь и Испания, Урбана – остальные
государства. Таким образом, в Римской церкви началось двоевластие. Конец
«Великому расколу» положил Констанцский собор 1414‑1418 гг., устранивший трех
пап и избравший нового папу (Мартина V).
[716] При английском короле Эдуарде III были приняты
законы («Statute of Provisors», 1351 г.) и «Statute of Praemunire», 1353 г.),
положившие конец ленной подати папам и отменявшие апелляцию в Рим.
[717] Английский король Генрих VIII (1509‑1547) из
династии Тюдоров, который прежде был добрым католиком и сам написал
опровержение против Лютера в 1521 г., обратился в 1527 г. к папе Клименту VII с
просьбой о разводе со своей женой Екатериной Арагонской. Папа под влиянием
императора Карла V после долгих проволочек отказал ему в этом. Тогда Генрих
решился не только обойтись без папы в деле о браке, но и совсем уничтожить его
власть в Английской церкви. В 1533 г. по его распоряжению английский парламент
издал закон о независимости Англии от папы в церковных делах. Верховенство папы
в английских церковных делах перешло к королю, который в 1534 г. формально и
торжественно объявил себя главой Английской церкви.
[718] Град Божий (лат.).
[719] Вскоре после своего вступления на престол папа
Григорий VII решительно взялся за уничтожение инвеституры (права светских
владетелей раздавать духовные должности). В 1075 г. он провел на соборе
запрещение инвеституры. Было постановлено духовных лиц, получивших свои
должности от светских владетелей посредством инвеституры, низлагать, а светских
владетелей, производящих инвеституру, отлучать от Церкви. На том же соборе
запрещено было священникам вступать в брак. По мнению Григория, безбрачие
священников лишало духовное лицо родственных связей с окружающим миром и должно
было сделать его более ревностным служителем Церкви. Борьба против инвеституры
подрывала ленную зависимость церковных земель – епископ, аббат и священник
должны были являться церковными пастырями, а не вассалами короля или князя.
[720] Государство в государстве (лат.).
[721] Христианский народ (лат.).
[722] После того как папа Григорий VII отлучил от
Церкви германского императора Генриха IV и разрешил от присяги его подданных,
последний вынужден был зимой 1077 г. отправиться с небольшой свитой в Италию.
Папа находился в это время в Каноссе, замке его верной сторонницы маркграфини
тосканской Матильды. Прибыв туда, Генрих не был впущен в замок. Он отправил к
папе послов, которым поручил принести от его имени повинную, выразить согласие
на требования папы и выхлопотать снятие отлучения. Папа заставил Генриха дожидаться
три дня решения перед стенами замка в одежде кающегося и с босыми ногами, не
принимая пищи. Папа простил его, но под тем условием, чтобы его дело было
разобрано германскими князьями на сейме.
[723] При папе Каллисте II (1118‑1124) на сейме в
Вормсе папой был заключен выгодный для него договор с императором Генрихом V и
германскими князьями. В 1122 г. на основании Вормского конкордата папе как
духовному лицу была предоставлена духовная инвеститура, то есть право избирать
и посвящать епископов и аббатов, согласно церковным канонам, вместе с вручением
им кольца и жезла. Императору как светскому главе была предоставлена
инвеститура светская, то есть право раздавать тем же епископам и аббатам
княжеские права, владения и прочее, беря с них ленную присягу.
[724] Хорошо известный римско‑католический писатель
однажды заметил в частной беседе (и по этой причине его имя нельзя здесь
назвать): «Я верю, что католическая Церковь – Божественна, и доказательство ее
Божественного происхождения я вижу в следующем: чисто человеческий институт,
управляемый с таким мошенническим слабоумием, не просуществовал бы и двух
недель» (Прим. Д. Ч. Сомервелла).
[725] «Раб рабов Божиих» (лат.). Наименование
римских пап в папских указах.
Комментарии
Отправить комментарий
"СТОП! ОСТАВЬ СВОЙ ОТЗЫВ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!"